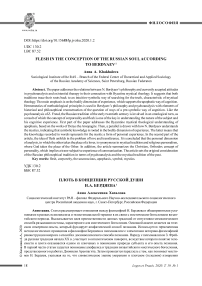Плоть в концепции русской души Н.А. Бердяева
Автор: Хахалова Анна Алексеевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья рассматривает отношения между философией Н. Бердяева и общепринятыми установками в рамках психоанализа и экзистенциальной терапии в их связи с мистическим богословием византийского периода. Высказывается идея преемственности данных традиций от интуитивно-символического способа разыскания истины, характерного для мистического богословия. Основной акцент делается на телесном измерении опыта, который фундирует апофатический способ познания. Используется герменевтика методологических принципов в философии Бердяева и психоанализе с элементами историко-философской реконструкции вопроса о способах досимволического способа познания. Наряду с психоанализом З. Фрейда русская традиция начала ХХ в. участвует в онтологическом повороте, вследствие которого понятие телесности и плоти оказывается одним из ключевых в понимании природы субъекта и его опыта познания. В первой части статьи задается понимание апофасиса в традиции византийского мистического богословия, представленного в работах Дионисия Ареопагита. Затем проводится параллель с тем, как понимает мистиков Н. Бердяев, указывая на то, что символическое знание укоренено в плотском (телесном) измерении опыта. Последнее означает, что знание, записанное в словах, представляет для мистика форму личного опыта. Во второй части статьи идея плоти разворачивается в проблему любви и переноса. Делается вывод о том, что личностное измерение анализа, в котором другой занимает место возлюбленного, синонимично представлено в мистической традиции и религиозном персонализме, где место другого занимает Бог. Кроме того, в статье резюмируется христианское, православное представление о личности, которое подразумевает транссубъективный опыт общения. Статья задает оригинальное рассмотрение русской философской традиции с точки зрения психоанализа и мистической традиции прошлого.
Плоть, телесность, бессознательное, апофасис, символ, мистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149131902
IDR: 149131902 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2020.1.2
Текст научной статьи Плоть в концепции русской души Н.А. Бердяева
DOI:
Помимо временного промежутка – начало ХХ в. – психоанализ и философию Н.А. Бердяева объединяют общие методологические положения, которые дают основания для характеристики этих двух традиций в качестве постклассических. Во многом «новая онтология» исходит из смещения внимания с предмета исследования на метод и фигуру исследователя, в результате чего онтология бытия выстраивается как онтология самобытия, а значит, самосознания (самопознания). Соответственно, практика самоанализа входит в конституциональную привычку мыслителя постклассики. Несомненно, русская традиция мыслить обретает свои черты в экзистенциально нагруженном опыте самодопрашивания, доискивания (до) правды о себе в контексте поиска ответа на вопрос об истине слова. Николай Бердяев являет в своем творчестве пример подобного опыта «русских вопросов», в которых оригинальным образом оказываются связанными вопросы о Боге и свободе, о социальном будущем страны и всего мира, о личном счастье и истине как таковой. Возможно, поэтому многие европейские интеллектуалы отмечали в русской культуре особое чутье к диалектике смерти и эроса [Crone 2010]. В частности, в этой диалектике участвует плоть и телесное измерение опыта познания и любви. Целью данной статьи является раскрытие понятия плоти и телесности в философии Бердяева через его собственную психоаналитическую интуицию и реконструкцию его идей в контексте византийского мистического богословия. В качестве методов используются герменевтика и историко-философская реконструкция вопроса о любовном измерении опыта познания. В результате исследования показано, что пси- хоанализ не избегает религиозности, разделяя методологические и гносеологические принципы с русской религиозной традицией в лице Н. Бердяева. Также становится очевидной преемственность между этими двумя традициями и мистическим богословием, в рамках которого телесное измерение способствует эротизации мистического опыта общения человека с Богом.
По ту сторону символа
Как кажется, психоанализ не оставляет место религии как тому аспекту опыта, где обитает истина о себе. З. Фрейд, продолжая стратегию подозрения Ф. Ницше, выводит на свет невротические механизмы религиозного чувства, связанные психическим конфликтом между желанием и требованием. Тем не менее нельзя не заподозрить за столь ярким неприятием всякого рода религиозного сознания скрытые каналы разрядки бессознательного конфликта самого основателя психоанализа. Помимо этого, сама практика психоаналитического дискурса указывает на некоторого рода мистификацию субъекта в лице аналитика, характерную для религиозного сознания. Так, одним из составляющих скрытого нете-тического религиозного сознания З. Фрейда является иудаизм, присутствовавший фоном в виде традиции в его окружении, и особое положение евреев в период нарастающего антисемитизма в Европе. При этом, будучи прекрасно образованным австрийским интеллектуалом, Фрейд наследует общеевропейскую христианскую драму, в рамках которой разыгрывается суд времени над фаустовским героем. Ниспровергая чувство стыда и вины за собственные фантазии субъект психоанализа оказывается уже втянутым в борьбу с христианским дьяволом. Помимо прочего, психоанализ в целом оказывается доста- точно гибким, чтобы вместить в себя элементы эзотерического и мистического сознания, на что обращают внимание исследователи К.Г. Юнга и других психоаналитически образованных авторов. Так, например, Георг Николаус говорит о родстве философии Бердяева и аналитической психологии Юнга в их взаимоотношении с каббалой [Николаус 2017]. В свою очередь, известно, что Бердяев в своем творчестве активно взаимодействует с разными мистическими традициями, в том числе с каббалой. Так, он ссылается на книгу «Зохар», говоря об андрогинности как совершенной форме человека 2.
Как только в познании возникает эффект потустороннего, как только познающий соприкасается с более тонкой реальностью Истины, символ встречается со своим пределом – апофатическим именем. Чем глубже мы погружаемся в опытное переживание Божественной природы, тем дальше мы отходим от высветленной части символа, в сторону мрака логического сознания, при вхождении в который можно увидеть свет мистической интуиции 3. Дионисий Ареопагит так поясняет идею апофасиса: «Для богословов обычно отрицать то, чего Бог лишен взаимообратным способом. Так, “невидимый” сказывается о всесветлом свете изречения, многопетого и многоименного называют “невыразимым и безвестным”, вездесущего и во всем обретаемого – “непостижимым и неисповедимым”» (Ps. Dion. Areop. De div. nom. 7.1. 865B 10 – 865 C 5; перевод мой – А. Х. ) [Suchla 1990, 193–194]. Апофасис соединяется с мистикой тогда, когда познание Бога оказывается не просто делом интеллектуальной интуиции, но опытом личной трансформации. В таком виде познание приводит к практике воздержания как от рассуждений, так и от обыденных страстей.
Когда сознание умолкает, начинает говорить тело. Отличие мистического знания от книжного заключается в факторе телесности, плоти как того конкретного и фактического, что обусловливает субъективную ситуацию познания. Бердяев в связи с этим пишет о том, что необходимо «связать религиозную и культурно-историческую проблему “плоти” (утверждения культуры, общественности, чувственности, пола, – словом, воплощенного духа) с онтологической проблемой о том, что такое бы- тие, каков его состав, и с гносеологической проблемой о том, что такое нумен, а что феномен, каковы условия образования мира эмпирического» [Бердяев 2018, 388]. Здесь Бердяев оказывается близким к современному постклассическому пониманию телесности и плоти, которое заключается в том, что последняя покрывает собой самые разнообразные человеческие практики, вследствие чего мы приходим к представлению о телесном сознании (неизбежном оксюмороне) 4.
В восточном богословии проблема личного, индивидуального освобождения сохраняется, поскольку дух удерживает в реальности плоть: «Жизнь плоти в этом мире обладает подлинной символической реальностью и человек столь же реален, как и Бог, не только в символическом отображении, но и в реальности духовного мира» [Бердяев 1994, 42]. В данном случае под символическим Бердяев понимает особую гносеологическую позицию, которую он обозначает как реалистический символизм. Эта позиция предполагает конкретную переживаемую реальность знака, которую обнаруживает познающий духовную реальность. «Истинное христианство духа знает конкретную, а не отвлеченную духовность, духовность, вмещающую все иерархические ступени символизации и воплощений, все осмысливающую и углубляющую, а не отсекающую и отрицающую» [Бердяев 1994, 42–43]. Подчеркивая такой символический характер плоти, Бердяев приближает ее к постклассической концепции телесности, покрывающей «собой и землю вообще, и всю культуру и общественность (“тело” человечества), и всякую чувственность, и половую любовь» [Бердяев 1994, 43].
Любовное измерение опыта
В психоанализе, помимо очевидной истины о живом теле как экране бессознательного, мы также можем говорить о границе толкования, за которой открывается иное поле взаимодействия между аналитиком и анали-зантом. Ряд феноменологически ориентированных авторов говорят о «моментах» сессии, в которых можно наблюдать подобные сдвиги в сторону постинтерпретативного анализа. Можно смело сказать, что перенос и являет- ся этим новым измерением отношений. По-другому, психоанализ как практика не избегает, а наоборот, стремится в то пространство опыта, где проигрываются различные сценарии любовных травм субъекта. Именно в них аналитик-специалист уступает аналитику-отцу (матери), контейнируя в себя детские фрустрации анализанта.
Интересно, что измерение переноса в его отношении к любви можно усмотреть и в религиозном сознании, где Другой-Бог оказывается аффицированным со стороны человека, на чье ответное чувство он рассчитывает. Бог томится и ревнует человека, жаждет его любви – так Бердяев описывает опыт мистической любви, ссылаясь на византийцев [Хаха-лова 2019]. «Л. Блуа говорит, что Бог – одинокий и непонятый страдалец, он признает трагедию в Боге. <...> Бог страдает и истекает кровью, когда не встречает ответной любви человека, когда свобода человека не помогает Богу в Его творческом деле, когда не Богу отдает человек свои творческие силы. <...> Человек должен думать не только о себе, о своем спасении, о своем благе, он должен думать и о Боге, о внутренней жизни Бога, должен приносить Богу бескорыстный дар любви, должен утолить Божью тоску» [Бердяев 1994, 144].
Тогда спокойному уму противопоставляется горячее, любящее сердце. В этом молчании разгорается огонь – Божественный Логос, вначале похожий на свет одинокой свечи, который в конце концов выжигает греховное и тварное личностное изнутри, так что не остается Я, «но живет во мне Христос» – такова характерная для христианского мистицизма метафора.
Мистическая традиция представляет для Бердяева один из вариантов феноменологии страстей Бога, которая не боится «признать движение в Боге, тоску в Боге, трагедию в Боге», в отличие от официальной церкви 5. В союзе с Богом не только человек обожива-ется, но и Бог очеловечивается. Для Бердяева остается важным принцип персонализма, который делает Бога личностью, притязающей на ответное чувство. «Бог никогда не насилует человека, не ставит границ человеческой свободе. Замысел Божий о человеке и мире в том, чтобы человек свободно, в люб- ви отдал Богу свои силы, совершил во имя Божье творческое деяние. Бог ждет от человека соучастия в деле миротворения, в продолжении миротворения, в победе бытия над небытием, ждет подвига творчества» [Бердяев 1994, 143].
Очевидно поэтому Бердяева не могла устроить интерпретация творчества как сублимации исключительно сексуальной энергии, судьбу которой описывает классический психоанализ – несмотря на то что Бердяев согласился бы с Фрейдом и Юнгом в том, что либидо как главная психическая сила лежит в основе процесса эволюции как отдельной личности, так и культуры в целом 6. Сублимации подлежит энергия абсолютного ничто, Бездны, которую Бердяев называет первичным источником бытия и Бога, и человека. Только в любви к Богу эта меонтическая свобода преобразуется из тьмы в свет, творя все «из ничего». Там, где человек соприкасается с самым возвышенным, Бердяев говорит о сверхсознании как о сфере, «в которой имеет место истинное бескорыстное само-преодоление (“агапе”) ради другого, будь то Ты, природа, человек или Бог» [Николаус 2017, 75].
Отличие богословской риторики Бердяева от официальной линии Церкви в том, что русский мыслитель не избегает темы сексуальности, и даже наоборот, берет себе в соратники Розанова 7, известного своим еретичеством мыслителя, обличая немое сообщество в лицемерии и игнорировании «источника жизни, виновника всей человеческой истории – половой любви. С полом и любовью связана тайна разрыва в мире и тайна всякого соединения; с полом и любовью связана также тайна индивидуальности и бессмертия…» [Бердяев 1999, 213]. Несмотря на подобную открытость интимному вопросу, возникает ощущение, что сам Николай Бердяев остается принадлежащим обществу старой морали, рассуждая о рождающей природе женщины и творческой природе мужчины, нехотя заходя на территорию интимного в отношениях, придерживаясь традиционной ассоциации пассивного женского и активного мужского [Crone 2010]. Так, создается впечатление, что символика любви представлена в работах Бердяева во всей антиномичности и парадоксальности, свойственной для русской мысли. Она возвышает пол и плоть и в то же время принижает эротику отношений.
Впрочем, эта антиномичность высказывает нечто больше о христианской диалектике личности. С одной стороны, только в субъективном, личном опыте любви приоткрывается свобода – и здесь индивидуальная любовь пола представляется Бердяевым как путь личности к свободе; с другой, сложная семантика понятия ипостаси указывает на трансличностное и преодолевающее индивидуальные границы измерение опыта любви. Когда ум приходит в антиномическое состояние, пытаясь схватить Божественное присутствие, он приходит в заключению, что Бог «ни в каком месте не пребывает, невидим, лишен чувственного осязания, не воспринимает и не воспринимаем посредством чувств» (Ps. Dion. Areop. De myst. Theol. 4. 1040D 5; перевод мой. – А. Х. ) [Heil, Ritter (hers.) 1991, 148], или точнее, Он «не в том, что Он есть, а в том, что Он не есть» [Лосский 1991, 116]. Так же, как и Моисей «видит не Его Самого, поскольку Он невидим, но место, где Он пребывает» (Ps. Dion. Areop. De myst. Theol. 1.3. 1000 D 5; перевод мой. – А. Х. ) [Heil, Ritter (hers.) 1991, 144] 8. Экстатичность субъекта указывает на момент расширения собственного места для вмещения туда инобытия – Бога, другого человека и т. д. «Трансценди-рование есть переход к транссубъективному, а не к объективному. Этот путь лежит в глубине существования, на этом пути происходят экзистенциальные встречи с Богом, с другим человеком, с внутренним существованием мира» [Бердяев 1972, 17].
Там, где практика соприкасается с мистикой, не остается ничего, кроме личного опыта и доверительных отношений с другим. В конце концов другому вверяется личная свобода и собственная сексуальность, оставляя влюбленного на пути слепой / зрячей веры. «Вера есть “обличение вещей невидимых”, то есть акт свободы, акт свободного избрания. Невидимые вещи не насилуют нас, не принуждают, подобно вещам видимым. Мы обличаем невидимые вещи с опасностью, с риском, полюбив их и свободно избрав их. В вере все ставится на карту, все можно приобрести или все потерять…» [Бердяев 1994, 135]. Как кажется, психоанализ избегает дилеммы экзис- тенциального решения, верить или нет. Все же доверительность, как один из параметров психоаналитического опыта, играет свою роль в успехе анализа. В частности, о доверительности (credibility) ведется речь в феноменологически ориентированной экзистенциальной терапии (например, Э. Спинелли). Как бы далеко не расходились между собой фрейдовский психоанализ и экзистенциальная терапия, в переносе речь идет о личной экзистенции каждого из участников этой практики, а значит, что анализант совершает поступок, достойный рыцаря веры.
Заключение
В результате проведенного исследования была раскрыта преемственность между философией Н.А. Бердяева и мистическим богословием, которая заключается в методологическом предпочтении форм досимволичес-кого, интуитивного способа познания перед рационально-символическим в вопросе о природе Бога. Переход от одного уровня познания к другому совершается в сфере телесности, на основании чего идея преображения плоти человека в плоть Христа была рассмотрена как связующая между мистической традицией и концепцией Богочеловека у Бердяева. В этом же контексте было показано, что психоаналитическая практика также подразумевает телесное взаимодействие между аналитиком и анализантом, в котором происходят значимые моменты терапии. На основании проделанного исследования была представлена герменевтика понятия любви, которая выявила активное, страстное начало в опыте Божественной любви, нехарактерное для официальной Церкви, но представленная в мистической традиции Византии и в текстах русского философа. В рамках этой задачи произведена феноменология чувств по отношению к Богу в текстах Бердяева, на основании которой была прояснена позиция мыслителя в вопросе об онтологическом статусе Бога. А именно, было доказано, что Бог понимается Бердяевым как экзистенциальный другой для человека, который переживает диалектику собственного и чужеродного в собственном опыте общения с другим и становления через этого другого самим собой.
Список литературы Плоть в концепции русской души Н.А. Бердяева
- Бердяев 1916 - Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М.: Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1916.
- Бердяев 1972 - Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики. Париж: YMCA-Press, 1972.
- Бердяев 1991 - Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М.: Книга, 1991.
- Бердяев 1994 - Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994.
- Бердяев 1999 - Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность. М.: Канон+, 1999.
- Бердяев 2018 - Бердяев Н.А. Sub specie aeternitatis, или с точки зерния вечности. М.: T8RUGRAM, 2018.
- Лосский 1991 - Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Киев: Путь к истине, 1991.
- Николаус 2017 - НиколаусГ. К.Г. Юнг и Н. Бердяев: Индивидуация и личность. Критическое сравнение. М.: Городец, 2017.
- Ницше 2005 - Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. M.: Культурная Революция, 2005.
- Хахалова 2019 - Хахалова А.А. Мотивы византийского богословия в творчестве Н.А. Бердяева // Современная онтология IX: сознание и бессознательное: сб. материалов по между-нар. конф. (24-28 июня 2019 г.). СПб.: Изд-во ГУАП, 2019. С. 271-282.
- Crone (ed.) 2010 - Crone A.L. (ed.). Eros and Creativity in Russian Religious Renewal: The Philosophers and the Freudians. Leiden: BRILL, 2010.
- Heil, Ritter (hers.) 1991 - Heil G., Ritter A.M. (hers.). Pseudo-Dionisious Areopagita. De Mistica Theologia // CD 2. PTS 36. Berlin: Walter de Gruyter, 1991.
- Suchla (hers.) 1990 - Suchla B.R. (hers.). Pseudo-Dionisious Areopagita. De Divinis Nominibus // CD 1. PTS 33. Berlin: Walter de Gruyter, 1990.