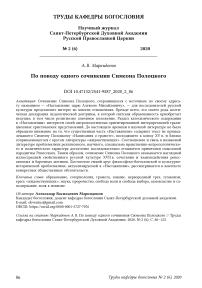По поводу одного сочинения Симеона Полоцкого
Автор: Маркидонов Александр Васильевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Грани богословской науки
Статья в выпуске: 2 (6), 2020 года.
Бесплатный доступ
Сочинение Симеона Полоцкого, сохранившееся с неточным по своему адресату названием - «Наставление царю Алексею Михайловичу», - для исследователей русской культуры представляет интерес во многих отношениях. Прежде всего, это своего рода поэтическая декларация педагогической доктрины, в которой светская образованность приобретает ведущее, в том числе религиозно значимое положение. Раздел катехизического содержания в «Наставлении» интересен своей антропологически ориентированной интерпретацией традиционных христианских представлений. До настоящего времени в научной литературе не было обращено внимание на то, что существенная часть «Наставления» содержит текст не принадлежащего Симеону Полоцкому «Написания о грамоте», восходящего к концу XV в. и близко соприкасающегося с кругом литературы «жидовствующих». Соотношение и связь в названной литературе проблематики религиозного, научного, специально нравственно-антропологического и политического характера достаточно последовательно отзывается приметами смысловой парадигмы Ренессанса. Таким образом, сочинение Симеона Полоцкого оказывается наглядной иллюстрацией свойственного русской культуре XVII в. сочетания и взаимодействия ренессансных и барочных мотивов. Достаточно емкий круг философско-богословской и культурно-исторической проблематики, актуализируемой в «Наставлении», рассматривается в контексте конкретных общественных обстоятельств.
Образование, сотериология, грамота, знание, первородный грех, гуманизм, ересь «жидовствующих», наука, пророчество, свобода воли и свобода выбора, самовластие и самодержавие, воля к новизне
Короткий адрес: https://sciup.org/140294857
IDR: 140294857 | DOI: 10.47132/2541-9587_2020_2_86
Текст научной статьи По поводу одного сочинения Симеона Полоцкого
About the author: Alexander Vasilievich Markidonov
Candidate of ^eology, Associate Professor of the Department of ^eology, St. Petersburg ^eological Academy.
Article link: Markidonov A. V. Concerning one Composition of Simeon of Polotsk. Proceedings of the Department of ^eology of the Saint Petersburg ^eological Academy, 2020, no. 2 (6), pp. 86–123.

Симеон Полоцкий.
Литография 1818 г.
После Московского Собора 1666– 1667 гг. Симеон Полоцкий, принявший в Соборе заметное участие, был приглашен на должность учителя царских детей — ближайшим образом, Алексея Алексеевича, а затем и Федора Алексеевича1.
Очевидно, в это время — по крайней мере, до кончины царевича Алексея Алексеевича в 1670 году — иеромонахом Симеоном и было написано интересующее нас сочинение, позднейшее и неточное надписание которого таково: «Наставление царю Алексею Михайловичу Симеона Полоцкого».
Достаточно обстоятельное и, насколько нам известно, единственное2 изложение названного текста принадлежит Н. И. Смирнову — исследователю конца XIX века. Представляя «Наставление», Смирнов справедливо отмечает неточность адресата в его, очевидно, сравнительно поздней формулировке. Ко времени написания «Наставления» царь Алексей Михайлович давно вышел из того юношеского возраста, к которому по преимуществу может быть обращен подобный текст, хотя и перерастающий, как мы увидим, рамки прикладного жанра3.
Последующая судьба рукописи оказалась драматичной: опубликованная в большей своей части, но все же не полностью, в журнале С. Н. Глинки «Русский вестник» за 1809–1810 гг., она была уничтожена огнем московского пожара 1812 года.
«Наставление» Симеона Полоцкого находится, прежде всего, в контексте его постоянной учебно-педагогической практики, восходящей еще ко времени пребывания в Полоцком Богоявленском монастыре, а затем в Московской Заиконоспасской школе для подьячих Тайного приказа.
Не останавливаясь специально на ярких педагогических мотивах в сборниках проповедей Симеона, следует указать на новое, им инициированное и снабженное предисловием, издание «Тестамента царя греческого Василия сыну своему Льву», а также на издание Букваря в 1679 году4.
В широком общественном контексте «Наставление» Симеона Полоцкого созвучно той актуализации педагогической темы, которая отчетливо заявляет о себе к середине и особенно во второй половине XVII столетия. Но если, скажем, обращенные к царю «Правила христианской жизни» патриарха Никона5 еще всецело опираются на новозаветный текст, к нему сводятся и имеют традиционное нравственно-аскетическое содержание — лишь косвенно, в истории противостояния патриарха и царя, приобретая и политическое звучание, — то «Наставление» Симеона Полоцкого привносит в самое понятие «педагогического» существенный и уже в силу своей новизны первенствующий элемент светского образовательного начала.
Конечно, что касается грамматических знаний, то уже в первой четверти XVII века (1616 г.), в связи с необходимостью выверки и правки некоторых богослужебных текстов, появляется Грамота царя Михаила Федоровича, где, увязав неисправность названных текстов с тем, что «по руски философских учений много лет не было», царь повелевает «тое книгу Потребник исправлению вдати тебе, богомолцу нашему, архимариту Деонисию, а с тобою тем старцом (^), которые подлинно и достохвально извычни книжному учению и грамотику и риторию умеют»6.
Программное значение в развитии грамматического подхода к вопросам книжной справы, безусловно, имеет развернутое Предисловие к московскому изданию «Грамматики» Мелетия Смотрицкого в 1648 году7.
Мало-помалу, в течение XVII столетия, положение «внешней мудрости» в сознании круга ее сторонников, во-первых, является уже в полном составе своих дисциплин, не ограничиваясь грамматикой, и, во-вторых, явно покушается перерасти свое прикладное значение и приблизиться к тождеству с основанием или источником мудрости, явленным в Откровении.
Тенденция к универсализации значения «свободных искусств» коррелировала с приобретающей все более конкретный характер апелляцией по этому поводу к царю — носителю полноты власти в русском сообществе. В этом отношении новое издание «Тестамента царя Василия», кроме общепедагогического значения стимулировало тему просвещенной монархии, тем более что в этом, восходящем к кругу патриарха Фотия, тексте исключительным образом подчеркивалась решающая для всей государственной жизни роль знания. «Первое, что бросается в глаза при анализе «Учительных глав» (название Тестамента в позднем русском переводе. — А. М.), — отмечает современный исследователь, — выдвижение вперед темы образования. Не с утверждения божественного происхождения императорской власти, чем, по обыкновению, открывались изложения Агапита, Симокатты, Феофана, «Повести о Варлааме и Иоасафе», а с обоснования важности просвещения начинает свои наставления Василий. Образование, по его словам, “украшает империю и увековечивает память об императорах”, к нему следует относиться как к “предводительствующему государством”. Образованность воспринимается автором не просто как духовное благо, а как явление социальное, общественное звучание которого не ограничивается персоной правящего: “образование — дело в жизни полезное и наиважнейшее не только для императоров, но и для частных лиц”. В соответствии с общественной значимостью образованности и интеллектуальные качества человека становятся предпосылкой социальных связей: разум у всех в почете, да редко встретишь наделенного им; в результате надо стремиться не только к тому, чтобы разум был присущ тебе самому, но следует стараться денно и нощно общаться с людьми разумными. Последние характеризуются Василием чуть ли не как основа миропорядка: надо “следовать разумным, на которых словно на троне покоится Бог”»8.
Общим местом в педагогических декларациях второй половины XVII века становится восходящая к западному прототипу отсылка к образу библейского царя Соломона, который предпочел Премудрость всем другим благам. При этом, как, например, подчеркивается от лица Соломона в «Привилегии на Академию» Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, «приидоша же мне благая вся вкупе с нею (с мудростью. — А. М.) и безчисленно богатство рукою ея»9. Ибо, по убеждению составителей «Привилегии», едина «царских должностей родительница и всяких благ изобретательница и совершитель-ница (^) мудрость»10.
Кроме того, как в «Привилегии», так и по крайней мере в одной из проповедей Симеона Полоцкого дается оригинальная, в духе новых педагогических намерений, трактовка известного текста книги Притчей Соломоновых: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его» (9:1). «Мы знаем из разных источников, — говорит, в частности, Симеон в Слове втором в день Рождества Пресвятой Богородицы, — о самом Соломоне и о созданном им богатом храме. Другие благодаря этому храму знают и о доме училищ, который Соломон построил на горе Сионской вблизи храма Божия и своего царского дома, более того, в притворе храма, и назвал его домом премудрости. И в нем утвердил семь столбов, то есть семь училищ (выделено мною. — А. М.), и столько же мраморных сидений для учителей, на которых они сидели, когда учили»11.
Одно из традиционных истолкований, которое Симеон Полоцкий здесь же упоминает, видит в этом тексте образ семи даров Святого Духа. Оказывается тем самым, что библейская Премудрость максимально сближается и практически отождествляется с «чином Академии», в коей, по замыслу устроителей, надлежит «семена мудрости, то есть науки гражданские и духовныя, наченши от грамматики, пиитики, реторики, диалектики, философии разумителной, естественной и нравной, даже до богословии учащей вещей божественных и совести очищения постановити»12.
О масштабности и новизне педагогической мысли обсуждаемой эпохи говорит, в частности, и факт появления перевода переложения сочинения Эразма Роттердамского De civilitate morum puerilium13. Перевод, как с достаточной основательностью предполагают, был выполнен Епифанием Слави-нецким и предназначался царским детям, прежде всего царевичу Алексею. Славяно-русский перевод названия — «Гражданство обычаев детских». Замечательно, что, согласно смыслу названия, по сути еще только становящееся русское гражданское сознание включает здесь в себя и область «приличий», нравов — область в древнерусской традиции или неотделимую и практически невыделимую из сферы церковного благочестия, или же просто находящуюся за пределами культуры, опять же фактически совпадающими с пространством сакрального.
Таким образом, в случае авторства Епифания Славинецкого, «грекофилы», при всей серьезности их конфронтации с «латинофилами», также оказываются достаточно широко открытыми к реалиям и ценностям западной культуры, будучи, правда, уверенными, что сфера «догматического» несооб-щима с границами и методологией школьной (в первую очередь философской) образованности14.
Представители, условно говоря, «латинофильской» ориентации15, как мы уже обратили внимание, придавали светской образованности существенно более весомое и даже универсальное значение. Ярким примером этого и является интересующее нас «Наставление» Симеона Полоцкого.
Сочинение разделяется на стихотворное Предисловие («приписание») и основную часть, имеющую название «Книжица вопросом и ответом, иже в юности сущим, зело потребна суть», т. е. предполагающую катехизический характер изложения. Впрочем, тематически эта основная часть перерастает рамки обычного катехизического жанра, поскольку наряду с вопросами собственно религиозного характера включает в себя раздел «о грамоте», посредством которого в традиционную церковную проблематику элементарного порядка вводится тема знания — ведущая тема Симеона Полоцкого и с ним связанной культурной ориентации16.
Стихотворное предисловие развернуто и мощно декларирует значение «книжного учения», конкретизируемого (в отличие от предшествующей традиции) системой «семи свободных искусств». После краткого вступления, именующего «Господа господствующим^ Всесильного Бога» и напоминающего, в данном случае в формальном соответствии с традицией, о Его повелении «испытывать Писания», Симеон Полоцкий пишет: «Аще убо кто в заповедях Господних себя поучает, / радование и вечный живот сей получает. / Благоуханий райских цветов подобне наслаждается красоты; / Царствия же беско-нечнаго и горняго Иерусалима достизает высоты»17.
Обозначив таким образом привычный смысловой топос традиционного благочестия, далее Симеон радикально, в духе Нового времени, трансформирует исходные основания этого благочестия, его сотериологию: «Аще убо от человек мнится сие (т. е. достижение «горняго Иерусалима» — спасения. — А. М.) быти и невозможно; / Разум же здрав имеющим удобно и возможно, / Его же ради подобает стяжати книжное учение. / Всяко от сего получишь благоразумное поучение; / Истиннаго бо учения не навыкнув, никто не достигает»18.
Первый стих фрагмента — «от человек^ сие^ невозможно» — прямо отсылает к ответу Иисуса Христа своим ученикам на вопрос: «Кто же может спастись?» Именно, Спаситель отвечает: «Человекам это невозможно» (Мф 19:26). Но если в этом случае евангельская сотериология указывает на Самого Бога («Богу же все возможно»), как на единственный источник спасения, то у Симеона Полоцкого, как видим, «удобно и возможно» спастись «имеющим здравый разум». Причем «разум здравый» здесь — не размытое представление о житейском здравом смысле и не философское понятие, а вполне конкретный результат и глубинное содержание «книжного учения», раскрывающегося далее, как, в первую очередь, система «свободных искусств» светского образования. Так что, когда мы читаем: «Аще убо восхощешь изящен быти благоразумному получению, / Лепо ти сего ради внимати книжному поучению, / Ему же прилежа, обрящеши веру несумненну, еже к Богу», понятие «книжного поучения» здесь не совпадает с привычным для древнерусского благочестия представлением о назидании себя в чтении Священного Писания и других книг Церкви, существенно, даже в частном опыте, соотнесенного с богослужением.
У Симеона Полоцкого добродетель «книжного поучения» приобретает двойственный характер: оно включает в себя и «чтение богословских и пророческих книг», и освоение светских дисциплин. В конце концов, именно раздел, раскрывающий значение и достоинство школьной образованности, завершается выводом: «Аще убо кто прилежательне благому учению внимает, / Дарование Святаго Духа и премудрость в нем выну пребывает»19.
Есть смысл обратить внимание на то, что названная двойственность — совмещение светского и собственно религиозного, с заметной тенденцией усвоить науке место и значение начала сотериологического — просматривается и в других программных текстах эпохи. Замечательно в этом отношении, например, Предисловие Л. Ф. Магницкого к его знаменитой «Арифметике» 1701 года. «Потребно есть науки стяжати и разума искати», — говорится здесь. После подробного перечисления наук автор настаивает: «Их же всех всякаго чина человеком не потребно есть презирати, зане естественно украшают внутренне человека зело, и просвещают ум ко приятию множайших наук^»20.
При наличии в Предисловии традиционной христианской топики, как, например, соотношение «внутреннего» и «внешнего», смысл ее существенно изменяется. «Внутренний человек» отождествляется с научно просвещенным «разумом» и, по сути, освобождается от своего трансцендентного измерения: это уже не «потаенный сердца человек в неистлении кроткого и молчаливого духа» (1 Пет 3:4). Поэтому неудивительно, что, как пишется в Предисловии, «кроме довольств внешних, неудобно есть естественне содержати доброту, еже по внутреннему человеку, еже есть разум, его же ради почтен человек паче всея твари и владетелем учинен^».
Впрочем, речь идет и об обратной зависимости — внешнего блага от внутреннего совершенства, однако характер этого совершенства двоится: «добродетель» научной просвещенности в нем то сопутствует, то соревнует добродетели традиционного благочестия, а то и отождествляется с нею, ее при этом подменяя.
О государе Петре Великом говорится, что он, «как второй Соломон по благодати Божией удостоился дара премудрости, разума, рассуждения, благочестия, благоговеинства, смиреномудрия, трудолюбия и правосудия и всех благ, которые свойственны душе^». Все это, как можно видеть, почти без исключения достоинства нравственно-религиозного характера. Добродетель правителя (если припомнить «Тестамент царя Василия») сказывается еще и в том, что он «их же (вышеназванные блага? — А. М.) всякому особно хощет преподати человеку: яко да всяк сродного того умнаго света лучами, сиесть мудрости науками (а это уже не собственно религиозная мудрость. — А. М.) осиян быв, рассуждением согласен и покорен будет свету правды (выделено мною. — А. М.) во всяком рассуждении, отнюдуже происходит всякая внешняя доброта, по оному : Ищите Царствия Божия, и правды его, и всякая внешняя приложится вам, сиесть мир, тишина, благоденствие, гобзование плодов, и всяких стяжаний, елика потребна суть к человеческой жизни».
Мы видим, в данном случае, как между «научною мудростью» и «правдою Царствия Божия» мыслится некое «предустановленное» соответствие, когда одно предполагает другое, а по функциональному значению («отнюдуже происходит всякая внешняя доброта») одно («научная мудрость») с другим («правда Царствия Божия») фактически совпадает.
Не только «внутренний человек» мистико-аскетической традиции христианства, но и «человек естественный» в его природной непосредственности, натуральности к искомому совершенству, как оно понимается носителями и защитниками школьной образованности, отношения не имеет. Как пишет современный исследователь, в XVII столетии даже «в официальных указах замелькали сугубо философские сентенции о пользе науки: «Человек, кроме учения, человеком именоватися не может для того, что не весть, как он человек»21.
Другими словами, проводилась мысль о необходимости постижения человеком своей сути через научное знание о себе, полученное через систему светского образования. Человек «естественный» стал означать человека неученого, необразованного, необлагороженного научными знаниями»22.
В «Автобиографических записках» под 1667 годом протопоп Аввакум рассказывает: «И августа в 22 день и в 24 день Артемон был от царя с философом с Симеоном-чернецом; и зело было стязание много разошлися, яко пьяни, не моглъ и поиъсть после крику. Старец мне говорил: «Острота, острота теле-снаго ума да лихо упрямство! А се не умъет науки!»23
Антитеза «телесного» («природного») ума и «науки» проговаривается здесь Симеоном Полоцким с полной и, так сказать, программной определенностью, в то время как сам Аввакум такой антитезой себя не связывает: он противопоставляет «науке» не что бы то ни было естественное само по себе, а скорее вышеестественное достоинство веры, руководимой «умом Христовым» (1 Кор 2:16). «Ты ищешь, — говорит протопоп Аввакум Артемону, — в словопрении высокия науки, а я прошу у Христа моего поклонами и слезами; и мне кое общение — яко свету с тьмою или яко Христу с велиаром?»24
Возвращаясь к предисловию «Наставления» Симеона Полоцкого, еще раз отметим, что система школьных дисциплин («семи свободных искусств») осознается и декларируется здесь как существенное и необходимое предуготовление к восприятию истин христианской веры.
«Лепотно ти есть, — пишет Симеон, — и грамматическому разумению внимати, / Ему же навыкнув, можеши право глаголати и писати; / та убо называется правительница умная. / Не точию же, но и словесница благоразумная. / От ней обретается всякая премудрость и философия. / Множайше же познавается и Естественная Богословия»25.
Еще столетием раньше князь Андрей Курбский как представитель, условно говоря, школы преподобного Максима Грека, в своем пояснении к переводу Логики Й. Спангенберга находил необходимым указать на двойственный (и уже поэтому подчиненный) характер логического знания, способного послужить, как истине, так и лжи. «Все ли те силогизмы, сиречь слогии правду оброняют? — вопрошал он и отвечал, — Не все. Овые правду оброняют словесною силою и истинне помагают, а овые сопротив правды глаголют и ис-тинне сопротивно укрепляют^»26.
Симеон Полоцкий в этом случае безоговорочно однозначен: «Зрительную же в высоте разума исправление свободным мудростем, / Диалектику глаголю, еже есть виновница словесным хитростем. / Разумением бо ея истинна от неправды познавается, / Аще и мнози истинну лжею препирати покушаются»27. Так что, в конце концов, как уже было отмечено, «Аще убо кто прилежательне благому учению внимает, / Дарование Святаго Духа и премудрость в нем выну пребывает»28.
Основная часть «Наставления» — «Книжица вопросом и ответом» — предваряется оглавлением: «1) О составе человеческом, 2) о человеце, каков он есть, и что есть человек, 3) о душе человеческой, 4) о сотворении мира, 5) о грамоте, 6) что есть грамота и что ея строение, 7) коея ради вины грамота сотворена? 8) что прежде бысть: грамота от ума сотворена, или ум от грамоты сотверен? 9) какова есть грамота и коль угодна? 10) об истинной православной и святой вере, 11) что есть истинный христианин, 12) како подобает быть христианину? 13) откуда нарицается христианин? 14) о Богословии, 15) что есть Бог? 16) како веровати?»29
Заключительная богословская часть из этого тематического списка не была опубликована, а рукопись сочинения, как мы уже сказали, не сохранилась.
Впрочем, начальная антропологическая часть «Книжицы», конечно, также богословски содержательна, а в контексте культуры русского барокко имеет и преимущественное значение. «Человек, — говорится здесь, — есть существо животное словесно, мертвенно, ума и художества приятно. Иже по образу и подобию создан. Имать же участие с другими тремя стихиями. Душу же от Бога имать, не от существа Божия, но дуновением Божием на лице его. Человек есть самовластен (т. е. он может избирать добро или зло. — А. М.), свободен, прав, безпечален, в велицем благоденствии создан. Обаче посреде благословения и проклятия, аки на перевесе поставлен, посреде худости и величества, потому что он составлен от тела и души»30.
На первый взгляд, перед нами привычная декларация традиционной христианской антропологии, ее исходного библейского основания. Разве только несколько озадачивает фраза: «потому что он составлен от тела и души» как пояснение положения «посреде благословения и проклятия». Срединность или неопределенность экзистенциально-историческая, нравственная оказывается обусловленной двойственностью онтологической — «души и тела». Поскольку характеристика эта относится к исходному, первозданному состоянию человеческой природы, можно усмотреть в ней толику платонизма. Тем более, что, если природе человека в целом усвоивается смертность («мертвенно»), вероятно, в связи с наличием телесности, то о душе говорится отдельно, с платоническими интонациями, как о начале бессмертном: «Душа есть существо безсмертно, духовно, несложно, безплотно, невидимо, умно. Ум же имать в себе, яко же в теле око самовластно. Свободно, извратно, еже хощет и творит добро, или зло»31.
К более детальному прочтению этого текста нам еще предстоит вернуться позднее, с учетом его замечательного контекста, к рассмотрению которого мы теперь и переходим.
Как видно из оглавления «Книжицы», после антрополого-космологической преамбулы читателю предлагается не собственно катехизическая тема — о грамоте. Это, конечно, само по себе симптоматично: Симеон Полоцкий стоит здесь примерно у истоков того склада и направления мысли, которое в 1723 году побудит императора Петра Великого распорядиться, «чтобы в церквах по великим постам, вместо творений Ефрема Сирина и Соборника читали «Первое учение отроком», где наряду с Десятословием, молитвой Господней и Символом веры преподавалось учение “о буквах и слогах”»32.
Дело здесь, правда, не столько в самом тематическом сочетании «грамотности» и «благочестия» (оно имело и традиционный характер), сколько в новом положении «грамотности»: она интерполируется в область благочестия, приобретая при этом, если говорить о Симеоне Полоцком, научный — от «грамоты» к «грамматике» — восходящий горизонт.
Собственно, в «Книжице» мы имеем нечто вроде мифа о происхождении грамоты, мифа, призванного обосновать в том числе и ее научно-универсальное значение как синонима и символа (или прототипа) знания вообще.
Чрезвычайно важно отметить, что миф этот не принадлежит самому Симеону Полоцкому: он только воспроизводит, почти без малейшего изменения, текст восходящего к концу XV века «Написания о грамоте», о месте и значении которого в культурно-исторической и религиозной ситуации своего времени нам еще необходимо будет сказать33.
Итак, о сущности, происхождении или устроении грамоты — в ответе на вопрос: коея ради вины грамота устроена? — в используемом Симеоном Полоцким сочинении говорится так: «Сея ради вины грамота устроена, яко Бог созда и благослови человека животна, плодна, словесна, разумна, ума и художества приятна, праведна, безгрешна; и даде ему самовластие ума; смерть и живот пред очима его предложи, рекше: вольное произволение хотения к добродетели или к злобе; путь откровения изяществу и невеждествию. И по безгрешию человеческому, явственно Бог пребывает тогда, и беседует лицем к лицу. И ангели Божии служаху Ему. И егда нача человек плодити и умножатися, начашася от него человецы; и тогда нача множитися и злоба в человецех и недостоинства. (^) И егда зело умножилася злоба в человецех, изнемогоша от нее человецы и недостойни быша явственно Бога видети и от святаго Духа просвещатися, ниже достойны и ангелов Божиих касати-ся, но лишишася Божиих неизглаголанных благ. И сия видев всещедрый Бог, и милосердова о человеческом роде, не хотя оставити в забвении своего создания^, но вся на разум приводя и на спасение, яко Бог милостив, благоволи на се состроити грамоту. И от сея навыкше, да по ней воспоминают сим прежняя Божия благоволения, и известны будут истинне, и не прельщены будут лжами и ересьми, ниже всеконечно растлятся обычаи человеческие; но да назидани будут Божиею правдою и да ненавидящие Бога сим уведят Бога, Его хотения и судьбы; предания, им же веровати; заповеди, их же хра-нити; запрещения, их же страшитися; обетования, их же чаяти и ждати мздо-воздаяния; и да незнающим Бога сим Бога познают, и вся преданная Богом в разуме стяжут.(^) И тоя ради вины грамота состроена, да искуснее будут человецы и не удаляются от Бога»34.
Таково, согласно мифу, происхождение (или устроение) грамоты, которая, как видим, прежде всего, занимает здесь место, принадлежащее в христианской традиции Священному Писанию. Да и сама история «грамоты» мотивирована в некотором, хотя и не точном, соотношении с тем, как это представляется в церковной традиции, когда непосредственное общение с Богом уступает место общению, опосредованному через нарочитое откровение, явленное в пророческом свидетельстве избранников Божиих.
Однако из того, что бросается в глаза как принципиальное отличие от церковного понимания обозначенной темы, это отсутствие события (а значит и состояния) первородного греха. Переход от состояния непосредственного Бо-гообщения к радикальному отчуждению от Бога — от добра ко злу, от праведности к недостоинству — имеет в мифе, рассказанном Симеоном Полоцким, не катастрофический, а как будто эволюционный характер: «И егда нача человек плодити и умножатися (^) и тогда нача множитися и злоба в человецех и недостоинства».
В своем роде «естественная убыль» праведности, а значит и близости к Богу, знания Его восполняется, по милости Божией, ниспосланием грамоты: «И от сего навыкше, да по ней воспоминают сим прежняя Божия благоволения, и известны будут истинне^».
В связи с отсутствием фундаментальной размежеванности между состоянием «в праведности и Богообщении» и состоянием отчуждения от Бога — с некоей пелагиански окрашенной приглушенностью качественного различия этих состояний — находится в тексте мифа и описание человека. С одной стороны, его первоначальные достоинства сохраняют определенную силу и в отчужденном от Бога положении, с другой — на само первозданное состояние как бы отбрасывается тень будущего недостоинства и несовершенства. Надо заметить, например, что в исконном (XV века) тексте «Написания о грамоте» в качестве изначальной характеристики человеку усвоивается смертность35, причем — наряду с безгрешностью (конечно, тем самым существенно морализованной, оторванной от онтологического основания).
О том, что существенные качества первозданного человека сохраняются, становится известным в интересующем нас тексте из того, как он отвечает на вопрос: «Что прежде бысть, грамота ли от ума состроена, или ум от грамоты состроен?» Несмотря на то, что речь идет уже о «падшем» состоянии, текст мифа безоговорочно утверждает: «От ума грамота состроена, понеже Бог созда человека по образу Своему и по подобию. По образу, убо разумна чувствы, а по подобию, безсмертна душею. (^) Бог, дав человеку разум, дает ему стяжа-ти разумнаго ум, да умом все совершает. По сему и грамота состроена от ума человеческаго, Божиим промыслом, по многих летех от создания человеческа-го; а ум от грамоты прежде не состроен. Всещедрый Бог егда человека сотвори, тогда и ум ему дарова. Но обаче грамотою собирается ум памяти ради»36.
Как видим, речь в вопросе о происхождении грамоты идет уже не столько о богооткровенном даре, сколько о соответствующем Промыслу, но все же человеческом изобретении, или — одно приравнивается к другому: качество и достоинство пророческого дара усвоивается творческой мощи человеческого интеллекта. Вместе с тем, и сотериологическая характеристика грамоты существенно преобразуется: кроме того, что она изначально была свободна от традиционно понимаемой темы искупления, с его христологически выверенным смыслом37, эта сотериологическая характеристика смещается от «грамоты — Откровения» к «грамоте — науке (знанию)» с усвоением последнему пророческих функций. Грамота в финале сказания — мифа о ней — уже не Священное Писание, не письменность только и не одна только грамматическая мудрость, но универсальное знание: «грамота обдержит учения многа».
«Такова есть грамота, — читаем в тексте сказания, — не может ея минути ничтоже, еже есть в разуме, кроме тех, ихже не леть человеку глаголати. А еже возможно глаголати человечески, то все грамотою известуется; понеже есть грамота от Бога талант неоскудеваемый. Грамота есть толь угодна: мудрость многа, учение богоблаженное: изяществу навыкновение, невежествию искоренение^»38.
Справедливо заметил в свое время Н. И. Смирнов, первый исследователь «Наставления» Симеона Полоцкого, что «ученый схоласт XVII века не мог^ ограничиться одною религиозною точкою зрения, а потому переносит теперь свое рассуждение на почву философскую, научную^»39.
Но существенно важно, что, переходя на эту «научную почву», текст, используемый Симеоном, не оставляет и точку зрения религиозную, не упускает из виду сотериологическое задание, теперь уже осуществляемое с помощью грамоты как универсального учения. «Сим учением, — говорится в тексте, — приходят человецы в страх Божий, и в древнее свое достояния пер-вородие, обновление Божия благословения и сотворения»40.
В исходном тексте «Написания о грамоте» (XV века) вместо «сотворения» стоит гораздо более выразительное «сынотворения». Симеон Полоцкий несколько смягчает, но совсем не изменяет в тексте его сотериологию: спасение без Христа, без искупления, силою одною науки, приобретающей при этом духовные, в частности, «пророческие» качества.
«Грамота есть недоведомых таин откровение, неразумению разрешение, истинне свобождение. Грамота есть бывших и минувших воспоминание; настоящим же и пребывающим предложение, разуму исправление, грядущим же, будущим и последним извещение и наказание и память превечная»41. Уже издатель «Наставления» Симеона Полоцкого в 1810 году в этом месте нашел возможным заметить: «Умозрительную философию или метафизику, историю, нравоучение и прочие части наук и познаний человеческих заключает Полоцкий под общим названием Грамоты»42.
Особенно симптоматичен, на наш взгляд, заключительный футурологический аспект формируемой в тексте мифа концепции Знания: научно-историческое здесь переплетено с пророчески-харизматическим, усвоивает значение и качество последнего. «Грядущее, будущее и последнее», вписанное в перспективу истории, завершающее временную панораму движения от «бывшего и минувшего» через «настоящее и пребывающее», видится именно в перспективе , так что «последнее», при всей своей религиозной окрашенности, как будто теряет качество эсхатологической внезапности и становится досягаемым изнутри исторического знания.
Такой футурологии чуждо апокалиптически обостренное сознание, как последней четверти XV века, когда, вероятно, и появляется текст «Написания о грамоте», так и времени самого Симеона Полоцкого, даже именно (!) времени составления данного текста «Наставления»: ведь 1666 год, согласно еще Кирилловой книге (1644 г.), связывался с приходом антихриста.
Можно сказать, что в обсуждаемом нами тексте эсхатологизму эпохи (как XV-го, так и XVII-го веков) соревнует прогрессизм, существенно заинтересованный в освоении исторического будущего с помощью универсального знания. Ближайшим образом конфликт названного эсхатологизма с опытом научного подхода к истолкованию религиозных текстов обнаружил себя в Прениях о вере того же 1644 года, года издания Кирилловой книги. Во время этих Прений на упреки протестантского пастора в отсутствии, как сказали бы сейчас, филологической культуры («будто мы ничего не разумеем в книгах») Иван Наседка отвечает: «Нас, овец Христовых, не премудряйте софистеками своими, нам ныне николи философства вашего слушать: уже бо кончина веку прииде, и суд Господень при дверех, и всем время воздаяния есть готово комуждо по делом его»43.
Совсем напротив, в тексте сказания о грамоте , мыслимой как универсальное научное знание, она приобретает значение решающего средства и в опыте духовного самоопределения человека: «Грамота есть самовластие умнаго, вольное разумение и разлучение добродетели и злобы»44.
Таким образом, тончайшая область человеческой свободы («самовластия») выверяется, формируется и так или иначе осуществляется — также, как бы помимо нравственно-аскетических усилий в собственном смысле — в силу самой научной осведомленности. Именно грамотою устрояется путь «жительству», она «объявляет» или обнаруживает его «духовный», «душевный» или «плотской» образ45.
Поскольку «самовластие», как говорится в начале обсуждаемого текста, усвоено человеку от создания, грамота, отождествляемая с «самовластием», оказывается соестественной человеческой природе, возводящей ее «в древнее свое достояния первородие».
Как раз в связи с темой «самовластия», особенно в ее «научно-грамматическом» изводе, уместно перейти к характеристике культурно-исторического и религиозного контекста, плотно прилегающего в XV веке к «Написанию о грамоте».
Названный контекст связан с деятельностью участников «ереси жидов-ствующих» — той ее ветви (или части), которую возглавлял дьяк Федор Васильевич Курицын. «Написание о грамоте» в значительной части рукописных сводов примыкает к программному тексту Курицына — «Лаодикийскому посланию» и, по мнению ряда исследователей, связано с ним по смыслу, а возможно, и вышло из-под пера самого Федора Васильевича или кого-то из круга его единомышленников.
А. Ю. Григоренко обнаружил рукопись с наличием приписки к отрывку из «Написания о грамоте», указывающей на связь его с «Лаодикийским посланием»: «Что есть грамота и что есть ея строение? (^) И егда начат человек плодитися и множитися, и начаша от него человецы. Сия все писано в послании Лаодикийском. Последняя же речь конца сего писания философии мудрец (выделено мною. — А. М.)»46.
Текст Лаодикийского послания таков:
«Душа самовластна, заграда ей вера.
Веры наказание ставится пророком.
Пророк старейшина исправляется чудотворением.
Чюдотворения дар мудростию усиляет.
Мудрости сила фарисейство жительство.
Пророк ему наука.
Наука преблаженная.
Сею приходим в страх Божий.
Страх Божий начало добродетели.
Сим сооружается душа»47.
«Писец, — по наблюдению А. Ю. Григоренко, — очевидным образом, давал понять о близости содержания двух памятников: “Лаодикийского послания” и “Написания о грамоте”. Оба памятника начинают с идеи самовластия и в результате цепочки рассуждений заканчиваются тем же тезисом. Открывает путь к “сооружению души” в двух сочинениях “преблаженная наука”, то есть грамота. Помимо этого “Лаодикийское послание” и “Написание о грамоте” связывает и общее для них рассуждение о пророчествах. В “Лаодикийском послании” в качестве пророка выступает наука: “Фарисейское жительство. Пророк ему наука”. Подобные же идеи содержит и “Написание о грамоте”. В нем говорится, что грамота есть предсказание и познание будущего^ и является, помимо этого, “объявлением” (то есть пророчествует) “троему жительству”»48.
Сближение и ассимиляция «науки» и «пророчества» в названных сочинениях, восходя в широкой культурной перспективе к вопросу о соотношении светской образованности и Откровения, находят выразительное соответствие и в некоторых других текстах литературы из круга «жидовствующих». Одно из основных переводных произведений этого круга — «Логика сиречь Словесница», содержащая, в частности, трактат Маймонида «Логические термины». Современный исследователь Моше Таубе обращает внимание, что в славянском переводе послесловия этой книги, сравнительно с арабским и еврейским, иногда имеют место дополнения к тексту оригинала. В одном из таких дополнений развертывается и обсуждаемая нами тема: «А мудрость сию исполнил Аристотель голова всем философом первым и последним, подлуг смыслу мудрецов Израилевых, аже по пленении не нашли своих книг, а спустилися на его разум иже ровен во пророческих фундаментех. Зане невозможно есть абы пророк не полон был в седми мудростех, а овсем в логице (и в) пути их»49.
«Мысль о том, — отмечает названный исследователь, — что научная мудрость была в распоряжении древних мудрецов израильских, а вследствие изгнания была утеряна, присутствует» в наследии средневековых еврейских книжников. Так, например, в «Книге степеней» Фалакера утверждается: «Вне сомнений Соломон, светлой памяти, сочинил книги о мудрости природы (физике) и богословии (метафизике), только вот эти книги были утеряны в изгнании»50.
С другой стороны, поскольку «разум (Аристотеля) ровен во пророческих фундаментех» (равен в своей основе мудрости пророков), наука приобретает религиозное значение, функционально сродное пророческому.
«Таким образом, очевидно, — пишет Моше Таубе, — что в послесловии переводчик прибавил к тексту Маймонида раздел, придавший всему сочинению идеологическую окраску гуманистического, прогрессивного и универсалистского толка^»51.
В духе этого же толка должна быть прочитана и тема «самовластия», столь многозначительно заявленная в литературе «жидовствующих»52. Само по себе выражение «душа самовластна» в зачине «Лаодикийского послания» Ф. В. Курицына, конечно, не является чем-то совершенно исключительным в христианской культуре русского Средневековья. Однако в контексте Послания в целом, при всей его загадочности (а может быть, и в связи с нею), внятно просматривается печать такой концептуальной самостоятельности и новизны, что и тема «самовластия» звучит здесь не как напоминание об общеизвестном, а как призыв к новому самоопределению человека. В какой-то мере истоки этой новизны во второй половине XV столетия восходят к европейской гуманистической культуре53.
Как сообщает преподобный Иосиф Волоцкий в связи с исследованием бытования «ереси жидовствующих», наедине с ним великий князь Иван III «молвил: “^ А и яз, деи, ведал ереси их”. Да и сказал ми, которую держал Алексей протопоп ересь, и которую ересь держал Федор Курицын»54. Мы можем предполагать, в самом общем, конечно, смысле, что помеченное здесь различие внутри известного еретического движения обусловливалось и присутствием специфически гуманистических мотивов в московском изводе ереси, который формировался под началом дьяка Федора Васильевича Курицына.
Трудно представить, что посольство в 1482 году этого выдающегося дипломата в Венгрию имело для него самого одни только дипломатические последствия. Во-первых, дело в том, что посольство значительно затянулось: успешно заключив союзный договор с королем Венгрии Матвеем (Матяшем) Корвином, Федор Курицын на обратном пути попадает в плен к турецкому султану и, судя по всему, освобождается, по настоянию венгерского короля, лишь в 1486 году55. Во-вторых, с учетом, при всех обстоятельствах, достаточно длительного (может быть, около года) пребывания Ф. В. Курицына в самой Венгрии, надо принять во внимание содержание культурной среды королевского двора этой страны. В свое время А. А. Зимин заметил, что «в бытность Ф. В. Курицына в Молдавии и Венгрии (1482–1484 гг.) там протекала деятельность так называемых чешских братьев. Общение с гуситами, — по предположению историка, — могло как-то повлиять на формирование взглядов просвещенного посольского дьяка»56. Нам хотелось бы, в данном случае, указать на гораздо более близкий, непосредственный и притом недооцененный в научной литературе источник возможного влияния на Федора Курицына, именно — культурную жизнь королевского двора.
Как оказывается, «королевская канцелярия была рассадником новых идей»: «на протяжении всего правления Матяша Корвина (1458–1490) его канцелярию возглавляли (с небольшим перерывом после заговора) прелаты-гуманисты, среди которых особенно выделялась фигура Петера Варади. Огромное влияние на приобщение Матяша к культуре Ренессанса оказали близкие ему люди, первые венгерские гуманисты Иван Витез и Ян Панноний, так же возглавлявшие королевскую канцелярию. (^) Наибольшую известность из начинаний Матяша I в области культуры приобрела созданная им крупнейшая в Европе дворцовая библиотека^ В собрании нашли себе место труды античных, средневековых (в том числе отцов Церкви и схоластов) и ренессансных авторов по философии, истории, филологии, риторике, астрономии, медицине, теологии, географии, военному и строительному искусству, поэтические сборники^
Благодаря усилиям Франческо Бандини, друга Марсилио Фичино, с 1476 года при королевском дворе действовал неоплатонический кружок»57.
Что касается Марсилио Фичино, главы флорентийской Платоновской академии, то, согласно результату специальных изысканий, «самые ранние и прочные отношения установились (у него) с людьми науки и культуры из Венгрии или с итальянцами, надолго обосновавшимися в этой стране. Первым, судя по всему, свел знакомство с Фичино Янош Варади, фигурирующей в их переписке под именем Иоанна Паннония. (^) Связи с венгерской интеллектуальной и политической элитой, прерванные смертью Яна Паннония (1472 г.), были восстановлены в 1477 году, когда давний друг флорентийского платоника Франческо Бандини^ обосновался при дворе Матвея Корвина»58.
Неоплатонически ориентированные штудии интеллектуалов придворного круга, конечно, происходили в неразрывном, хотя иногда и противоречивом, единстве со всем комплексом гуманистической проблематики. При всем ее разнообразии исходное и определяющее значение ренессансной мысли связано было как раз с темой «души» и «самовластия» (свободы) или, в конце концов, «самовластия души».
Душа, согласно Фичино, «величайшее чудо в природе. Ибо, прочие вещи под Богом порознь в себе суть нечто единое, а эта сущность является одновременно всем. Она несет в себе образы божественных начал, от которых зависит сама. Она несет в себе устройства и образы низших начал, которые^ она сама производит. И поскольку эта сущность является средней между всеми, то и наделена силами всех. Если это так, то эта сущность имеет способность переходить во все. И поскольку она сама является истинным соединением мироздания, то, когда переходит на одни начала, она не оставляет другие и постоянно сохраняет совокупность мироздания, так что по справедливости может быть названа центром природы и всеобщим посредником, связующей цепью вселенной, лицом всех вещей, узлом и скрепой мира»59.
Таким образом, «душа» — «срединная сущность», посредствующая во всем; как «разумная способность», она «не определена к чему-нибудь одному, поскольку свободно перемещается вверх и вниз»60. Так что, как отмечает современный исследователь, говоря об антропологическом измерении флорентийского платонизма, «по природе своей человек — это чистая возможность. При рождении в нем заложены небесным отцом семена любых видов сущего, зародыши любых проявлений жизни. Дальнейшее зависит только от его выбора и воли. «Свободный и славный мастер», он сам осуществляет себя, «мнет и кует себя по угодной ему форме»61.
В глубоком созвучии с этими представлениями М. Фичино находится антропология Пико делла Мирандолы, еще более ярко и радикально развивающего тему свободы. Своего рода гимном человеку в его свободе звучит его знаменитая «Речь о достоинстве человека»62. «Согласился Бог с тем, — говорится здесь, — что человек — творение неопределенного (indiscretae от indiscrete — безразлично, одинаково, в равной степени. — А. М.) образа, и, поставив его в центре мира, сказал: “Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные”»63.
«Казалось бы, — замечает Л. Баткин, — вертикаль (различие верха и низа. — А. М.) сохраняется. Но это не совсем так, хотя бы потому, что в человеке крайности встречаются на равных»64. В таком случае «неопределенность» (а точнее, безразличие, равенство в отношении к форме и смыслу своей реализации) образа человека совпадает с его свободой, осуществляется как такая именно — свобода выбора. Человек не только не предопределен к чему-либо (включая нравственно-религиозное измерение реальности), но и не предпослан, не расположен.
Коррелируя, конечно, с христианской традицией, будучи существенно религиозной, такая концепция ощутимо с традицией и разноречит. Прежде всего, свобода выбора, возведенная в гуманистическом сознании в достоинство абсолюта, пренебрегает последствиями грехопадения, не признает первородного греха. Для Пико, по наблюдениям Э. Кассирера, «человеческая греховность не лежит несмываемым пятном на человеческой природе». Напротив, «она является обратной стороной, коррелятом чего-то иного и высшего. Человек должен быть способен ко греху для того, чтобы стать способным к добру. (^) Таким образом, для Пико падение человека не просто вина — это скорее выражение той неразрушимой силы, которая дает для него возможность достигнуть блага»65.
Эта абсолютизация возможности выбора у Фичино, например, соотносится с «возможностью заблуждаться» и в ней находит свою конкретизацию. «Способность заблуждаться, — полагает Л. Баткин, — у Фичино выступает как высокая прерогатива, как признак человеческого достоинства, как знак благородства! Ибо тем доказывается свобода воли и выбора. Природа человека, следовательно, в последнем счете — в том, чтобы преступать ее пределы, в самодвижении, в нескованности никакой определенностью, в отсутствии собственной природы»66.
В западной христианской мысли, а может быть, и в пред- и около-христи-анском сознании, были предпосылки к тому, чтобы противопоставить «свободу» и «природу», а с этим противопоставлением сосредоточить понятие о свободе по преимуществу (а в ренессансном гуманизме уже и исключительно) на свободе решения , свободе выбора, которая необходимо предполагает возможность заблуждения67.
Однако совсем иначе ориентировано богословие восточно-христианское. «Если к тому, — пишет преподобный Максим Исповедник в комментариях к св. Григорию Богослову, — что имеем как проявление сущности и логоса, направимся простым устремлением согласно логосу и природе, то и мы, безо всякого исследования, которому одному только принадлежит ошибаться и заблуждаться, боговидно, насколько это возможно, познаем все, более не держась по причине неведения за движение (ума) вокруг этих предметов, как соединившие великому Уму и Слову, и Духу свой ум и слово, и дух, лучше же сказать, — всего себя всему Богу, как Первообразному Образу»68.
«Простое устремление согласно логосу и природе», «безо всякого исследования», то есть еще или уже не подлежащее необходимости выбирать, и находится, по мысли св. Максима, в области подлинной первичной свободы, не противопоставленной природе и не манипулирующей ею, а разумно возводящей ее в горизонт свершения69.
Эта «природная воля» (θελημα), будучи свободной («самовластной»), способной определяться изнутри себя, как известно, отличаема у преподобного Максима и в позднейшем богословии от «намерения» (γνωμη) или выбора, представляющего собой не какую бы то ни было «способность» (или «качество») человеческого естества, а только модус (образ и характер) его личностно окрашенного осуществления. Γνωμη как раз и находится в пространстве исследования, взвешивания, прикидки, подготавливающих «преднамеренный выбор» как таковой. «Но преднамеренный выбор, — говорит преподобный Максим, — не есть^ свобода воли (εξουσια). Ведь преднамеренный выбор — это^ стремление, прикидывающее, что в нашей власти сделать; а свобода воли — это данная нам власть делать то, что зависит от нас, или беспрепятственная возможность пользования тем, что в нашей власти, или нерабское стремление к тому, что в нашей власти. Не то же самое, значит, свобода воли и преднамеренный выбор^ и он только выбирает из, — а она использует — то, что в нашей власти, и то, что зависит от того, что в нашей власти^»70.
Представление о свободе как пространстве и образе осуществления разумной природы, в отличие от выбирающей воли, присутствовало в восточно-христианском богословии задолго до преподобного Максима Исповедника. Так, в полемике с арианами св. Афанасий Великий писал: «Усмотрели вы, что противоположно хотению, а что важнее и выше, того не приметили. Как хотению противополагается несогласное с волею, так выше и первона-чальнее свободного избрания — то, что в естестве»71.
Превосходство и первоначальность того, «что в естестве», существенно отличает восточно-христианскую мысль от западной, особенно в ее гуманистической версии. Понятию о некоей природной беспредпосылочности, о равенстве (или безразличии) для человека возможности движения как «вверх», так и «вниз», в восточном богословии противопоставлено, в частности, учение о «естественных добродетелях». Так в «Диспуте с Пирром» у преподобного Максима Исповедника мы читаем: «Что же, добродетели природны? — Да, природны. — А если природны, то почему не присущи в равной мере всем, кто одной природы? — Они равно присущи всем, кто одной природы. — Откуда же в нас такое неравенство? — Оттого, что мы неодинаково исполняем дело природы. Так что, если бы все мы в равной мере, для чего и возникли, исполняли бы дело природы, то тогда во всех являлась бы как равная природа, так и добродетель, не приемля большего или меньшего. — Если природные свойства присущи нам не от упражнения, а от создания, а добродетель природна, то почему мы трудом и упражнением приобретаем добродетели, которые естественны? — Упражнения и сопровождающие его труды изобретены любителями добродетели, только чтобы отделить обман, занесенный в душу ощущением, а не для того, чтобы только теперь принести добродетели извне — ведь те, как сказано, вложены в нас с создания. Поэтому, как только обман будет окончательно смыт, душа сразу же обнаруживает блеск природной добродетели. Ведь кто не глуп, тот разумен, а кто не труслив и не дерзок — мужествен, и не развратный — целомудрен, а не неправедный — праведен. (^) Следовательно, после отнятия противного природе обычно обнаруживается только то, что соответствует природе, как после утраты ржавчины — природный блеск и сверкание железа»72.
Согласно восточно-христианской мысли, человек — не творение «неопределенного (безразличного) образа», не «чистая» в своей замкнутости природа, но открытая, расположенная к добру, «делающаяся Богом» сущность. Бог творит человека, как свидетельствует преподобный Иоанн Дамаскин, «в общении с Собою» — «непричастным злу, прямым, нравственно добрым, беспечальным, свободным от забот, весьма украшенным всякою добродетелью, цветущим всякими благами (^) живое существо, здесь, то есть в настоящей жизни, руководимое известным образом и переходящее в другое место, то есть в век будущий, и — высшая степень таинства! — вследствие своего тяготения к Богу делающееся богом; однако, делающееся богом в смысле участия в божественном свете, а не потому, что оно переходит в божественную сущность»73.
Как очевидно, человек сотворен в динамике, в движении к Богу, в расположенности к добру и, вероятно, памятуя слова преподобного Максима Исповедника, «если к тому, что имеем как проявление сущности и логоса, (направился бы) простым устремлением согласно логосу и природе, то и^ безо всякого исследования, которому одному принадлежит ошибаться и заблуждаться, боговидно, насколько это возможно, (познал бы) все^»74.
Не значит ли это, что человек в своем первичном этосе, до грехопадения, будучи самовластным (обладая свободой воли) мог, однако, избежать γνωμη — не впасть в состояние выбирания-исследования?75
Во всяком случае, экзистенциальный промежуток между заповедью Творца и «Нет, не умрете» диавола нельзя, наверное, не отличать от последующей истории и, тем более, истории после грехопадения. Вот как говорит о состоянии человека в этом «промежутке» св. Григорий Богослов: «Поелику нетленный Сын создал Своего человека с тем, чтобы он приобрел новую славу и, изменив в себе земное в последние дни, как бог, шествовал отсюда к Богу, — то и не предоставил его собственной свободе и не связал его совершенно, но, вложив закон в его природу и напечатлев в сердце добрые склонности, поставил среди вечноцветущего рая, хотя в таком равновесии между добром и злом, что он мог по собственному выбору склониться к тому или другому, однако же чистым от греха и чуждым всякой двуличности»76.
Прежде всего, опять же в принципиальном отличии от гуманистического «волюнтаризма» св. Григорий говорит, что в природу человека «вложен закон» и «в сердце добрые склонности», хотя они и «не связывают (человека) совершенно», не принадлежат его природе просто как часть ее самой. Человек призван осуществить экзистенциально (но не эссенциально) усвоенные ему «добрые склонности», свободно. Но эта свобода еще не приобрела (а скорее, не впала в) состояние выбирание между добром и злом в собственном смысле: гномической двойственности («двуличности») в ней еще нет. Да, человек поставлен Богом «в равновесии» или «на перевесе» (αμφιταλαντον), «смотря куда склонится» (οπη ρεψειε δοκευων), но ни слова «выбор», ни выражения «между добром и злом» в оригинальном тексте св. Григория Богослова нет77.
Ведь нет еще в человеческом мире и самой этой нравственно-значимой двойственности «добра и зла», которая станет реальностью после грехопадения. Как говорит митрополит Антоний Сурожский, «если мыслить в библейских категориях, вот что мы видим: все сотворенное Богом было добро, потому что было в Боге, все было гармонично, потому что было совершенно послушно воле Божией, в гармонии с ней. Зло в порядке этих первых глав и многих других ветхозаветных отрывков предстает не нравственной категорией, не категорией лучшего и худшего, добра и зла, оно — познание вещей вне Бога или противостоящее Богу. (^) Так что в этом ветхозаветном отрывке нам дается предостережение не против желания знать, что есть добро и зло, что истинно и неверно в категориях нашего мира, каким мы его знаем, а в категориях Рая, то есть: все находится либо в Боге, либо вне Его, а быть вне Бога для тварного существа — смерть и небытие»78.
Некоторые современные исследователи, размышляя в связи с богословием преподобного Максима о Гефсиманском борении Спасителя, предлагают, с учетом абсолютной свободы Иисуса Христа от гномической двойственности, говорить, в данном случае, о том, что Господь «осуществил выбор без выбирания»79.
Всецело отождествлять состояние человеческой природы Христа с состоянием первозданного Адама недопустимо, однако соответствие между ними есть: может быть, оно сказывается для человека — в возможности, а для Господа — в естественности, «выбора без выбирания», у Господа — по силе ипостасного единства (а значит «невозможности грешить»), у человека в Раю — по силе первоначальной целостности (а значит, «возможности не грешить»). Повторяем, речь идет не о тождестве, а только о соответствии Адама Христу, соответствии, в котором отличие первозданного человека от нас есть уже его сближение со Христом.
Во всяком случае, если вернуться к тексту св. Григория Богослова, «чистота (или нагота) от всякого греха», свойственная первозданному человеку, включает в себя, по мысли святителя, и свободу от «всякой двуличности» (αμφιθετοιο). «Αμφιθετος» — буквально «двойная чаша, которую можно ставить (подобно песочным часам), как верхней, так и нижней плоскостью». Другими словами, в данном случае, «верх» и «низ» или, если вспомнить Фичино и Ми-рандолу, обе «крайности встречаются на равных»80.
Доведенный до конца, т. е. оторванный от «логоса природы», а потом и противопоставленный ему как абсолютная, близкая к произволу, возможность, гномический вектор воли начинает существенно определять западное сознание ренессансной эпохи. «Самовластие», изначально присущая разумной твари свобода воли, полностью отождествляется с «выбором». Парадоксальным образом удел, которым оказалась связанной свобода после грехопадения — необходимость выбирать мыслится как область богоподобия человека, причем самая катастрофа «первородного греха» приглушается, отступает на периферию истории, а с ней вместе — тема «испорченности» человеческой природы и тема искупления. Сотериология гуманизируется.
Этой гуманизации религиозного сознания, как нам представляется, существенно подверглась и русская культура, как в исходе XV-го, так и во второй половине XVII века.
С учетом всего сказанного обратимся еще раз к тексту Симеона Полоцкого, где он говорит о природе человека. Н. И. Смирнов в своих комментариях к «Наставлению» Симеона увидел здесь смысловую близость с рассмотренным нами выше текстом св. Григория Богослова. Близость, конечно, есть, но есть и принципиальное отличие.
Если у св. Григория, как мы стремились показать, самовластие еще свободно от необходимости выбирать, находится в горизонте извне недетерминированного соответствия «логосу природы», то у Симеона Полоцкого оно охарактеризовано подчеркнуто гномически.
«Человек есть самовластен (то есть он может избирать добро и зло. В тексте публикации не совсем ясно, принадлежит ли эта конкретизация самому Симеону или издателю. Так или иначе, это уточнение согласуется со смыслом общего контекста фразы. — А. М.), свободен, прав, безпечален, в велицем благоденствии создан». Здесь в значительной мере воспроизводится представленная нами выше антропология преподобного Иоанна Дамаскина, с тем в ней, что можно назвать «преимуществом блага». Далее у Симеона — заметный диссонанс к этой теме «преимущества блага». «Обаче (однако, напротив того. — А. М.), — пишет он, — посреде благословения и проклятия, аки на перевесе поставлен, посреде худости и величества, потому что он составлен от тела и души»81. Сам Симеон этим «обаче», собственно, и обращает внимание на, по меньшей мере, неполное совпадение первичного состояния «благоденствия» со вторичной по отношению к нему необходимостью выбирать, соответствующей уже уделу падшего человека. Но первичное и вторичное в тексте Полоцкого принципиально не различены: вторичное (необходимость выбирать) передается как конкретизация первичного («в велицем благоденствии создан»), относится к преимуществам первоначального блага.
В этом же гномическом смысле истолковано у Симеона Полоцкого содержание «самовластия» и в характеристике «души».
«Душа, — говорится в катехизической части «Наставления», — есть существо безсмертно, духовно, несложно, безплотно, невидимо, умно. Ум же имать в себе, яко же в теле око самовластно. Свободно, извратно, еже хочет и творит добро, или зло»82. Употребление непривычного в этом контексте слова «из-вратно» (отождествляющего свободу с «изменчивостью») усиливает гномическую интерпретацию самовластия.
В контексте такой, прежде всего ренессансной, интерпретации звучит и знаменитое «душа самовластна» в «Лаодикийском послании» Ф. В. Курицына, существенно гуманизируя и универсализируя характер исповедуемой им ереси.
Если богословско-философское содержание темы «самовластия» в Послании присутствует в непрозрачном, свернутом, энигматически потаенном виде, то в области самой общественно-политической и религиозной реальности актуализация указанной темы (как на Западе, так и на Руси) достаточно наглядна.
«Как известно, — писал Д. И. Чижевский о западном опыте политической версии «самовластия», — Ренессанс открыл пути свободной индивидуальности. Результаты этого открытия были отчасти сомнительны: типичными представителями «свободной личности» Ренессанса были в конце концов тираны, господствовавшие в итальянских городах, и даже просто разбойники, получившие звучное имя «конвистадоров». Идеологом политической мудрости стал Макиавелли^»83.
С таким несколько неожиданным, на первый взгляд, заключением согласуется и наблюдение одного из специалистов в области проблематики итальянского Возрождения Л. М. Баткина. Говоря о гуманистической идее «универсального человека», названный исследователь пишет: «Эта идея лучше всего выражена в известных сентенциях Пико делла Мирандолы о том, что человек — “творение неопределенного образа”, у которого нет “ничего собственного”, никакого “точного места” или “своего облика”, ничего присущего только ему одному, словом, никакой “ограниченной природы”, законы которой стесняли бы его поступки. Он в силах “быть тем, чем хочет”.
Мудрый государь у Макьявелли, кажется, именно таков?
Он не связан никакой конкретной природой, он какой угодно в суждениях и поступках, во всяком случае относящихся к государственным делам. Он осваивает любую обстановку и готов на любое средство, если оно полезно здесь и сейчас. Любое — это значит именно любое. Поэтому какие бы то ни было моральные ограничения сделали бы государя менее гибким и ловким правителем, менее “мудрым” и “доблестным”, короче, менее универсальным^»84.
Что касается древнерусских реалий рассматриваемой эпохи, то, если, например, «Повесть о Дракуле», предположительно атрибутируемая Федору Курицыну, и не может быть однозначно вписана в круг текстов, оправдывающих произвол властителя, то его деятельность как дипломата и советника Ивана III («того бо державный во всем послушаша», — писал о Курицыне преподобный Иосиф Волоцкий), деятельность эта весьма способствовала оформлению феномена «самодержавия» как политической версии «самовластия».
Прежде всего, известно, что «31 января 1489 года» именно «великого князя диак Федор Курицын» выходил с ответом к «цесареву послу Николаю
Поппелю, прибывшему от Максимилиана, короля Римского и наследника императора». Посол предлагал великому князю Ивану III принять титул короля, который, по его словам, «уделяти мочь (власть) имает государь наш царь Римский». На это предложение великий князь уполномочил своего дьяка передать послу принципиальный ответ, «что еси нам говорил о королевстве, если нам любо от цесаря хотети кралем поставлену быти на своей земле, и мы Божьей милостью Государи на своей земле, изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога^а поставления как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим»85. «Итак, — заключает видный историк, — фундаментальный принцип политического суверенитета великой Российской державы, сформулированный Иваном III, был провозглашен устами Федора Васильевича Курицына^ Видимо, он пользовался полным доверием государя всея Руси, вводившего его в курс наисекретнейших переговоров и поручавшего делать важные государственные заявления»86.
При этом обращает на себя внимание то, что именно Иван III последовательно стал именоваться «самодержцем»: впервые, вероятно, в «Изложении Пасхалии» митрополита Зосимы 1492 года — как «государь и самодержец всея Руси»; затем, при поставлении на митрополичью кафедру троицкого игумена Симона в 1495 году, в ответном слове митрополита — «самодержавным государем и владыкой» и «самодержцем»; и наконец, в чинопоследовании коронации внука Димитрия — дважды87.
Современный историк отмечает: «Термин самодержец в конце XV-го века употреблялся преимущественно в нарративных источниках, а не в актах, поэтому нельзя говорить о его принятии в качестве титула. Это была лишь апробация еще одного варианта «государева имени», носящая скорей характер идеологической декларации автократии московского монарха»88.
С учетом этого мы бы сказали, что такое положение термина «самодержец», такое его еще не связанное автоматикой политического ритуала употребление особенно выразительно, так как предполагает большую степень сознательности и осмысленной личной инициативы. Кроме того, термин, в данном случае, сохраняет еще живую, не элиминированную политико-юридической функцией связь с его исконной онтологией, с той или иной интерпретацией свободы воли.
Уже у св. Григория Нисского понятие самовластия, царственности и само-державности — рядоположны и однородны по смыслу: «Ибо душа обнаруживает собой царственность^, потому что, не имея владыки над собой и будучи самовластной, она самодержавно располагает своими хотениями (είναι και αυτεξουσιον, ιδιοις θελημασιν αυτοκρατορικως διοικουμενην)»89. При таком понимании онтология термина «самодержец» в христианской традиции ближайшим образом сказывалась в его аскетологическом употреблении — как способность владеть собой, что опять же совпадает и с понятием самовластия. В русской книжности, например, в Изборнике Святослава 1073 года находим: «Пытаем, самодержец ли страстем е помысл^»90.
Политическая версия «самовластия-самодержавия», уже в силу своей экстенсивности, всегда несла в себе риск искажения указанного аскетического задания, опасность отрыва от него, с чем и связано перерождение в опыте реальной истории «самовластия» в свою нравственно-аскетическую противоположность — «неограниченный произвол»91.
В традиционном сообществе, как, например, в случае с Иваном III, признаки такого перерождения достаточно просты и очевидны: в первую очередь, они проявляются в разноречии поведения властителя с привычным (а значит, аксиологически безукоризненным) укладом жизни.
Самое сближение великого князя с представителями ереси «жидовствую-щих», долгосрочная снисходительность и даже покровительство по отношению к ним — уже слишком красноречивый факт, свидетельствующий о разрыве с традицией, притом — в ее вероучительном содержании92.
Выразителен, если доверять В. Н. Татищеву, опиравшемуся на источники, не сохранившиеся до нас, и отказ Ивана III принять перед кончиной монашеское пострижение. «Митрополит же нача его увесчевати, да восприимет святый ангельский чин. Он же рече: “Что мне пользует пострижение влас, их же множицею стригох, и ростяху паки; или что пользует черная одежда, юже и преж носих; асче не будут дела моя Господу Богу приятна, и ныне уже не имам время благо что сотворити, но едино есть, еже каятися в гресех своих и смиритися, их же неправедне ведением и неведением оскорбих”. И повеле духовную читати во услышание»93.
Такой отказ, помимо того, что он вполне созвучен анти-монашеским настроениям «жидовствующих»94, обнаруживает и невосприимчивость великого князя к сакральной символике монашеского звания, которая в применении к мирскому властителю как раз и указывала как на условие и ориентир его служения на необходимость нравственно-аскетического ограничения власти, нравственно-аскетическую защиту ее от «удобопреклонности» к произволу.
Отрыв от традиции обнаруживается и осуществляется как воля к новизне, готовность пренебречь привычным, освященным авторитетом старины, укладом жизни. Вот как, например, воспринимал архиепископ Геннадий Новгородский и другие современники инициативы Ивана III, связанные с постройкой Успенского собора и ей сопутствующей деятельностью: «А ныне беда сстала земскаа да нечесть государскаа великаа: церкви старые извечные выношены из города вон, да и манастыре старые извечные переставлены. А кто веру держит к святым Божиим церквам, о том писано сице: “Освяти любящаа благолепие дому твоему и тех прослави божественою твоею славою”. Да еще паки сверх того и кости мертвых выношены на Дорогомилово: ино кости выносили, а телеса ведь туто остались, в персть разошлись; да на тех местех сад посажен. А Моисей писал во Втором Законе: “Да не насадиши себе садов, ни древа, подле требника Господа Бога твоего”. А господин наш отец Геронтий митрополит о том не воспретил: то он ведает, каков ответ за то даст Богу, а гробокопателем какова казнь. Писана, что будет въскресение мертвых, не велено их с места двигати, опроче тех великых святых, коих Бог прославил чудесы, до Божиим повелением аггелскым явлением бывает пренесение мощем, на избавление людем и на утверждение и на почесть градовом. А что вынесши церкви, да и гробы мертвых, да на том месте сад посадити, а то какова нечесть учинена? От Бога грех, а от людей сором. Здесе приехал жидовин новокрещеной, Данилом зовут, а ныне христианин, да мне сказывал за столом во все люди: понаредился, деи, есми из Кеева к Москве, ино ми, деи, почали жидове лаяти: “Събака, деи, ты ся куды нарядил? Князь, деи, великий на Москве церкви из града все выметал вон” (^) А церкви Божии стояли колико лет? А где священник служил, рукы умывал, и то место бывает непроходно же; и где престол стоял да и жертвенник, и те места непроходны же. А ныне те места не огорожены, ино собаки на те места ходят и всякий скот»95.
Нельзя не упомянуть в связи с этою волею к новизне ее возможную ренессансную подоплеку: учение о, своего рода, незаконченности творения мира. Задолго до Пико делла Мирандолы было написано сочинение с похожим на его «Речь» названием: «О достоинстве и превосходстве человека». Его автор, Джаноццо Манетти, утверждал, «что благодаря выдающейся и исключительной остроте человеческого разума после первоначального и еще незаконченного (rudem) творения мира, видимо, нами все было изобретено, изготовлено и доведено до совершенства. Ведь наше, то есть человеческое, поскольку сделано людьми (все, что) зримо (^) наши^ — чтобы не говорить об отдельных вещах, поскольку они почти бесчисленны — все изобретения, наши — все виды различных языков и разнообразной письменности^ Ведь когда первые люди и их древнейшие наследники заметили, что они никак не могут жить сами по себе без взаимной поддержки, они изобрели некое тонкое и остроумное искусство речи^ Когда затем, с течением времени, человеческий род удивительным образом умножился и населил различные^ области мира, возникла необходимость изобрести буквы, с помощью которых мы могли бы уведомлять отсутствующих друзей о наших намерениях»96.
Кроме того, что значительная часть приведенного текста имеет заметное сходство с версией естественного происхождения «письменности» в славянском «Написании о грамоте» (во второй его половине), мы находим здесь и отождествление (с опорой на Аристотеля) мудрости с наукой, и сближение мудреца и правителя: «Ведь мудрость, по словам Аристотеля, есть знание и научное постижение вещей по природе наиболее ценных. (^) Прямой долг мудреца заключается в том, чтобы, благодаря исключительной мудрости, все, что делается, устраивать и упорядочивать, а также управлять»97.
Во всяком случае, по наблюдению О. Ф. Кудрявцева, «доктрина о том, что мир произведен ради человека и пожалован ему во владение и пользование, для Фичино и ренессансного гуманизма в целом утратила актуальность по сравнению с производной от нее идеей соавторства человека и Бога в созидании существующего порядка вещей. Человек не просто пользуется в своих выгодах тем, что находит вокруг; в дополнение к прежнему он творит новую реальность»98.
Эта «новая реальность» имеет, однако, и свой идеальный прото-тип: он может быть более или менее определенно локализован в историческом прошлом — и таков «золотой век» Ренессанса99, обновивший в XV веке античное культурное наследие; речь может идти и об осуществлении данного и пред-образованного в прошлом, но свершаемого ныне эсхатологического задания, и об этом, со значительной степенью достоверности, можно говорить в применении к эпохе Ивана III. Дело в том, что еретики периода его правления, судя по всему, с некоторым оптимизмом смотрели на ожидаемое многими в 1492 году время кончины века. Симптоматично, что, например, Предисловие к Изложению Пасхалии примерно декабря 1492 года, написанное не без основания заподозренным в «жидовстве» митрополитом Зосимой, вместо соборно определенного в этом же году «чаем всемирного пришествия Христова на всяко время», настаивает, говоря о «пасхалии на осмую тысящу лет», что именно «в ней же чаем всемирного пришествия Христова»100.
Архиепископ Геннадий Новгородский в Послании Иосафу Ростовскому выражает свою обеспокоенность эсхатологической проблематикой и, между прочим, говорит: «Да чтобы еси послал по Паисея, да по Нила, да с ними бы еси о том посоветовал: “Преидут три лета, кончается седмая тысяща”. Ино и яз слыхал у Алексея: “И мы, деи, тогды будемь надобны”. Ино еритици себе надежно чинят!»101
Любопытно, что в собственно иудейской традиции «именно 1492 год, задолго до его наступления, некоторые каббалисты провозгласили годом начала Избавления»102. Так что и «чин надежды», прикровенно соблюдаемый на Руси «жидовствующими» последней четверти XV-го века, очень мог быть хилиа-стически ориентирован103.
«Самодержец» в таком хилиастически окрашенном сознании сближается со своим идеальным прототипом: это может быть библейский Соломон (как, например, позднее у Л. Ф. Магницкого в характеристике Петра Великого), — во всяком случае, это «мудрый государь». А в применении к культурному контексту, формируемому «Лаодикийским посланием» и «Написанием о грамоте» (как и некоторыми другими текстами литературы «жидовствующих»), «мудрость» — это наука, перехватившая у религии пророческую инициативу.
В это время на Руси еще не декларируется определенно и последовательно значение «семи свободных мудростей», но искусство грамматическое заявлено в большой совокупности текстов конца XV-го — начала XVI-го веков104. А грамматика в ряде текстов мыслится как основа знаний, дверь, вводящая в полноту ведения. Именно такому пониманию следуя, уже в XVII веке Симеон Полоцкий напишет о грамматике в своем «Наставлении»: «Та убо называется правительница умная. / Не точию же, но и словесница благоразумная. / От ней обретается всякая премудрость и философия»105.
Неслучайно в программных сочинениях из круга литературы «жидовству-ющих» — «Лаодикийском послании» и «Написании о грамоте» — в качестве приложения имеет место и специально грамматическая часть. При этом обращает на себя внимание «философичность» (по наблюдению А. И. Клибанова) грамматической терминологии. В нашем случае особенно интересно употребление для наименования некоторых гласных букв термина «самодержец». Причем, как отмечает указанный исследователь, на фоне достаточно обширного круга грамматических текстов этот термин «содержится только в грамматических частях «Лаодикийского послания» и «Написания о грамоте»106.
Инструментально-терминологическое выражение здесь неразрывно связано с идеологическим, выступающим, правда, в форме мифа, содержанием, его манифестирует. Ведь и тема «самовластия» из основного текста, в частности «Лаодикийского послания», переходит в его грамматическую часть, выявляет себя в ее формах, с ними, по меньшей мере, может быть соотнесена. Так понятие о «самовластии души» в «Лаодикийском послании» дополняется, в его грамматической части, понятием о «самовластии ума». «Буква — самовластие ума, читаем мы, и следующий за этим текст позволяет толковать “Букву” как “Грамоту”, чему и древнерусская письменность дает ряд примеров. В таком случае, корректным будет прочтение “Буква — самовластие ума” как “Грамота — самовластие ума”»107.
Таким образом, пересекаются не только религиозно-антропологическое и политическое измерение «самовластия», но и его реализация в качестве науки, приобретающей, не будем забывать, харизматические характеристики («Пророк ему наука. Наука треблаженная»).
В самом деле, наука-то ведь и связана по преимуществу с освоением того экзистенциального пространства выбирания (опознания, взвешивания, пробы), с той гномической неопределенностью, к которой редуцирована «свобода воли» в гуманистическом сознании. Упущенную (или отвергнутую) возможность обрести знание в непосредственном согласии с «логосом и природой» наука силится восполнить школой опытно опосредованного распознавания («выбора», «прикидки», «пробы») реальности сущего108.
Такая парадигма культурного сознания, в которой религиозно-антропологическое, политическое и научное соотнесены в горизонте гномически мыслимой свободы, судя по всему, характерна как для ренессансно окрашенного конца XV-го столетия, так и для отмеченного в России сильным влиянием барокко конца столетия XVII-го. Отзывчивость Симеона Полоцкого на один из ключевых текстов конца XV-го века («Написание о грамоте»), по меньшей мере всецело созвучного «идеологии» гуманистически ориентированного крыла ереси «жидовствующих» (или прямо к ней восходящего), включение этого текста в сочинение программного характера («Наставление») свидетельствует, конечно, о сродности хотя бы некоторых, но принципиальных представлений Симеона ренессансным мотивам в русской культуре XV-го века.
Такая сродность, в данном случае, хорошо иллюстрирует отмеченный многими исследователями факт «сильного, хотя во многом и преобразованного воздействия гуманизма на культуру барокко у славянских народов»109. Ведь, как писал отечественный специалист по проблемам барокко, «вряд ли можно говорить о “непосредственном” переходе от средневековья к барокко, “минуя Возрождение”, игнорируя накопление ренессансных черт в русской культуре, что и подготовило расцвет барокко, принявшего в России функции Ренессанса и гуманизма»110.
Источники и литература
Список литературы По поводу одного сочинения Симеона Полоцкого
- Арифметика Магницкого. Точное воспроизведение подлинника. М., 1914.
- Афанасий Великий, свт. На ариан, слово 3 // Его же. Творения. М., 1994. Т. 2.
- Грамота архимандриту Дионисию об исправлении Требника // Акты археографической экспедиции. СПб.: Тип. II отд. собственной Е. И. В. канцелярии, 1836. Т. 3. С. 482-483.
- Григорий Богослов, свт. О душе // Его же. Творения. М., 2007. Т. 2.
- Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. СПб., 2000.
- Джаноццо М. О достоинстве и превосходстве человека / Сост. Н. В. Ревякина. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 173 с.
- Диспут с Пирром: прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия / Отв. ред. Д. А. Поспелов. М.: Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, 2004. 528 с.
- Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М.: Братство свт. Алексия; Ростов-на-Дону: Приазовский край, 1992. LXXII, 272, CXV, [6] с.
- Максим Исповедник, прп. Богословско-полемические сочинения (Opuscula Theologica et Polémica) / Пер. с древнегреч. Д. А. Черноглазова, А. М. Шуфрина; науч. ред., предисл. и коммент. Г. И. Беневича. Св. гора Афон-СПб.: Издательство РХГА, 2014. 808 с.
- Максим Исповедник, прп. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы) / Пер. с греч., примеч. архим. Нектария (Яшунского). М.: Институт св. Фомы, 2006. 464 с.
- Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые редакцией «Братского слова»: в 9 т. / Под ред. Н. И. Субботина. М., 1895. Т. 9: Полемические против раскола сочинения православных. Ч. 1: Опровержение челобитной попа Никиты / [соч.] Паисия Лигарида. 296 с.
- Наставление царю Алексею Михайловичу Симеона Полоцкого // «Русский вестник» С. Н. Глинки. 1809. № 11, 12; 1810 № 2.
- Остен. Памятник русской духовной письменности XVII века. СПб., 2006. 160 с.
- Памятки братських шкш на украшь Киев, 1988.
- Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса: антология в 2 т. / Сост. и науч. ред. В. П. Шестаков. Т. 1. М.: Искусство, 1981.
- Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Андронниковскому Митрофа-ну. 1503 г. // КазаковаН.А., ЛурьеЯ.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. М.-Л., 1955.
- Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме третьему о Московии. Падуя, 1680 г. / Пер. А. Станкевич. М.: Тип. О-ва распространения полез. кн., арендуемая В. И. Вороновым, 1905. X, 228 с.
- Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. СПб., 2010. 384 с.
- Сочинение против монашества // КазаковаН.А., ЛурьеЯ.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. М.-Л., 1955. С. 299-304.
- Фичино М. Платоновская теология о бессмертии души / Пер. с лат. А. Я. Ты-жова. СПб.: Восход, 2014. 542, [1] с.
- Акопян О.Л. С «латинянами» против «латинского нечестия»: Максим Грек, Савонарола и борьба с астрологией // Европейское Возрождение и русская культура XV — середины XVII вв.: контакты и взаимное восприятие. М.: РОССПЭН, 2014. С. 92-102.
- Алексеев А. И. Религиозные движения на Руси последней трети XIV — начала XVI в: стригольники и жидовствующие. М.: Индрик, 2012. 560 с.
- Алексеев М.П. Эразм Роттердамский в русском переводе XVII века // Славянская филология: сб. ст. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 1. С. 275-330.
- Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. Очерк развития аппарата управления XIV-XV вв. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1998. 352 с.
- Антоний Сурожский, митр. О последних пределах. М.: Практика, 2019. 192 с.
- Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989. 272 с.
- Баткин Л. М. К истолкованию итальянского Возрождения: антропология Марсилио Фичино и Пико делла Мирандолы // Из истории классического искусства Запада. М.: Искусство, 1980. С. 31-70.
- Беневич Г.И. Богословско-полемические сочинения прп. Максима Исповедника и его полемика против моноэнергизма и монофелитства // Максим Исповедник, прп. Богословско-полемические сочинения. Св. гора Афон-СПб.: Издательство РХГА, 2014.
- Богданов А.П. Сильвестр Медведев // Вопросы истории. 1988. № 2. С. 84-98.
- Бубнов Ю.А. Метафизика русского просвещения. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. 255 с.
- Голубцов А. Прения о вере, вызванные делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны. М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1891. 394 с.
- ГригоренкоА.Ю. Духовная культура Московской Руси конца XV — первой половины XVI века. СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2012.
- Григоренко А.Ю. Духовные искания на Руси конца XV — начала XVI в. СПб.: Эйдос, 1999.
- Григорьева И. Л. Трактат Эразма Роттердамского <Ше сМШв1:е тогит риепНит» и русская культура XVII века // Европейское Возрождение и русская культура XV — середины XVII века. Контакты и взаимное восприятие. М., 2013. С. 265-283.
- Гусарова Т.П. Матяш I Корвин или Матвей Хуньяди (1443-1490гг.) // Культура Возрождения: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. Кн. 1: Л-П. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. С. 236-238.
- Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М.: Мысль, 1982. 333 с.
- Зуевский А., свящ. Свт. Григорий Богослов. О душе // Богословский вестник. 2004. Т. 4. С. 69-90.
- Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии: избранные произведения XVI — начала XIX в. Минск: Издательство Академии наук БССР, 1962. 524 с.
- Казакова Н.А., ЛурьеЯ.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1955. 573 с.
- Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. М.-СПб.: Университетская книга, 2000. 654 с.
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М.: Паломник, 1996. 450 с.
- Клибанов А.И. «Написание о грамоте» (опыт исследования просветитель-но-реформационного памятника конца XV — первой половины XVI века) // Вопросы истории религии и атеизма. М., 1955. Вып. 3. С. 325-379.
- Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М.: Аспект Пресс, 1996.
- Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI вв. М.: Издательство АН СССР, 1960. 411 с.
- Кожурин К. Протопоп Аввакум. Жизнь за веру. М.: Молодая гвардия, 2013. 400 с.
- КорзоМ.А. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века. М.: ИФРАН, 2011. 155 с.
- Кудрявцев О. Ф. Флорентийская Платоновская академия: очерк истории духовной жизни ренессансной Италии. М.: Наука, 2008. 479 с.
- Кудрявцев О. Ф. Praeceptor Еигорае: международные связи Марсилио Фичино, главы флорентийской Платоновской академии // Культурные связи в Европе эпохи Возрождения. М.: Наука, 2010. С. 38-56.
- Кузьминова Е.А. Развитие грамматической мысли России XVI-XVШ вв. М., 2002. 467 с.
- Лурье Я. С. Элементы Возрождения на Руси в конце XV — первой половине XVI века // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967. С. 183-211.
- Майков Л.Н. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889.
- Маркидонов А.В. О теологизации грамматического знания в русской книжности XVII века (на примере московского издания «Грамматики» Мелетия Смо-трицкого 1648 г.) // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2019. № 2 (4). С. 106-130.
- Морозов А. Проблема барокко в русской литературе XVII-го — начала XVIII-го века // Русская литература. 1962. № 3. С. 3-38.
- Мыльников А. С. Чешское барокко как историко-культурный феномен // Славянское барокко. М., 1979. С. 99-131.
- ПанченкоА.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. 208 с.
- Панченко А. М. Симеон Полоцкий // Словарь книжников и книжности Древней Руси: в 3 вып. СПб., 1998. Вып. 3. XVII век. Ч. 3.
- Панченко А. М. Слово и Знание в эстетике Симеона Полоцкого (на материале «Вертограда многоцветного) // Труды отдела древнерусской литературы. 1970. Т. 25. С. 232-241.
- Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом: в 2 т. Т. 1. СПб.: Издание Товарищества «Общественная польза», 1862. 596 с.
- Робинсон А. Н. Воинствующая грамматика и текст (XVII век) // Русский язык: функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. М.: Наука, 1984. С. 112-134.
- Робинсон А. Н. Симеон Полоцкий — астролог // Проблемы изучения культурного наследия / Отв. ред. Г. В. Степанов. М., 1985. С. 177-184.
- Румянцева В. С. Патриарх Никон и духовная культура в России XVII века. М.: Институт российской истории РАН, 2010. 253 с.
- Севостьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. 520 с.
- Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М.: Наука, 1982. 352 с.
- Симонов Р.А. Российские придворные «математики» XVI-XVII вв. // Вопросы истории. 1986. № 1. С. 76-84.
- Скрынников Р.Г. Иван III. М.: АСТ, 2006. 288 с.
- Смирнов Н. К вопросу о педагогике в Московской Руси в XVII ст. // Русский филологический вестник. 1898. Т. 39. № 1-2. С. 8-36.
- Сперанский. М. Н. Из истории отреченных книг. Аристотелевы врата или Тайная тайных. М.: Либроком, 2012. 328 с.
- Татарский И.А. Симеон Полоцкий: (Его жизнь и деятельность). Опыт исследования из истории просвещения и внутренней церковной жизни во вторую половину XVII века. М., 1886.
- Таубе М. Послесловие к «Логическим терминам» Маймонида и ересь жидовствующих // In Memoriam: сборник памяти Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 239-246.
- Тихонюк И.А. «Изложение Пасхалии» московского митрополита Зосимы // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: сборник статей. М., 1986. С. 45-61.
- Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.-СПб.: Альянс-Архео, 2006. 256 с.
- Флоровский Г., прот. Византийские отцы V-VIII веков. 2-е изд. Paris: YMCA-Press, 1990. 262 с.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Paris, 1983.
- Флоровский Г., прот. О народах не-исторических // Из прошлого русской мысли. М., 1998.
- Фонкич Б.Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М.: Языки славянской культуры, 2009. 339 с.
- Хипписли А. Западное влияние на «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого // Труды отдела древнерусской литературы. 1999. Т. 52. С. 695-708.
- Черная Л.А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2008. 465 с.
- Черная Л.А. История культуры Древней Руси. М.: Логос, 2007. 288 с.
- Чижевский Дм. К проблемам литературы барокко у славян // Человек в культуре русского барокко. М., 2007.
- Чичуров И. С. Политическая идеология Средневековья. Византия и Русь. М.: Наука, 1990. 176 с.
- Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2007. 511 с.
- Юсим М.А. Книги из библиотеки Симеона Полоцкого — Сильвестра Медведева // Труды отдела древнерусской литературы. 1993. Т. 47. С. 312-327.
- Ягич И.В. Рассуждения южно-славянской и русской старины о церковнославянском языке. Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб. 1895.