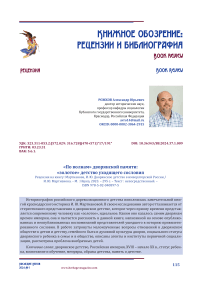По волнам» дворянской памяти: «золотое» детство уходящего сословия
Автор: Рожков А.Ю.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Книжное обозрение: рецензии и библиография
Статья в выпуске: 1 (37), 2024 года.
Бесплатный доступ
Историография российского дореволюционного детства пополнилась замечательной книгой краснодарского историка И. Ю. Мартиановой. В своем исследовании автор отталкивается от стереотипного представления о дворянском детстве, которое через призму времени представляется современному человеку как «золотое», идеальное. Каким оно казалось самим дворянам времен империи, она и пытается рассказать в данной книге, написанной на основе опубликованных и неопубликованных воспоминаний представителей ушедшего в историю привилегированного сословия. В работе затронуты малоизученные вопросы отношений в дворянском обществе к детям и детству, семейного быта и духовной культуры дворян, социального статуса дворянского ребенка в семье и в обществе, описаны агенты и институты первичной социализации, рассмотрена проблема внебрачных детей.
Дворянское детство, российская империя, xviii - начало xx в, статус ребенка, воспитание и обучение, мемуары, образы детства, память о детстве
Короткий адрес: https://sciup.org/170206244
IDR: 170206244 | УДК: 323.311-053.2:[572.029: | DOI: 10.36343/SB.2024.37.1.009
Текст научной статьи По волнам» дворянской памяти: «золотое» детство уходящего сословия
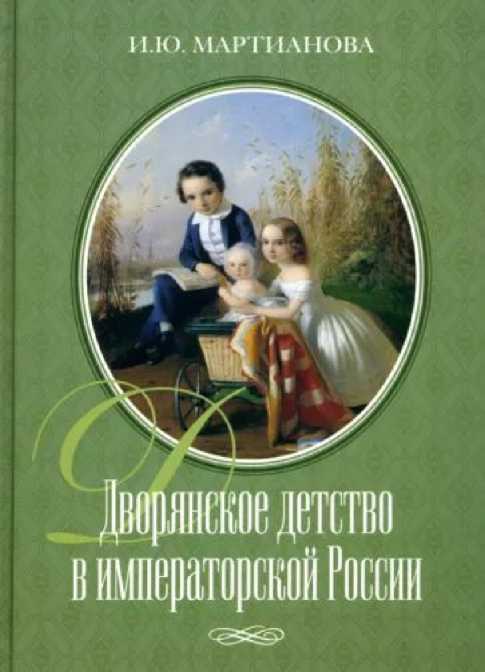
Недавно в издательстве «Наука» вышла книга краснодарского историка И. Ю. Мартиа-новой «Дворянское детство в императорской России». Это одна из немногочисленных пока работ в нашей историографии, представляющая собой опыт специального исследования жизни дворянских детей в России ХVIII – начала ХХ вв. Автор этого интересного издания демонстрирует приверженность одной из современных тенденций отечественной и европейской гуманитарной науки – истории детства. Несмотря на заметные успехи в развитии этого научного направления в России, тема детства российских дворян изучена недостаточно, поэтому обращение к данной проблеме не может не приветствоваться. Тем более что еще с дореволюционного времени в российском общественном сознании продолжает жить весьма устойчивый миф о «золотом» дворянском детстве с прекрасным домашним воспитанием, европейскими гувернерами и запретом на рукоприкладство. И. Ю. Мартианова, ломая эти стереотипные представления, убедительно конструирует во многом иную реальность, характеризующуюся отсутствием беззаботного детства у детей из высшего сословия, глубоких эмоциональных привязанностей между родителями и детьми, замещенных в большинстве своем отношениями идентификации и руководства, а также применением телесных наказаний к детям в дворянских семьях и особенно в гимназиях, о чем, в частности, писал и Б. Н. Миронов [11, с. 258–260].
И. Ю. Мартианова в качестве целевой установки своего исследования указывает характеристику «роли и места дворянских детей в истории и культуре России периода ХVIII – начала ХХ в.» [10, с. 23–24]. Пожалуй, сложно говорить о «роли и месте» дворянских детей в истории и культуре, если подразумевать только короткий период их детского возраста, а не дальнейшие жизненные и карьерные траектории повзрослевших дворян, оставивших нам свои мемуары. На наш взгляд, более корректной здесь могла быть постановка вопроса о роли и месте детства в формировании личности дворянина. Впрочем, этот дискуссионный нюанс в формулировке целеполагания исследования никоим образом не снизил качество содержания книги.
Автор демонстрирует глубокое погружение в историографию вопроса, уделив обзору литературы по теме исследования третью часть введения, не считая приложенного пространного библиографического списка из более 120 произведений. И. Ю. Мартиа-нова подробно перечисляет работы своих предшественников практически по каждому из направлений, которые она рассматривает в отдельных главах монографии. Иногда это простой перечень работ, которые автор кратко комментирует. Некоторые исследования удостоены более глубокой авторской оценки. Возможно, стоило разделить характеристику теоретико-методологических трудов и остальной литературы по теме исследования, а также более системно изложить материал в историографическом обзоре для четкого понимания общих тенденций в историографии проблемы. Тем не менее картина предшествующих наработок специалистов по истории, психологии и культуре детства представлена достаточно широко и разносторонне.
Пожалуй, несколько спорным выглядит утверждение автора, что в современной рос- сийской историографии нет ни одного исследования по истории детства, способного соперничать с трудами Ф. Арьеса [1] и Л. Демоза [19]. Действительно, с работы Ф. Арьеса начался «детский» поворот в социогуманитаристи-ке. Трудно переоценить его ключевой вывод об историчности детства. Вместе с тем не стоит забывать справедливую критику взглядов Ф. Арьеса со стороны Э. Ладюри [9], П. Рише [20] и его учеников, которые вполне убедительно доказали обратное выводам Ф. Арьеса, что средневековый ребенок занимал важное место и в мире чувств, и в повседневной жизни семьи и средневекового общества. Кроме того, у Ф. Арьеса были предшественники, о которых мы знаем меньше. На четыре года раньше его книги вышла «Метаблетика, или Теория изменений: введение в историческую психологию» Я. Х. ван ден Берга [18]. Между тем вклад в изучение детства отечественного педолога Н. А. Рыбникова, объединившего психологический подход с историческим, был ничуть не меньшим, чем трех вышеупомянутых западных ученых. Именно Н. А. Рыбникову принадлежит идея о невозможности получить представление об эпохе без выяснения истории детства в эту эпоху. К сожалению, его проект «История русского ребенка» так и остался неосуществленным [3, с. 32–38]. Достаточно также упомянуть замечательные труды И. С. Кона [5] [6] [7], В. Г. Безрогова [2] [4] (руководителя семинара «Культура детства. Нормы, ценности, практики» в РГГУ [13] [14]), О. Е. Кошелевой [8], А. А. Сальниковой [15], чтобы убедиться в высоком научном уровне исследований современных отечественных ученых. С другой стороны, имеются ли сегодня на Западе ученые уровня Ф. Арьеса и Л. Демоза?
Впрочем, этот полемический экскурс в историографию и методологию истории детства никоим образом не принижает значимости работы И. Ю. Мартиановой, напротив, он только подчеркивает ее несомненные достоинства и прежде всего смелость автора в самой постановке научной проблемы – ма-лоизученности истории дворянского детства в России. Рецензируемое исследование опирается на внушительную источниковую базу документов личного происхождения, которую составили 69 опубликованных мемуаров и 2 рукописи неопубликованных воспоминаний, хранящиеся в Государственном архиве Краснодарского края. И. Ю. Мартианова резонно классифицирует мемуары по степени внимания их авторов к своему детству, так как от этого зависит информативность источника. Также из Полного собрания законов Российской империи для уточнения сведений ею было привлечено более 10 законодательных актов, имевших значительное влияние на судьбы детей из высшего сословия.
И. Ю. Мартианова разделяет использованные мемуарные источники на пять групп. К первой она относит произведения, авторы которых рассматривают детство как пролог к будущей жизни; вторая группа включает мемуарные произведения, имеющие целью описание жизни рода или семьи (семейные хроники); к третьей группе относятся воспоминания, целиком посвященные описанию собственного детства, где главным героем является сам мемуарист (автор книги правомерно оценивает тексты этой группы как наиболее информативные); четвертая группа объединяет воспоминания, авторы которых считали свое детство важным этапом в жизни, потому описали его с большой степенью внимания, хотя и не посвятили этому периоду все свое произведение; в пятую группу вошли источники, основанные на воспоминаниях о прошлом, созданные непосредственно в детском возрасте.
Изученный автором пласт мемуарных источников позволил представить в книге сведения о 187 детях (111 мальчиках и 76 девочках), чье детство описано, иногда лишь фрагментарно, на страницах отобранных источников. Детство 83 из них протекало в провинции, 90 – в Москве или Санкт-Петербурге, остальные дети постоянно переезжали из города в село и обратно. Мемуаристы описали 39 случаев исключительно домашнего воспитания и образования, 59 случаев детства, проведенного и дома, и в стенах учебного заведения, 37 детей с ранних лет находились полностью под контролем учебно-воспитательного учреждения. Двенадцать мальчиков и девочек долгое время жили в семьях родственников или знакомых на положении приживал. Сорок авторов мемуаров рассказали о детстве, проведенном в крайней бедности, 71 из 187 дали свидетельства об обстоятельствах жизни детей в семьях среднего достатка, 64 – в семьях, имевших солидное состояние. Исследователь выявил также сведения о 15 незаконнорожденных дворянских детях.
И. Ю. Мартианова дает необходимую источниковедческую оценку мемуарам, справедливо отмечая имманентно присущие им ограничения (субъективность в изложении материала, основанного на памяти автора, возможные искажения в повествовании, специфика авторского мировоззрения и т. д.). Автор честно признает, что ввиду этой специфики источника он не претендует на полноту описания изучаемой проблемы. Наверное, этого было бы достаточно для источниковедческого анализа по какой-либо другой теме, но не по теме детства. На наш взгляд, в книге не хватает учета положений сопредельных научных направлений – психологии детства, психологии памяти, исторической социологии и т. д. Очевидно, не мешало бы указать на наличие у детской памяти своих «социальных рамок» (М. Хальбвакс) [16], отличных от взрослых, во многом определяемых активной работой воображения. Возможно, стоило выявить некоторые психологические позиции авторов воспоминаний относительно репрезентируемых ими событий, чтобы понять, кем в описанной ситуации был конкретный дворянский ребенок – очевидцем, участником, жертвой и т. д. Здесь могло бы помочь обращение к фундаментальным работам психолога В. В. Нурковой, убедительно доказавшей, что большая часть воспоминаний о детстве включает в себя значительные искажения или вовсе не соответствует реальности, так как они адресованы «прошлому Я» личности, отделенному от «длящегося Я» множеством личностных трансформаций. Причем эта пластичность – не дефект памяти мемуариста, а особый механизм, позволяющий оптимально приноравливать воспоминания к требованиям текущего дня (т.е. времени написания мемуаров) [12, с. 181–184]. Немало полезных идей можно было почерпнуть и из книги социолога С. А. Чуйкиной, изучившей практики дворянского воспитания и трансляции семейной памяти дворян, родившихся в начале ХХ в., на основе анализа их биографических траекторий в переходныйпериод [17].
Предложенная автором очерковая по сути своей структура книги представляется вполне отвечающей поставленной проблеме. Такая структура размашистых штриховых прорисовок к портрету «совокупного» дворянского ребенка позволяет описать (кое-где – пунктирно) процесс формирования личности молодых дворян, особенности их культуры в зависимости от разных обстоятельств – положения, образования, воспитания, личного жизненного опыта и исторического опыта семьи и среды, к которой они принадлежали.
И. Ю. Мартианова прослеживает эволюцию исторического облика и изменение жизненного мира дворянского детства на протяжении двух столетий. Несомненной заслугой автора является то, что практически все рассматриваемые в монографии вопросы являются малоизученными в отечественной историографии, посвященной повседневности детства. Рамки рецензии позволяют остановиться подробнее лишь на нескольких из них. Так, в книге впервые рассматривается эволюция социального статуса дворянского ребенка в российском обществе в ХVIII – начале ХХ в. Размышляя о «сверчках» и «шестках», автор приходит к выводу о приниженном социальном статусе дворянского ребенка, мало отличавшемся от статуса крепостного крестьянина, вплоть до второй половины XIX в. И только к началу ХХ в., по мнению И. Ю. Мартиановой, положение дворянского ребенка в семье и обществе изменилось радикально, когда дети из семейной эмоциональной периферии переместились в центр дворянской семьи, а родители стали видеть и уважать в своих детях личность.
Автор затрагивает важную проблему восприятия собственного будущего малолетними дворянами, для которых вопрос «кем быть?» являлся вовсе не банальным, учитывая полное отсутствие у них возможности самостоятельного выбора карьеры и тотальную зависимость от решения родителей. Здесь также радикальные изменения наблюдаются со второй половины XIX в., хотя отдельные случаи самостоятельного выбора профессии известны и раньше. Подростки из дворян по- степенно переходили от полного равнодушия к своему карьерному будущему к тщательно продуманному выбору и выстраиванию соответствующей жизненной стратегии, находя понимание и поддержку со стороны родителей. Это говорит о том, что дворянство в лице юных поколений на рубеже XIX и XX вв. становилось де-факто свободным, лишаясь «крепостной» зависимости от семьи и государства. Вместе с тем общество, удалив детей от «взрослых» дел, изживая ранние браки и службу несовершеннолетних дворян, стало само решать за них вопросы их бытия посредством бдительного контроля. И. Ю. Мартиано-ва справедливо замечает, что маленький дворянин со второй половины XIX в. вытесняется взрослыми с исторической сцены в «зрительный зал» игровой комнаты и гимназического класса, пока Гражданская война не вернула его вновь на службу – государственную и военную. Остро пережитые в годы малолетства политические события (восстания, революции, войны) объективно перемещали детей дворян из «зрительного зала» истории на ее сцену, где они стремились сыграть свою особенную роль, привычно настроившись на патриотический и зачастую верноподданический лад.
В книге анализируется процесс национальной самоидентификации у детей дворян, основанной на природном начале «дыма Отечества» в дворянском детстве. При этом автором делается попытка проследить различные межнациональные контакты в детской среде и рассмотреть «международность» как одну из характерных черт детства в привилегированном сословии. Свободно разговаривая на европейских языках, читая в оригинале зарубежную литературу, предпочитая заморские одежды и предметы домашней утвари, дворяне вместе с тем с детства усваивали свое «природное начало» как основу национальной идентичности и патриотизма. Во многом этому способствовало тесное общение дворянских детей с простолюдинами (крепостными крестьянами, прислугой, нянями, «дядьками»), общение со старшим поколением своего рода, носителем традиционной культуры, а также длительное проживание в родительском имении в окружении родной природы. Недаром многие мемуаристы, написавшие свои произ- ведения в конце XIX – первой половине XX в., подчеркивали, что для них народность и «природное начало» более важны, чем сословный статус. Как верно замечает И. Ю. Мартианова, в амбивалентном сочетании «природного» и «международного» (эпитет В. В. Набокова), закладываемом с детства, кроется уникальная способность дворянского сословия отважно сражаться за свое Отечество (в рядах как Красной, так и Белой армий) и сравнительно легко адаптироваться к другой культуре, оказавшись в эмиграции.
Стоит обратить внимание еще на один аспект – социализационный,– раскрытый автором в главах про обучение детей и их ближайшее окружение. И. Ю. Мартианова на многочисленных примерах мемуаристов убедительно показывает, что подготовка дворянских детей (как мальчиков, так и девочек) к взрослой жизни прошла длительный эволюционный путь. Несмотря на то, что Петр I желал видеть дворянство просвещенным, а образование высшего сословия тесно увязывал с государевой службой, лишь с конца XVIII в. в Российской империи в сознании дворян укоренилась необходимость обучения детей наукам, как в государственных и частных школах (пансионах), так и в домашних условиях. Стремление к приобретению профессионального образования дворянами становится массовым явлением уже во второй половине XIX в., причем многие дети дворян не ограничивались школьной программой, а развивались по пути самообразования. Сюда следует добавить и постоянное общение дворянских детей со знаменитыми людьми в повседневной жизни. Такой круг знакомств в дворянском сословии был очень широк и разнообразен, и ребенок с малых лет наполнял свои детские впечатления всевозможными героическими историями. Поэтому вопросы «кем стать?», «делать жизнь с кого?», особенно для мальчика-дворянина, являлись давно и однозначно решенными. Сложно не согласиться с выводом автора о том, что русское дворянство в результате эволюции системы подготовки своих детей к взрослой жизни создало уникальную культуру детства как законченный идеал начального этапа человеческой жизни.
И. Ю. Мартианова одной из первых (если не первой) в отечественной историографии ставит и исследует проблему положения детей-маргиналов («раскрашенных птенцов», «отщепенцев») в дворянской среде на примере незаконнорожденных и детей, отвергнутых обществом в силу различных обстоятельств – как малолетних изгоев, рожденных в дворянских семьях в законном браке, так и малолетних жертв большой политики. Автор отмечает, что дворянством были выработаны приемы культурного преодоления предвзятого отношения к таким детям, поднят вопрос о защите их прав. Причем к феномену «зазорных младенцев» в дворянском обществе относились вполне терпимо, как к заурядному явлению, особенно если нарушение брачных обетов было совершено с соблюдением «приличий». Дело в том, что изменение культуры поведения в дворянском сословии в петровский период вкупе с примитивными способами контрацепции привели к появлению многочисленного незаконнорожденного потомства. От того, с кем случился адюльтер у дворянина – с крепостной крестьянкой или дамой из знатного рода, – напрямую зависела и судьба ребенка. Автор приходит к выводу, что дети-изгои в дворянских семьях в большинстве своем не вписывались в сложившуюся систему ценностей, зачастую не оправдывали родительских ожиданий и надежд. Вживаться в это чуждое общество многим из них не хотелось, поэтому, став взрослыми, они нередко компенсировали свою изолированность в детстве, пытаясь создать себе комфортное окружение, где бы они были «как все». Именно в многочисленности различных типов маргиналов с детства в дворянском сословии автор видит истоки неоднородности мировоззренческих, культурных, нравственных установок дворянства в России, которое после крушения господствовавшего веками политического строя оказалось в разных политических лагерях.
Характеризуя место детей-дворян в российском обществе, И. Ю. Мартианова аргументированно доказывает, что между изменением положения ребенка из высшего сословия и постепенным изживанием феодального менталитета существовала тесная взаимо- связь. Улучшение качества подготовки детей к обязанностям взрослой жизни автор связывает со стремлением дворянства Российской империи соответствовать реалиям времени и модернизации жизни общества. Обращаясь к проблеме представлений детей дворян об их будущем, автор прослеживает процесс эволюции ценностных ориентиров дворянства. Участие и роль дворянских детей в историческом процессе представлены И. Ю. Мартиановой сквозь призму выполнения ими служебных и общественных обязанностей. Автор рассматривает и проблему вклада дворянских детей в отечественную культуру, отмечая изменение реакции взрослых в лучшую для детей сторону.
В заключение стоит отметить хороший литературный язык с богатым лексическим наполнением, благодаря чему текст книги легко и с интересом читается. Каждая глава (очерк) начинается с небольших авторских рассуждений, вводящих в конкретный аспект темы на основе общих представлений, аксиом. Книга привлекает внимание читателя великолепными иллюстрациями – фотографиями, репродукциями картин, наглядно дополняющими образы дворянского детства.
При всех несомненных достоинствах книги следует указать на априорно ожидаемые в издании о детстве сюжеты, которых там не оказалось либо они были лишь слегка обозначены автором без более глубокой проработки в качестве отдельных очерков. В первую очередь это касается религиозного воспитания и гендерной дифференциации (в свете правомерного призыва И. С. Кона переходить от изучения истории детства «вообще» к истории девочек и мальчиков [6, с. 17-21]), да и тему детских игр и игрушек хотелось бы увидеть более обстоятельно изложенной. Возможно, характер источников не позволял автору изучить эти аспекты, но это следовало оговорить отдельно. Не совсем ясно, учитывал ли автор внутрисословный статус мемуаристов, чьи воспоминания использованы в книге (наследниками каких дворян они являлись - потомственных, столбовых, титулованных?), а также имущественное положение их семей, и влияла ли (и каким образом?) эта статусно-имущественная дифференциация на их детство. Наконец, на каких территориях Российской империи проходило детство тех или иных авторов воспоминаний?
Впрочем, эти вопросы, возникшие после прочтения замечательной в целом книги И. Ю. Мартиановой «Дворянское детство в императорской России», больше говорят о ее достоинствах, чем недочетах. Значит, книга наверняка станет интересной для читателя, бу- дет через внутренний диалог способствовать его самообразованию, поиску истины и исторической правды. И кто сказал, что некоторые практики дворянского детства не востребованы сегодня? Судя по тому, с какой душой автор пестовал свое произведение, есть надежда, что эта тема подвигнет ее на дальнейшие открытия в истории детства. Чего ей и хочется от души пожелать.
“Along the Waves” of Noble Memory:
The “Golden” Childhood of the Passing Estate
Book Review: Martianova, I.Yu. (2023) Noble Childhood in Imperial Russia . Moscow: Nauka. (In Russian). 295 p. ISBN 978-5-02-040897-5
Список литературы По волнам» дворянской памяти: «золотое» детство уходящего сословия
- Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. 415 с.
- Безрогов В. Г., Баранникова Н. Б. Религиозное воспитание в школе и вне ее: первое столетие Российской модернизации в автобиографических рассказах о детстве // Отечественная и зарубежная педагогика. 2011. № 1. С. 31–46.
- Безрогов В. Г. Проект Н. А. Рыбникова «История русского ребенка» // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2010. № 15. С. 32–38.
- Безрогов В. Г. Традиции ученичества и институт школы в древних цивилизациях. М.: Памятники исторической мысли, 2008. 458 с.
- Кон И. С. Детство как социальный феномен // Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2, № 2. С. 151–174.
- Кон И. С. Открытия Филиппа Арьеса и гендерные аспекты истории детства // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2010. № 15. С. 12–24.
- Кон И. С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. М.: Наука, 1988. 269 с.
- Кошелева О. Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (ХVI–ХVIII вв.). М.: Ун-т российской академии образования, 2000. 320 с.
- Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324) / пер. с фр. В. А. Бабинцева и Я. Ю. Старцева. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. 544 с.
- Мартианова, И. Ю. Дворянское детство в императорской России. М.: Наука, 2023. 295 с.
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): в 2 т. 2-е изд., испр. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. Т. 1. 548 с.
- Нуркова В. В. Война и мiръ: военное измерение в воспоминаниях о детстве // Вторая мировая война в детских «рамках памяти»: сб. науч. ст. / под ред. А. Ю. Рожкова. Краснодар: Экоинвест, 2010. С. 177–210.
- Репина Н. И. Детство как концепт культуры: итоги работы семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики» (2007–2011 гг.) // Историко-педагогический журнал. 2012. № 3. С. 191–196.
- Ромашова М. В. Дети и феномен детства в отечественной истории: новейшие исследования, дискуссионные площадки, события // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2013. № 2. С. 108–116.
- Сальникова А. А. Российское детство в ХХ веке: история, теория и практика исследования. Казань: Казанский гос. ун-т, 2007. 225 с.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. 348 с.
- Чуйкина С. А. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2006. 259 с.
- Berg van den J. H. Metabletica, of Leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie. Nijkerk: G. F. Callenbach, 1956. 255 p.
- DeMause L. The History of Childhood. Northvale, New Jersey: Jason Aronson, 1995. 450 p.