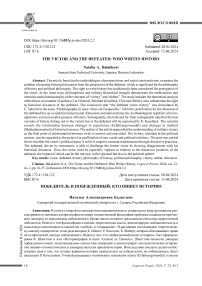Победитель и побежденный: кто пишет историю
Автор: Балаклеец Н.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье с опорой на методологию перспективизма и социального конструктивизма рассматривается значимая для философии истории и политической философии проблема создания исторического дискурса из перспективы побежденного. Право писать историю традиционно считалось прерогативой победителя. Вместе с тем философская и военно-теоретическая мысль демонстрируют амбивалентность и смысловую многомерность концептов «победа» и «поражение». В настоящем исследовании теоретическому анализу подвергается тезис ряда авторов (К. Шмитт, Р. Козеллек, К. Майер), которые обосновывают право на исторический дискурс побежденного. Вывод о том, что «побежденный пишет историю», был сформулирован К. Шмиттом в эссе «Историография in nuce: Алексис де Токвиль». Шмиттова апология дискурса побежденного имеет экзистенциально-личностное измерение и демонстрирует методологическое отторжение наивно-оптимистических и универсалистских проектов истории. Впоследствии смелая и далеко не бесспорная идея о том, что лучшие варианты истории принадлежат не победителям, но побежденным, будет высказана Р. Козеллеком. Ученый раскрывает взаимосвязь изменения опыта (Erfahrungswandel) и смены метода (Methodenwechsel) исторической науки. Автор статьи обосновывает мысль о том, что понимание военной победы как финальной точки противостояния соперников является узким и односторонним. Будучи включенной в политический контекст, победа представляет собой точку кристаллизации новых социально-политических отношений. Послевоенное время служит проверкой на прочность политического статуса победителя, который требует постоянного поддержания посредством дискурсивных практик. Побежденный, движимый ресентиментом, способен бросить вызов прежнему победителю, оспорив его исторический дискурс. Таким образом, победитель должен проявлять особую зоркость в отношении дискурсивных практик побежденного, воздействие которых может сказаться не только в духовной, но и политической сфере.
Победитель, побежденный, история, философия истории, политическая философия, победа, поражение, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/149146828
IDR: 149146828 | УДК: 172.4+130.122 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.2.2
Текст научной статьи Победитель и побежденный: кто пишет историю
DOI:
Цитирование. Балаклеец Н. А. Победитель и побежденный: кто пишет историю // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 16–25. – DOI:
В концептуальной оппозиции «победа – поражение» смысловой маркированностью и позитивными коннотациями отличается ее первый элемент. Значимость статуса победителя неоспорима. Согласно широко распространенному мнению, именно победитель пишет историю. Он получает политические, экономические и социальные преференции от своего военного успеха. Вместе с тем исследование многосмысленности концепта «победа» не может не привести к необходимости рефлексии перспективы побежденного. Еще древние вынесли неумолимый вердикт побежденному: vae victis. Однако всегда ли его уделом является лишь позор и необходимость подчиниться условиям победителя, сжать свое политическое и социальное пространство до тех границ, которые тот ему отводит? Обладает ли перспектива побежденного какой-либо значимостью? Может ли он извлечь смысл из своего поражения?
Политико-философская и философско-историческая мысль демонстрирует амбивалентность статусов победителя и побежденного. Статус победителя не гарантирован раз и навсегда с обретением военного успеха. Тем более заложником собственных побед рискует стать тот, кто не в состоянии реалистично оценивать свои возможности и потенциал своего противника. Задолго до появления в военной теории концепта «кульминационная точка победы» [Люттвак 2012, 38–39] приведенная мысль получила множество трактовок в философском дискурсе. В китайском военнофилософском трактате «У-цзы» содержится положение о необходимости не просто одержания, но и удержания победы, а также приводится мысль о ее пределах: «когда государ- ства воюют в Поднебесной, тот, кто одержит пять побед, столкнется с несчастьем; кто одержит четыре победы, истощит свои силы; кто одержит три победы, станет гегемоном; кто одержит две победы – станет правителем; кто одержит одну победу – станет императором. Поэтому тех, кто благодаря многочисленным победам покорил мир, очень мало; тех же, кто погиб при этом – много» [У-цзин 2001, 258]. Иными словами, победитель должен трезво оценивать свои шансы на успех в последующих военных кампаниях, исход которых не гарантирован его нынешним статусом. Неоправданный риск в стремлении к мировому господству чреват утратой прежних военно-политических достижений, «обнулением» достигнутого преимущества.
Г.В.Ф. Гегель раскрывает амбивалентный смысл победы, обращаясь к величию военных успехов Наполеона, которое сменилось бессилием его побед и низвержением некогда вызывавшего восхищение и трепет «колосса»: «Никогда не одерживалось более великих побед, не предпринималось более гениальных походов; но никогда и бессилие победы не обнаруживалось явственнее, чем тогда» [Гегель 1993, 450–451]. Е.Н. Трубецкой выносит фаталистическое предостережение о том, что череда побед не может быть вечной – рано или поздно победитель, притязающий на мировое господство, рискует быть поглощен безжалостной логикой войны, разлагающей саму войну [Трубецкой 2010, 534]. С.Л. Франк подчеркивает недопустимость отождествления понятий «победа» и «сила». Мыслитель приходит к выводу о том, что сила сама по себе является бесплодной и обречена на противодействие со стороны еще боль- шей силы, тогда как «действительно победить значит нравственно покорить, привлечь к себе сердце» [Франк 1916, 15]. Победитель, опьяненный своими успехами, не только рискует впасть в соблазн нравственного разложения (о чем предупреждал еще Платон в «Законах» [Платон 2014, 94]), но и совершить эпистемологические промахи, создавая исторический дискурс в ситуации post bellum. И если необходимость нравственного смысла победы, который способен оправдать принесенные на ее алтарь жертвы, не нуждается в дополнительном обосновании, то нетривиальный тезис об эпистемологической ценности дискурса побежденного требует дальнейшего прояснения. Рассмотрим эпистемологические ловушки, которые способна готовить победа, и значимость исторического дискурса побежденного более подробно.
Небесспорным, но вместе с тем парадоксальным и достойным исследовательского интереса представляется вывод о том, что «побежденный пишет историю». Данный тезис приведен Карлом Шмиттом в эссе «Историография in nuce: Алексис де Токвиль», которое было написано в августе 1946 г. в американском лагере для интернированных в Берлине [Camus, Storme 2012, 662; Carl Schmitt 2000, 11]. Впоследствии эссе станет одной из глав «тюремных тетрадей» ученого, работы «Ex Captivitate Salus» («Спасение из плена»). Эссе Шмитта, представляющее собой размышление побежденного о побежденном, отличается своей острой направленностью на преодоление расхожих историографических трюизмов. Алексис де Токвиль, прогностический потенциал идей которого исследован Шмиттом, воплощает для последнего все возможные виды поражений. Это побежденный аристократ, либерал, француз, европеец и христианин, опровергнутый исторической реальностью в каждом из вышеприведенных убеждений. Как аристократ, он потерпел поражение в результате гражданской войны – худшей, по мнению Шмитта, из всех войн. Токвиль принадлежал к социальному слою, который был побежден революцией 1789 года. Как либерал, он был поражен взрывом террора уже не либеральной революции 1848 года. Как француз, он пережил поражение своего государства в результате войны с антифранцузс- кой коалицией Англии, России, Австрии и Пруссии – на этот раз речь идет о поражении во внешней войне. Как европеец, он также оказался на стороне побежденных, поскольку предвидел усиление двух новых держав, Америки и России, которые, возвышаясь «над главой Европы», станут носителями «непреодолимой централизации и демократизации». Наконец, будучи христианином, Токвиль потерпел поражение от научного агностицизма, обретшего популярность в его время [Schmitt 2010]. Показательно, что, перечисляя всевозможные ипостаси побежденного историка, Шмитт во многом метафоризирует понятие «поражение», смешивая его военные и мировоззренческие смыслы. Тем самым достигается усиление эффекта политических и экзистенциальных неудач, предопределивших, по мнению Шмитта, силу исторических прозрений Токвиля.
Поражения, которые преследовали Токвиля, не были результатом случая или невезения – они носили судьбоносный и экзистенциальный характер. Решающим, по мнению немецкого правоведа, является то, что Токвиль признает себя побежденным. Это признание служит источником как экзистенциальной вовлеченности историка в события прошлого, так и необыкновенной прогностической силы его творческого наследия. В особенности, Шмитт обращает внимание на прогноз о возвышении Америки и России, сделанный автором трактата «Демократия в Америке» в 1835 году. Гегель скончался несколькими годами ранее, в 1831 г., не заметив в двух упомянутых державах носителей нового исторического импульса. Его философия истории оставалась еще европоцентричной – Европа была для Гегеля центральным пунктом и концом старого мира, местом возвращения духа к себе самому. Шмитт стал не только свидетелем поражения Германии, но и арестантом, допрашиваемым американским следователем в Нюрнбергской тюрьме, что делало для него прогноз Токвиля, свободный от европоцентризма, особенно значимым.
Апология перспективы побежденного имеет не только экзистенциально-личностное измерение. Она имплицирует методологическое отторжение наивно-оптимистических и универсалистских проектов истории:
«Он (Шмитт. – Н. Б. ) пытается с антилибе-ральных позиций дискредитировать универсалистские проекты. Не побежденный как таковой является историком высшего ранга, но он становится им благодаря своей двойной роли – агента и пострадавшего. Антиидеализм Шмитта ориентирован на конкретное и имплицитно полемизирует с любой формой универсализма. <...> Отказ Токвиля присоединиться к современному для него гегелевскому идеализму становится для Шмитта историческим образцом. <...> Шмитт отказывается переписывать историю вместе с победителями, отводя себе роль непонятого интеллектуала с более глубокими воззрениями» [Weichlein 2009, 151]. Историческое полотно, таким образом, утрачивает свой линейный и монолитный характер, распадаясь, по меньшей мере, на два смысловых пласта или реализуясь, по меньшей мере, в двух перспективах – победителей и побежденных. Поражение становится для последних стимулом построения инклюзивной и полидискурсивной модели истории, гарантирующей им право на дискурс.
Развивая идеи Шмитта, Райнхард Козел-лек обращает внимание на то, что лучшие варианты истории принадлежат не победителям, но побежденным [Koselleck 2012, 6]. Как отмечает автор, «Фукидид, Полибий, Саллюстий, Тацит, Августин, Коммин, Макиавелли и Гвиччардини, даже Маркс, в любом случае относились к побежденным, анализируя и представляя события своего времени. Именно как побежденные, поскольку их история сложилась иначе, чем предполагалось, они были вынуждены развивать новые вопросы и методы. Они писали под бóльшим давлением объяснений и бóльшей потребностью в доказательствах, чем это возложено на победителей. Потому что за победителей говорит сам успех» [Koselleck 2006, 48–49]. Победитель, согласно Козеллеку, тяготеет к написанию истории из краткосрочной перспективы, отбирая из массива исторических фактов те, которые привели его к победе. Тем самым post factum происходит создание исторической телеологии, ретроспективного истолкования событий прошлого как ведущих к достижению цели победителя. Побежденный, напротив, вынужден осуществлять рефлексию своего поражения, отыскивая ответы на вопрос, почему реальность не соответствует его планам [Meier 2009, 125]. Если для Шмитта значимость перспективы побежденного связана с ее прогностическим потенциалом, то Козел-лек раскрывает взаимосвязь изменения опыта (Erfahrungswandel) и смены метода (Methodenwechsel) исторической науки. Польза опыта поражения заключается в том, что побежденный вынужден отыскивать его причины в изначально ложных посылках собственного планирования и мышления. Таким образом, релевантность приобретает уже не будущее, способность прогнозировать которое резервирует за побежденным Шмитт, но прошлое, новый взгляд на которое, по мнению Ко-зеллека, достигается сменой метода [Weichlein 2009, 152].
Еще один автор, который настаивает на развенчании укоренившегося представления о том, что история пишется победителями, – немецкий историк Кристиан Майер. Ссылаясь на Козеллека, ученый воспроизводит его мысль о том, что бытие побежденных могло бы содержать «неисчерпаемый потенциал для познавательного опыта» [Meier 2009, 139]. Экспликация эпистемологической значимости перспективы побежденного осуществляется Майером, во-первых, посредством апелляции к идеям Геродота и Фукидида, а, во-вторых, путем обращения к событиям новейшей истории Германии. Тезис о неисчерпанности познавательного потенциала поражения Германии в 1945 г. вязнет в комплексе факторов, которые явились препятствием для создания послевоенного дискурса побежденного: «Там, где доступов к источникам было много, щит виноватой озабоченности закрывал открытые фланги» [Meier 2009, 143]. Тем не менее Майер сетует по поводу отсутствия крупных исторических нарративов, которые служили бы результатом саморефлексии побежденных.
Вполне логично, что приведенные рассуждения, наделяющие эпистемологической ценностью перспективу побежденного, принадлежат самим побежденным. Современным россиянам – наследникам победы в Великой Отечественной войне и хранителям памяти об этой победе – трудно ассоциировать себя с потерпевшими поражение. Взгляд на собственное прошлое из перспективы победи- телей настолько прочно утвердился не только в отечественной историографии, но и в массовом сознании, что он воспринимается как естественный и единственно возможный взгляд на историческую и политическую реальность. Вместе с тем следует учитывать и наличие иной перспективы восприятия исторических событий – перспективы побежденного, который в своих оценках прошлого и способах его реконструкции далеко не всегда солидаризируется с победителем, оспаривает его интерпретационные матрицы и бросает ему вызов.
Примечательно, что задолго до появления эпистемологической апологии перспективы побежденного в немецком историческом дискурсе культурные смыслы поражения были раскрыты одним из основоположников евразийства Н.С. Трубецким. В противостоянии двух социокультурных и политических миров победителем стала империя Чингисхана. Однако положение побежденного, в котором оказалась Русь, было не безнадежным. Оно способствовало росту национального и религиозного самосознания, фактически послужило импульсом для создания централизованного русского государства во главе с Москвой. Иноземное иго, безусловно, имело множество отрицательных последствий: нередки были случаи нравственного падения, ренегатства, перемены веры по карьерным соображениям. Но эти случаи не смогли погасить мощные импульсы духовных процессов, охвативших тогдашнее русское общество. По свидетельству Н.С. Трубецкого: «Главным и основным явлением этого времени был чрезвычайно сильный подъем религиозной жизни. <...> Иноземное иго воспринято было религиозным сознанием как кара Божия за грехи, реальность этой кары... ставила перед каждым проблему личного покаяния и очищения через молитву» [Трубецкой 2003, 162]. Смыслосозидающие последствия поражения проявились не только в экзистенциально-личностной сфере, но и в деле культуротворчества: «К этому времени относится кипучая творческая работа во всех областях религиозного искусства, повышенное оживление наблюдается и в иконописи, и в церковно-музыкальной области, и в области художественной религиозной литературы» [Трубецкой 2003, 162]. Ущемление на- циональной гордости не могло не сказаться на отношении к собственному историческому прошлому (не того, которое привело к поражению при Калке, а более далекого), в котором отыскивались героические страницы. Было создано «Слово о погибели Русския земли», получили редакционную обработку былины. В народном сознании «реальные удельно-вечевые князьки» и их дружинники возвышались до статуса «общерусских богатырей», а их противники, «мелкие предводители половецких налетов», приобретали образ «татарских ханов», которые ведут за собой несметные полчища. Происходила «идеализация Руси», которая «укрепляла восстающее против иностранного ига национальное самолюбие» [Трубецкой 2003, 163]. Экскурс в историю Древней Руси, предложенный Н.С. Трубецким, демонстрирует не стремление побежденных к эпистемологической точности и трезвому приятию настоящего, но, напротив, своеобразный эскапизм в идеализированное прошлое. Героизация прошлого, которая неизбежно сопровождалась гносеологической неполнотой и гиперболизацией в воссоздании его элементов, способствовала пробуждению национального самосознания. Тем самым был дан духовный (а впоследствии и политический) ответ на вызовы настоящего.
Таким образом, статус победителя или побежденного не является абсолютным. Победитель мог стать таковым, претерпев до этого череду неудач. И, напротив, побежденный некогда мог быть свидетелем славных страниц собственной истории. Если Шмитт, Козеллек и Майер подчеркивают эпистемологическое превосходство перспективы побежденного, значит, поражение в определенной ситуации оказалось намного более значимым, нежели предшествующие ему или следующие за ним победы. Оно обесценило смысл этих побед, заставляя воспринимать их через призму последующей военно-политической катастрофы. Речь идет о тотальном поражении, которое для потерпевшей ее стороны выступает источником новых дискурсивных практик.
Однако в какой степени исторический дискурс побежденного является самостоятельным и выражающим его личностные интенции и интересы его государства? Не явля- ется ли он добровольным или вынужденным сотворчеством дискурса победителя? Насколько универсальным является право побежденного на дискурс? Очевидно, что далеко не каждый победитель при надлежащем отношении к результатам своей победы гарантирует своим бывшим врагам право на самостоятельный исторический дискурс. На наш взгляд, возможность писать историю, будучи побежденным, гарантирована системой политических отношений, которая дает ему право на дискурс.
При исследовании амбивалентности перспектив победителя и побежденного необходимо принимать во внимание политические отношения, в которых была обретена победа и которые она за собой повлекла. Военные сражения представляют собой не просто состязание врагов в технической мощи. Победа достигается не только силой оружия. Она свидетельствует и о превосходстве одного политического проекта перед другим, его способности мобилизовать общество и придать моральные силы армии. С нашей точки зрения, узким и односторонним является понимание победы исключительно как окончания вооруженного противостояния. Военная победа представляет собой не финальную точку, но начало формирования новых политических констелляций. По свидетельству Мишеля Фуко, «властные отношения связаны в своей основе с некоторым соотношением сил, установившимся в исторически определенный момент в войне и с помощью войны... политика это санкция и продолжение продемонстрированного в войне неравновесия сил» [Фуко 2005, 36]. Используя политические инструменты, государство может как упрочить свои военные успехи, так и нивелировать их. В долгосрочной диалектической перспективе позиция победителя может оказаться более хрупкой и уязвимой, тогда как позиция побежденного способна в определенных условиях обнаружить свой творческий потенциал и исторические возможности.
Победитель посредством политических инструментов должен использовать военные завоевания, достигнутые дорогой ценой, так, чтобы жертвы, принесенные во имя государственного целого, были не напрасны. Не только война, но и послевоенное время проверяет на прочность политический статус победителя. Изменение политических отношений в ситуации post bellum бросает вызов прежнему триумфатору, который может лишиться своего статуса.
Побежденный не только пишет, но и творит историю, причем зачастую выходя за те рамки, которые отводит ему победитель. Однако история, создаваемая побежденными, далеко не всегда направляется миросозидающими и жизнеутверждающими смыслами. Она может быть исполнена ресентимента к победителю, стремлением поменяться с ним статусами, любой ценой одержав реванш. Так, Р. Козеллек отказывает поколению немецких историков, переживших поражение в Первой мировой войне, в претензии на методологическую плодотворность. Замкнувшись в своем национализме, они оказались нечуткими как к изменению опыта (Erfahrungswandel), так и к смене методологических оснований исторической науки (Methodenwechsel) [Weichlein 2009, 154]. Побежденные, не смирившиеся со своим поражением, при благоприятствующих для них условиях способны разжечь пожар новой войны в надежде обрести желаемое превосходство над прежними триумфаторами. Предельным вариантом последствий ресен-тимента, исходящего от побежденного, является гитлеровское попрание итогов Первой мировой войны. Как отмечает Э. Канетти: «Беспрерывно и неустанно Гитлер употребляет оборот “Версальский диктат”. <...> Повторение не уменьшало его воздействия, наоборот, оно росло с годами. <...> Для немца в слове “Версаль” воплощалось не поражение, которого он на самом деле так и не признал, – оно обозначало запрещение иметь армию, то есть деятельности, имеющей сакральный смысл, деятельности, без которой он не мыслил свою жизнь» [Канетти 2012, 226]. Гипнотическое воздействие словосочетания «Версальский диктат» на массовое сознание немецкой аудитории периода interbellum объясняется, во-первых, подчеркиванием собственного унижения (диктат, а не договор, означает, что потерпевший поражение народ лишен права отдавать собственные приказы и вынужден выполнять приказ врага: было нарушено «горделивое течение приказов от немца к немцу» [Канетти 2012, 226]). Во-вторых, упоминание Версаля было связано не только с унижением Германии в Первой мировой войне, но и отсылало к победоносным страницам немецкой истории. Именно в Версале в 1871 г. Бисмарком было провозглашено единство Германии. Тем самым выражение «Версальский диктат» связывало унизительное настоящее с победоносным прошлым: «Враги должны были бы слышать в этих словах угрозу войны и реванша, если бы они имели уши, чтобы слышать. <...> Версаль – это поражение, которое должно стать победой» [Канетти 2012, 227–228]. Однако следствием непризнания собственного военного краха стало новое поражение. В силу беспрецедентной по своим масштабам степени расчеловечивания, которая была достигнута во Второй мировой войне, побежденные уже не могли претендовать на утверждение своего наличного бытия в прежних границах. На этот раз побежденные не могли не признать своего политического и морального поражения – столь трагичными в масштабах всего человечества были последствия развязанной ими войны. Вместе с тем сам факт попыток апологии статуса побежденного (К. Шмитт, Р. Козеллек, К. Майер) свидетельствует о стремлении извлечь смысл (на этот раз сугубо эпистемологический, а не военно-политический) из этого статуса. Более того, претензии побежденных, лишенных возможности реванша в военной сфере, на статус лучших историков [Weichlein 2009, 152] представляют собой, на наш взгляд, попытку асимметричного ответа победителю. Невозможность продолжения военного противоборства не отменяет возможности соревнования в духовной сфере, финал которого заранее не предопределен.
Для окончательного ответа на вопрос о том, является ли исторический дискурс побежденного более глубоким и вдумчивым, нежели исторические свидетельства, оставленные победителем, необходима более детальная градация победителей и побежденных, определение меры свободы последних, раскрытие онтологического статуса и степени интенсивности победы и поражения. Наконец, необходимы специальные исторические исследования, которые позволили бы провести всестороннее сравнение дискурсов победителей и побежденных. Авторы, солидарные в выводе о том, что «историю пишут побежденные», оставляют без внимания фундаментальный, с нашей точки зрения, вопрос о том, как в принципе возможен исторический дискурс побежденного. Очевидно, что цель далеко не каждой войны совместима с признанием побежденного в качестве политического субъекта. В случае доведения до планируемого результата войны на уничтожение (Vernichtungskrieg) побежденные (если бы кто-то из них остался в живых) не только не смогли бы проводить рефлексию событий прошлого – избыток их жизненных сил был бы сведен к необходимому минимуму – «голой жизни» [Агамбен 2011], в максимальной степени подчинен биологическим законам. Точнее, после завершения этой войны уже не было бы смысла говорить о торжестве победителей и падении побежденных, остались бы лишь «выжившие и уничтоженные» [Meier 2010, 304].
Идея радикальной деантропологизации побежденного воплощена в аллегории Х.Л. Борхеса, которую приводит Ж. Бодрийяр: «побежденные народы были изгнаны по ту сторону зеркал, где, лишенные своего облика, они осуждены на то, чтобы отражать образ своих победителей» [Бодрийяр 2016, 140]. Побежденные в представлении Борхеса лишены свойства быть видимыми – свойства, присущего не только человеку, но и любому физическому телу. Они низведены до чисто функционального существования, утратив не только право на дискурс, но и право присутствия в физическом пространстве. Безусловно, здесь мы имеем дело с художественными образами, плодом фантазии писателя, однако они служат раскрытию идеи онтологической неравноправности победителей и побежденных. Если у потерпевшего поражение есть привилегированное право на собственный исторический дискурс, значит, победитель не лишил его как этой привилегии, так и физической возможности создавать историю (доступа к необходимым историческим источникам). Побежденный мог также отвоевать это право или приобрести его в изменившемся политическом контексте, в результате краха прежних политических идеалов победителя.
Уместным представляется проведение аналогии между перспективами победителя и побежденного (с одной стороны) и гегелевски- ми перспективами господина и раба (с другой стороны). Победителем (господином) становится тот, для кого социальное обладает большей значимостью, чем биологическое, животное существование, тот, кто готов поставить на кон свою жизнь ради признания. Победа господина над рабом носит диалектический характер. Посредством труда подчиненный раб становится в конечном итоге господином над природным миром, в то время как господин оказывается в «жизненном тупике» (А. Кожев), превращаясь в потребителя произведенных рабом вещей. Победитель лишен возможности обрести желаемое признание со стороны побежденного (раба), поскольку господином его признало несвободное сознание [Кожев 2003].
Раб (понятый в рамках гегелевской диалектики) выступает в роли творца материальной культуры, но не летописца. Он лишен возможности смотреть на мир из собственной перспективы. Его взгляд на мир является продолжением перспективы его господина, так, что порядок вещей, установленный господином, воспринимается им в качестве единственно возможного. Господин определяет границы дискурсивных практик раба и – более того – в определенных ситуациях требует от него производства желаемого дискурса, тогда как его собственной привилегией является не только право на дискурс, но и право на молчание: «тайна лежит в сокровеннейшем ядре власти» [Канетти 2012, 358]. Асимметрия, которая устанавливается между победителем и побежденным, относится не только к сфере политического, но и к их дискурсивным практикам. Более того, дискурсивные практики имеют политическое измерение, маркируя различный статус политических субъектов и исключая из сферы политического тех, кто лишен права на собственный дискурс. В данном контексте значимой является характерная для античной культуры оппозиция логоса и фоне, проанализированная Ж. Рансье-ром. Логос («достопамятная речь») является политической привилегией, позволяющей быть включенным в символическое пространство власти. Фоне («голос») есть простой инструмент, который служит лишь для выражения ощущений – удовольствий и страданий. Политические конфликты приводят к разде- лению на тех, кто обладает правом на логос и тех, кто лишен этого права, чья речь воспринимается как простая совокупность звуков, фоне: «Политике есть место, потому что логос никогда не сводится просто к речи, потому что он всегда неразрывно еще и учет этой речи: учет, посредством которого одни издаваемые звуки понимаются как речь, способная высказать справедливое, тогда как другие – лишь как шум, сигнализирующий об удовольствии или боли, согласии или возмущении» [Рансьер 2013, 47].
Вполне объяснимо стремление победителей в ситуации post bellum упрочить свое политическое доминирование и установить монополию на «логос» и контроль над дискурсивными практиками побежденных. Жертвы, принесенные во имя победы, окажутся напрасными при добровольном отказе победителей от завоеванных привилегий. Нельзя отрицать того, что именно выигравшая войну сторона обладает гораздо более широким спектром возможностей для укрепления своего положения. Меры, принимаемые победителями в отношении побежденных, могут быть разнообразны. В качестве таковых К. Ясперс называет «уничтожение, депортацию, истребление», отмечая, что они могут быть обличены победителем в форму права [Ясперс 1999, 23]. Однако далеко не всегда побежденным, даже виновным в развязывании войны, дано испытать на себе всю тяжесть военного поражения. В качестве причин проявления милости победителя к побежденным Ясперс выделяет, во-первых, «целесообразность» (то есть намерение использовать их в своих интересах), во-вторых, «великодушие», трактуемое как потребность в ощущении собственной власти, и, в-третьих, подчинение требованиям естественного права, которое не лишает побежденного всех его прав [Ясперс 1999, 25–26]. Побежденным во Второй мировой войне при оккупационном режиме, по признанию немецкого философа, была предоставлена необычайная свобода в духовной сфере. Свидетельством этого стала публикация им работы «Вопрос о виновности» (1946), в которой он делает смелое заявление о совиновности победителей в Первой мировой войне наряду с нацистским государством в развязывании новой мировой войны [Ясперс 1999]. Способом самоутверждения побежденных становится в данном случае не эпистемологический, но этический дискурс, возлагающий ответственность за развязывание войны не только на государство-агрессора. Побежденный, осознающий свою вину, согласно Ясперсу, оказывается в ситуации необходимости нравственного очищения [Ясперс 1999, 103–104], что, на наш взгляд, можно трактовать как попытку конституирования этической асимметрии в условиях асимметричных политических отношений.
История, написанная побежденным, может остаться «историей-в-себе», не имеющей сколько-нибудь значимых социальных и политических последствий. Утверждение о том, что «историю пишут побежденные», подразумевает, что это «история-для-себя», которая доступна общественности и обладает определенным влиянием на умы. Право побежденных писать историю – это не только возможность вдумчивой рефлексии собственных неудач, преследующая научные цели, но и шанс в ситуации post bellum продолжить противостояние, которое уже было завершено на полях сражений. Или, другими словами, это возможность продолжения войны иными средствами. Побежденный, наделенный правом писать историю, не побежден в абсолютном смысле данного слова. Отбирая и интерпретируя значимые для него события прошлого, он способен определять будущее. Следовательно, победители в справедливой войне, которая потребовала многочисленных жертв (и наследники их победы), должны проявлять особую зоркость в отношении дискурсивных практик побежденных, воздействие которых может сказаться не только в духовной, но и в политической сфере.
Список литературы Победитель и побежденный: кто пишет историю
- Агамбен 2011 - Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.
- Бодрийяр 2016 - Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. М.: РИПОЛ классик, 2016.
- Гегель 1993 - Гегель Г.В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. Канетти 2012 - Канетти Э. Масса и власть. М.: Астрель, 2012.
- Кожев 2003 - КожевА. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003.
- Люттвак 2012 - Люттвак Э. Стратегия: Логика войны и мира. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012.
- Платон 2014 - Платон. Законы. Послезаконие. Письма. СПб.: Наука, 2014.
- Рансьер 2013 - РансьерЖ. Несогласие: Политика и философия. СПб.: Machina, 2013.
- Трубецкой 2010 - Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Трубецкой С.Н., Трубецкой Е.Н. Избранное. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 305-556.
- Трубецкой 2003 - Трубецкой Н. С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока // Классика геополитики, ХХ век. М.: АСТ, 2003. С. 144-226.
- У-цзин 2001 - У-цзин. Семь военных канонов Древнего Китая. СПб.: Издат. группа «Евразия», 2001.
- Франк 1916 - Франк С.Л. Сила и право // Русская мысль. 1916. №№ 1. С. 12-17.
- Фуко 2005 - Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975-1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005.
- Ясперс 1999 - Ясперс К. Вопрос о виновности. М.: Издат. группа «Прогресс», 1999.
- Camus, Storme 2012 - CamusA., Storme T. Schmitt and Tocqueville on the Future of the Political in Democratic Times // The Review of Politics. 2012. Vol. 74, №> 4. P. 659-684.
- Carl Schmitt 2000 - Carl Schmitt. Antworten in Nürnberg. Berlin: Duncker & Humblot, 2000.
- Koselleck 2012 - Koselleck R. Arbeit am Besiegten // Zeitschrift für Ideengeschichte. Heft VI/1 Frühjahr 2012. S. 5-10.
- Koselleck 2006 - Koselleck R. Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2006.
- Meier 2009 - Meier Chr. Sieger, Besiegte oder wer schreibt Geschichte // Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co, 2009. S. 120-148.
- Meier 2010 -Meier N. Warum Krieg? - Die Sinndeutung des Krieges in der deutschen Militärelite 18711945. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich, 2010.
- Schmitt 2010 - Schmitt C. Historiographia in nuce: Alexis de Tocqueville // Ex Captivitate Salus. Berlin: Duncker & Humblot, 2010. S. 25-33.
- Weichlein 2009 - Weichlein S. Die Verlierer der Geschichte. Zu einem Theorem Carl Schmitts // Trugschlüsse und Umdeutungen. Multidisziplinäre Betrachtungen unbehaglicher Praktiken. Münster: LIT, 2009. S. 147-165.