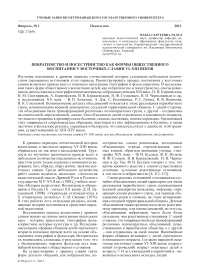Побратимство и посестринство как формы общественного воспитания у восточных славян VI-ХIII веков
Автор: Радул Ольга Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Изучение воспитания в древние периоды отечественной истории усложнено небольшим количеством письменных источников этого периода. Реконструировать процесс воспитания у восточных славян возможно прежде всего с помощью интеграции этнографии и фольклористики. В исследовании таких форм общественного воспитания детей, как побратимство и посестринство, союзы ровесников, использовались этнографические материалы, собранные учеными XIX века - П. В. Киреевским, И. М. Снегиревым, А. Коринфским, В. В. Боржковским, Н. Ф. Сумцовым, Н. Н. Чернышевым и др., и исследования XX века - В. П. Аникина, А. Дэя, С. Килимника, Р. С. Липец, Н. В. Новикова, В. К. Соколовой. Возникновение детских объединений относится к эпохе разложения первобытного строя, возникновения военной демократии, соседской территориальной общины. С одной стороны, эти объединения были трансформацией различных половозрастных групп, с другой - создавались на совсем иной, неродственной, основе. Они объединяли детей отроческого и юношеского возраста, что нашло отражение в древнерусских былинах, сказках, веснянках, песнях-хороводах. Организация этих товариществ сопровождалась обрядами, некоторые из них зафиксированы в былинах, а также частично в фольклоре русских, украинцев и белорусов, что свидетельствует о давности этой традиции, существовавшей до XIII-XIV веков.
Воспитание, восточные славяне iv-xiii веков, детские объединения, побратимство, посестринство
Короткий адрес: https://sciup.org/14750349
IDR: 14750349 | УДК: 37(09)
Текст научной статьи Побратимство и посестринство как формы общественного воспитания у восточных славян VI-ХIII веков
К древним периодам отечественной истории воспитания, в частности периоду VI–ХIII веков, обращалось не так много исследователей. Трудность их изучения заключается прежде всего в небольшом количестве письменных источников, при этом в них только косвенно упоминаются верования, быт, обряды, образ жизни, занятия восточных славян. Среди небольшого количества работ можно выделить несколько: «Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XVII вв.» (1985), учебное пособие «История педагогики. Воспитание и образование в России (Х – начало ХХ века)» Д. И. Ла-тышиной (1998), «Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку» Е. И. Сявавко (1974). В этих работах есть отдельные разделы, посвященные истории воспитания и средствам народной педагогики.
Восстановить процесс воспитания у древних славян можно на основе интеграции нескольких наук – истории, археологии, этнографии, фольклористики, истории культуры и др. Исследование вопроса о формах общения детей отроческого возраста возможно прежде всего на основе объединения этнографии и фольклора. Исторически их взаимосвязь сложилась в результате того, что у бесписьменных народов фольклор есть важнейший компонент общественного сознания.
На существование у древних славян таких форм детского общения, как побратимство, по
сестринство, союзы ровесников, молодежные объединения, отряды отроков-воинов, местных князей, обратили внимание ученые, этнографы ХIХ века – Ф. И. Буслаев, Ф. К. Волков, Н. Ф. Сумцов, В. В. Боржковский, Н. Н. Чернышев и др. Так, Ф. И. Буслаев говорил о том, что кроме кровного родства у славян существовали условные, духовные родственные отношения, в том числе и побратимство [4; 312–313].
Смена родовых отношений отношениями случайно объединенных людей характерна для эпохи разложения первобытного строя, возникновения военной демократии (вождизма, чифдома), отрицавшей основы родового строя, для периода объединения родов в племена, на этапе возникновения соседской территориальной общины. Детские объединения также организуются не по родственному принципу, а на основе симпатий, но эти узы, объединявшие побратимов, часто были более сильными, чем родственные отношения. С одной стороны, эти товарищества были трансформацией различных половозрастных объединений, существовавших в первобытном обществе, а с другой – они создавались на иной основе. Внесемейные формы общения возникают у детей отроческого и юношеского возраста. Согласно народной педагогике восточных славян VI–ХIII веков, подростковый (отроческий) возраст охватывал детей в возрасте 7–14 лет, юношеский («парубочий») – неженатых и незамужних молодых людей.
Одним из источников изучения побратимства у древних славян является фольклор. Так, этнограф Ф. К. Волков в статьях 90-х годов ХIХ века, посвященных явлению побратимства на территории Украины, обратил внимание на его отражение в былинах, сказках, пословицах. Об этом писал в работе «Современная малорусская этнография» Н. Ф. Сумцов [16; 90].
Явление побратимства в былинах изучала исследовательница древнерусского фольклора Р. С. Липец. Она обратила внимание на то, что в былинах устойчивы пары богатырей-побратимов: Илья Муромец и Добрыня, Добры-ня и Алеша Попович и др. Каждый из них называется «братом названым» или «крестовым». В то же время из двух побратимов один занимает несколько подчиненное положение, как бы младшего брата. Во время военных действий такие побратимы неразлучны и должны выручать друг друга в минуту опасности, в частности об Алеше Поповиче и Екиме Ивановиче поется: «Оне ездят, богатыри, плеча о плечо, Стремяно в стремяно богатырское». Выражение «ездить у стремяни» в древнерусских письменных памятниках обозначает и союз, и какие-то отношения подчиненности. Былины сообщают, что побратима нельзя было убить, что желание побратима было законом для другого [8; 84–85].
Организация этих товариществ сопровождалась определенными обрядами. Древнерусские былины зафиксировали отдельные из них. Так, для осуществления акта побратимства между русскими богатырями достаточно было обменяться нательными крестами, что указывает на соединение древних традиций и христианских. В других вариантах обменивались конем и платьем: «Да конями с Чурилом-то поменяносе, Да цветным-то платьем побратаносе» [8; 85].
Традиции побратимства у восточных славян сохранялись на протяжении многих веков и существовали в отдаленных регионах Украины, России, Белоруссии еще в ХIХ веке. Модели совершения обрядов побратимства зафиксированы этнографами. Наиболее древним способом братания было заключение союза между ровесниками путем обмена горстями земли. Земля у славян символизировала силу взаимной клятвы и верности слову. Горсть земли зашивали в ладанку и носили на шее, в чем проявлялась связь обычая с языческими верованиями [9; 19].
Один из вариантов побратимства описал И. Франко, наблюдавший его среди молодых пастухов в горных карпатских селениях. Дети брали палку, разрезали ее вдоль на половинки, делали на них зарубки, в которые вкладывали несколько зерен. Потом соединяли половинки, брались за палку и говорили: «Побратим?» – «Побратим» – «До какого времени?» – «До гробовой доски». С этой минуты подростки обращались друг к другу на «вы», называли себе побратимами, братанами, помогали друг другу во всем [2; 65].
На Украине в ХIХ веке сохранялся обряд «коронования» – принятие подростка в пару-боцтво. Молодежь собиралась в определенном месте. Подросток, желавший стать членом товарищества, кланялся им. После этого его поднимали вверх и пели величальную песню. Коронованный садился в круг новых товарищей и угощал их. Прием в товарищество обозначался допущением вступившего к общей работе с последующим угощением в его честь [3], [15; 38– 39]. Н. Ф. Сумцов обратил внимание на то, что, во-первых, древним проявлением культуры в этом обряде выступает факт вступления в пару-боцтво, отвечающий возрастным инициациям. Во-вторых, древность этого обряда подтверждает способ принятия подростка и само название «коронование». Ученый относит его ко временам «удельно-вечевой Руси, а может быть и более древней Руси, разделенной на мелкие племенные особи», когда при выборе князя его поднимали вверх и пели величальные песни [15; 39]. Эту же точку зрения отстаивал и этнограф Н. Н. Чернышев. По его мнению, если взять во внимание всю сумму характерных парубоцтву прав и обычаев, возникновение «парубоцтва» как общественной группы должно быть отодвинуто в несравнимо более отдаленное прошлое, выходящее за пределы исторического. Ученый добавлял, что сравнительно-этнографические исследования этого вопроса подтверждают эту мысль [17; 492].
Все эти примеры свидетельствуют о том, что отношения древнерусского побратимства были новыми, потому что формировались не по принципу родства, обряд же при этом использовался древний.
Древнерусские былины указывают на то, что побратимами, членами молодежных товариществ были ровесники, подростки и юноши одного возраста. Некоторые герои былин набирают себе дружину ровесников с 12 или 15 лет, что, в свою очередь, подтверждает существование в древнерусском обществе подростковых объединений отроков-воинов. Например, в наиболее архаичной былине сообщается:
Стал себе Волох он дружину прибирать,
…Он набрал дружину себе семь тысяч тысячей;
Сам он, Волох, в пятнадцать лет,
И вся его дружина по пятнадцати лет [8; 98].
Р. С. Липец акцентирует внимание на том, что молодые воины-дружинники и внешне похожи между собой во всем [8; 98]:
Прибирал он дружью-то, дружины всё хоробрыя, Шьтобы были всё да одного росту,
А да голос к голосу да волос к волосу.
А ис тридцать тысяч только выбрал триста добрых молодцов.
Вся дружина одета в одинаковые платья, ездит на конях одной масти и т. п.
Эти же черты отмечены и в русских сказках, где речь идет о 12 молодцах. Например, в сказке из собрания А. Н. Афанасьева «Вещий сон» (№ 91): «Иван купеческий сын набрал себе товарищей, и было всех их с Иваном двенадцать человек, а похожи друг на дружку словно братья родные – рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней…» [10; 261], в сказке «Хитрая наука» (№ 97): «…двенадцать добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила» [10; 261, 279].
Дружина молодых отроков-воинов, возглавляемая юношей того же возраста, широко известна по историко-этнографическим материалам и эпосам разных народов. Она тесно связана с мужскими союзами, значение которых возросло, как уже говорилось, в эпоху военной демократии (вождизма, чифдома). Эпос воспевает дружины именно этой эпохи. Бурное развитие героического эпоса в Киевской Руси в конце I – начале II тыс. было обусловлено переломным характером этой эпохи.
Существование подростковых и юношеских объединений зафиксировано и в веснянках, например в украинской веснянке «Барвинок»:
Там на крутій горонці З’їжджаються молодці;
Молодці ся з’їжджають, Ворон коня сідлають.
Межи ними оден подобен, Пусти коня сідлати, Сам пішов зілля копати.
Роман зілля копає
Та сам його не знає.
Поніс він єго на раду,
Межи господарську громаду…
[потом] В господинську громаду. <…> [потом] Межи дівочу громаду [6; 281–282].
В этом варианте очень выразительно отмечено, что «ворон коня седлает», что означает, что товарищество собирается в поход. Один из них «роман-зелье» копает, то есть собирается жениться. От него отрекается товарищество молодых воинов, взрослое общество его еще не принимает, а принимает женская громада. Таким образом, в этой веснянке обращается внимание на тот факт, что из юношеского объединения исключается тот, кто собирается жениться, то есть оно объединяет только холостых молодых людей, составляющих определенную возрастную группу. Кроме того, здесь зафиксировано и существование девичьего товарищества.
Меньше информации в историко-этнографической литературе об объединениях девочек-подростков и девушек. Этнографические материалы, собранные в ХIХ веке П. В. Киреевским, А. Коринфским, М. А. Максимовичем, И. М. Снегиревым, Н. П. Степановым и др., сообщают о такой форме посестринства, как кумление.
Обряд посестринства происходил в конце весны – начале лета, в русальную (позже – троицкую) неделю. Молодые девушки шли в лес, выбирали самую красивую березу, украшали ее разноцветными лентами, плели из цветов венок и вешали его на дерево или завивали ветви березы, образуя из них венки. Под березой водили хороводы, по очереди целовались через венок, обменивались бусами, кольцами, пели песни. Например, в Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской губерниях в первой половине ХIХ века пели: «Покумимся, кума, Покумимся! Нам с тобою не браниться, Вечно дружиться» [13; 131–132]. В украинском варианте аналогичный текст: «Ой кумочки, И голубочки, Мы у лис идем, Мы кумится йдем, И покумимося, И пого-лубымося» [5; 23]. Белорусские девушки во время обряда кумления пели и русальные песни, например: «Русалочки, земляночки, На дуб лезли, кору грызли, Свалилися забылися» [13; 15], что подтверждает проведение обряда в русальную неделю. Все заканчивалось обрядовым общим кушаньем, причем обязательно была яичница. В некоторых случаях украшенную березку устанавливали в поле, что нашло отражение в русской песне-хороводе «Во поле береза стояла».
У русских молодых девушек обряд посе-стринства еще назывался крещением кукушки («кукушку крестить»). Девушки связывали две березки и пели: «Ты кукушка ряба, Ты кому уже кума? Покумимся, кукушка, Покумимся, голубушка, Чтоб нам с тобой не браниться» [12; 299].
После всех обрядовых действий молодые девушки давали друг другу слово посестринской верности. Иногда кумились не отдельные пары, а все девушки между собой и тогда заплетенный венок переходил по очереди с одной головы на другую [1; 175]. Покумившиеся девушки становились как бы кровными родственницами, обещали дружить всю жизнь. Использование березы как культового дерева у древних славян и клятва под нею означали крепость дружеских отношений, усиливали значимость обряда.
Существованиеодинаковыхобрядовпосестрин-ства у русских, украинцев и белорусов свидетельствует о давности этой традиции, существовавшей до XIII–ХIV веков . Древность обычая кумления подтверждает исследовательница русского фольклора В. К. Соколова. Она пишет, что кумление на семик восходит к обрядам родового строя. Скорее всего это было принятием в род, признанием его полноправными членами девушек, достигших определенного (брачного) возраста, своеобразная инициация. Кумовство – посестринство скрепляло половозрастной союз [14; 200].
Об архаичности этих обрядов свидетельствует наличие в песнях аграрно-магического со- держания. Например, в Вологодской губернии девушки под березами пели:
Где девки шли, Сарафанами трясли – Тут рожь густа, Умолотиста, уколосиста: С одного то колоска
Умолотишь три мешка [14; 210–211].
Существование девичьих объединений подтверждают сказки восточных славян, в которых говорится о девичьих царствах, девушках-богатыршах. По мнению Н. В. Новикова, эти сказки имеют историческую основу, относящуюся к отдаленной эпохе матриархата [11; 74]. В ряде сказок упоминается о двенадцати сестрах. Птичками они прилетают в баню мыться, на берег реки купаться и т. п. и перевоплощаются в людей. Живут они в отдельном доме, как, например, в сказках «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», «Ночные пляски» [10; № 84, 115].
Упоминание в сказках 12 сестер, 12 юношей, словно братьев родных, говорит о том, что это были не родные братья и сестры. Древнерусская семья из-за небольшой продолжительности жизни, по подсчетам археологов, могла иметь не больше 5–6 детей [7]. Следовательно, это были детские и юношеские объединения по возрасту и полу.
Детские объединения занимали важное место в общественном воспитании восточных славян. Верность клятве формировала понятие о дружбе и чести как высших моральных качествах. Очевидно, с тех давних времен возникли пословицы о дружбе, бытующие у всех восточнославянских народов: «Доброе братство дороже богатства», «С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь», «Бой красен мужеством, а приятель дружеством», «Верну другу несть измены», «Конь до коня, а молодец до молодца» и др.
125 p.
Список литературы Побратимство и посестринство как формы общественного воспитания у восточных славян VI-ХIII веков
- Аникин В. П. Русский фольклор: Учеб. пособие для филол. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1987. 286 с.
- Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII вв./Сост. С. Д. Бабишин, Б. Н. Митюров. М.: Педагогика, 1985. 363 с.
- Боржковский В. «Парубоцтво» как особая группа в малорусском сельском обществе//Киевская Старина. 1887. Т. 18. № 8. С. 765-776.
- Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка: Учеб. пособие для студентов пед. институтов. М.: Просвещение, 1992. 572 с.
- Дей О. Народно-пiсеннi жанри. Киев: Музична Україна, 1983. 176 с.
- Килимник С. Український рiк у народних звичаях в iсторичному освiтленнi: У 3 кн. 6 т. Факс. вид. Киев: АТ «Обереги», 1994. Кн. 1. 400 с.
- Козюба В. К. Iсторико-демографiчна характеристика давньоруської сiм’ї (за матерiалами iсторичних та археологiчних джерел)//Археологiя. 2001. № 1. С. 29-41.
- Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. М.: Наука, 1969. 302 с.
- Народная Русь (А. Коринфский, 1901). М.: Белый город, 2007. 592 с.
- Народные русские сказки А. Н. Афанасьева/Сост. А. А. Горелов. Л.: Лениздат, 1983. 446 с.
- Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л.: Наука, 1974. 255 с.
- Песни, собранные П. В. Киреевским. Изданы Обществом Любителей Российской Словесности при Императорском Московском Университете. Вып. 1. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1911. 125 с.
- Снегирев И. М. Русские народные праздники и суеверные обряды. М.: Сов. Россия, 1990. Ч. 1. 160 с.
- Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX -начала XX в. М.: Наука, 1979.
- Сумцов Н. Ф. Культурные переживания//Киевская Старина. 1889. Т. 27. № 10. С. 18-51.
- Сумцов Н. Ф. Современная малорусская этнография//Киевская Старина. 1895. № 10. С. 88-96.
- Чернышев Н. Н. К вопросу о «парубоцтве» как особой общественной группе//Киевская Старина. 1887. Т. 19. № 11. С. 491-505.