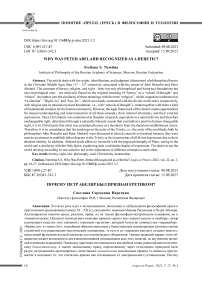Почему Петр Абеляр был признан еретиком?
Автор: Неретина С.С.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие αιρεσισ (ересь) в философии и теологии: от античности до современности
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет о возникновении, опознании и о(б)суждении философской ереси в христианском средневековье (конец XI - XII в.), связанной с именами Иоанна Росцелина и Петра Абеляра. Анализируются понятия ереси, религии, права, их не только философско-исторические основания, но и этимологические. Исходя из изначального значения термина «ересь» как «школы мысли» и «выбора», автор усматривает сходство этих значений с термином «религия», который Августин понимал как «перевыбор». «Право, ius» и «закон, lex», теснейшим образом связанные с божественным миропорядком (соответственно с религией и ее рационально-мистическим основанием, то есть и со «школами мысли») создают вместе с ними некий фундаментальный комплекс для человеческого общежития. Однако правовой каркас этого общежития создает возможности для взаимопонимания и взаимосвязи всех этих понятий, их внутренних интенций и внешних выражений. Поскольку христианство понималось как свобода слова, равнозначная естественному божественному, а значит неизменному праву, определяемому через естественно присущий всем разум, вступающий в противоречие с позитивным человеческим изменчивым правом, то именно в христианстве и возникает то, что считалось ересью как отклонением от доктринального установления. Потому неслучайно, что учения о единстве Троицы, то есть единстве множества, обоих философов - Иоанна Росцелина и Петра Абеляра - обсуждались на церковных соборах как еретические, ибо в них усматривалась попытка установления или степеней в Троице, или инкарнации всех божественных ипостасей вследствие их абсолютной тождественности. К тому же Абеляр предпринял усилия по примирению с языческой философией Платона, усмотрев в Мировой душе сходство со Святым Духом, объяснив подобное схоластической двойственностью выражения. Желание увидеть мир развивающимся по одному сценарию приводило к подстраиванию разных понятий друг к другу.
Ересь, право, закон, философия, душа, христианство, воплощение
Короткий адрес: https://sciup.org/149145052
IDR: 149145052 | УДК: 1(091):27-87 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.2
Текст научной статьи Почему Петр Абеляр был признан еретиком?
DOI:
Цитирование. Неретина С. С. Почему Петр Абеляр был признан еретиком? // Logos et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 16–27. – DOI:
Что такое ересь?
В ХII в. различаются два вида ереси: теоретический (философско-логический анализ догмата о Троице, научный или ученый, гностический) и практический (социальные действия). К первому виду ереси относятся учения Иоанна Росцелина и Петра Абеляра, с именами которых связано возобновление спора об универсалиях, ко второму – учение и деятельность, например, Арнольда Брешиан-ского, ученика Абеляра, участника борьбы за установление светской инвеституры и попытку восстановления древней Римской республики. Иногда ересью признавались и дисциплинарные нарушения (симония).
В попытках понять, что такое ересь и каковы мотивы обвинения в ереси, нужно не забывать, само слово «ересь» означает «школа», даже «школа мысли», «направление», «выбор», оно произошло от древнегреческого агреок; , a ai'peai^ от глагола aipeto, «избирать» или даже прежде того «брать, хватать», что словари сравнивают с праиндоевропейским * ser - «хватать». Об этом надо напомнить именно в связи с учениями об универсалиях Абеляра, для которого термин « conceptus », схватывание, имел важное философское и методологическое значение для процесса понимания.
Подобный смысл термина «ересь» должен был способствовать развитию философской мысли. Причем этому не должна была бы мешать оглядка на канон как на правило, которому надо следовать. Но в христианстве довольно быстро понятие ереси приобрело значение отклонения от веры; по-гречески, хотя и в латинской транскрипции, было записано о наказании монтанистов и манихеев «смертной казнью мечом» [Бибихин 2005, 230].
Между тем понимание ереси как выбора не исчезало, как и понимание Августином религии. В трактате «О граде Божием» он писал о том, что этот термин означает «пере-выбор» (от глагола r-eligo ) [Аврелий Августин 1994 II, 107–108]. Эти два термина, как и должно, соответствовали друг другу. Тем более если речь шла о личном убеждении, включающем размышление. Сама христианская вера понималась как свобода Слова (« Suscipitisne libertatem uerbi? » [Decretum web]) и именно в таком качестве она была внесена в каноническое право, на котором покоилась как институт (см., например, различение X, гл. VI в: [Декрет web]). Поэтому наряду с понятием ереси надо исследовать и понятие права, ius .
Что такое право?
Происхождение этого термина неясно. Специалисты считают несомненным его связь с произнесением формулы религиозной клятвы (см.: [Шевцов 2013, 330]). Его производят от авестийского «благополучия», «достатка», от староиндийского «блага», «счастья», от санскритского слова, означавшего «религиозные формулы», от общеиндоевропейского корня * yaus ; при этом отмечается «различие употребления его в индийском и иранском: в одном случае он означает “то, что дóлжно сделать”, в другом – “то, что дóлжно сказать”», в латинском же термине « ius » соединяются оба значения. Как пишет С.П. Шевцов, «этапы постепенно происходившей десакрализации» термина ius «не вполне ясны» [Шевцов 2013, 330].
Более того, «право» в Законах XII Таблиц обозначалось термином lex. Шевцов, однако, считает вероятным, что и ius, и lex «включали в свою семантику элемент отнесения к божественному мироустройству» [Шевцов 2013, 331]. Проводится параллель между терминами lex и rex - legere и regere (правитель, царь – править, управлять), права и молитвы. За различными употреблениями этих терминов многие исследователи усматривают «общее значение, указывающее на божественное начало миропорядка». Э. Бенвенист к тому же полагал, вслед за Цицероном, родство терминов religio и legere. При этом Цицерон выделял в legere значение «выбирать» (см.: [Шевцов 2013, 332]). Цицерон был авторитетом для Августина, и когда Августин определяет религию через выбор, его связь с Цицероном очевидна. Она не менее очевидна и для последующих мыслителей. Так что связь между правом, религией и ересью кажется (при всех этимологических допущениях) несомненной, ибо, прав Шевцов, не только этимология здесь диктует, но и устоявшиеся значения слов, ставшие обыденными. Шевцов к тому же говорит (со ссылкой на: [Кофанов web]), что ius как установление существует в имманентном миропорядке как частный случай. «Поэтому и существует столько разновидностей ius: ius privatum, ius augurium… ius publicum… ius humanum… ius civile, ius divinum и т. д., включая, ius naturale» [Шевцов 2013, 333].
Проблема сосуществования светского и божественного права весьма значима для «городского» XII в., когда появляется целая когорта легистов и начинают составляться разные сборники права. Для выяснения отношений с ересью нам достаточно пока указаний связей между ними, прежде всего, упоминания естественного права как одной из отсылок к миропорядку. Не исключено, что именно естественное право, ius naturale, пришедшее из Римского права, требовало восстановления в действии, ибо Абеляр был одним из первых философов, обративших внимание на его отличие от позитивного права. Устами именно Философа из «Диалога между Философом, Христианином и Иудеем» он говорит о том, что «естественный закон состоит в нравственном познании, что мы называем этикой, и заключается только в нравственных доказательствах» [Абеляр 2010, 487]. Этот Философ – «старой» (римской, не исключено – цицеронианской) школы, ибо он возражает автору-Абеляру, которому этот диалог «в ночи привиделся» [Абеляр 2010, 484]: «Учение ваших Законов прибавило к ним некие указания на соблюдение внешних правил (signum), которые нам кажутся совершенно излишними» [Абеляр 2010, 487], что, кстати говоря, опровергает мнение Шевцова о понимании ius как об отношении частного случая к миропорядку, а прямо к нему, миропорядку, относится. В Декрете Грациана сказано: «Право есть общее имя, а закон – разновидность права» [Декрет web]. Практика употребления этих слов, впрочем, достаточно разнообразна. Библия как выражение божественного закона всегда обозначалась через Lex, а божественное право как ius. Более того, неверно, что «ius при всей его значимости в имперские времена и при достаточной устойчивости в постимперские, при рецепции римского права по крайней мере с XII века (курсив мой. – С. Н.), сохранился только в своих производных iustitia, iurisprudentia и др.» [Шевцов 2013, 335]. Конечно, всякий народ «приспосабливал латинские термины к своему пониманию» [Шевцов 2013, 335], но Абеляра интересует тот же процесс сравнения ius с lex, под которым он понимает Ветхий завет как Lex sacra, и c ius positivum, с которым ius naturalе расходится, а не входит в него. Оба термина встречаются в его произведениях, например в «Диалоге между Иудеем, Философом и Христианином». У Августина же в трактате «О диалектике» связанное с lex выражение ad loquendo означает внутреннюю, еще не высказанную мысль [Аврелий Августин web].
Философу из Абелярова «Диалога» известно, что до появления правовой традиции «либо соблюдений законодательных предписаний, большая часть их содержалась в естественном законе, который, что очевидно, состоит в любви к Богу» [Абеляр 2010, 496]. Уже одно это свидетельствует о принадлежности человеку исконных и неотчуждаемых естественных прав по самому факту его принадлежности к человеческому роду, например право на жизнь и любовь. Устами Философа Абеляр делит право на естественное и позитивное. Он определяет естественное право как «то, что нужно исполнять через труд», через усилие размышления, внутреннего обдумывания, ибо «это сам разум, который естественно присущ всем и в силу этого пребы- вает у всех, чтобы почитать Бога, любить родителей, наказывать злодеев, и соблюдение его необходимо всем, так как никакой заслуги без него недостаточно» [Абеляр 2010, 564]. Позитивное же право – это «то, что установлено людьми», очевидно, что это не сакральное право, оно может меняться, поскольку служит «для обеспечения или увеличения общей полезности или благопристойности». В отличие от естественного права, оно опирается «либо только на обычай, либо на авторитет записи, касательно, например, наказания виновных» [Абеляр 2010, 564]. Абеляр фиксирует образование «ножниц» между позитивным и естественным правом: «Когда нужно с кем-то жить, мы обязаны придерживаться для себя как тех установлений, о которых мы сказали, так и естественного права» [Абеляр 2010, 564].
Он ставит коварнейший вопрос, достаточно ли естественного закона «для спасения людей без внешних и своеобразных для Закона деяний» [Абеляр 2010, 501]. Речь уже идет не о некоем всеобщем божественном законе, а именно о Законе, данном и сказанном только иудеям (lex связан с legere, оглашать, зачитывать). Абеляр заходит в своем вопрошании, представленном ему естественным правом, правом свободного мыслящего человека, любящего Бога, то есть самоё Мудрость, дальше, чем ему предлагалось существовавшим обычаем понимать божественное право. Он спрашивает: если человеку присущи вера и любовь, то есть праведному человеку, если предписания естественных (неписанных) уставов «достаточны для кого-либо, как и до [записи] Закона… то что за необходимость была подпадать под его иго и приумножать преступления из-за многочисленных запретов. Ведь там, где нет Закона, нельзя и лицемерить перед ним» [Абеляр 2010, 503]. Абеляр, поступавший (писавший, говоривший) именно на основании естественного права (см.: [Абеляр 2010, 538, 554]), как бы предрекает свое еретичество. Он все время осуществляет выбор: диалог не случайно ведут иудей, христианин и философ. Даже Иудей соглашается, что «люди могли спастись только на основании естественного закона… не соблюдая ничего телесного из писанного Закона» [Абеляр 2010, 504]. Иудей в «Диалоге» функционирует как своеобразный «мост», он обнаруживает момент, когда естественный закон смыкается с писанным Законом – ради «укрепления или надежной защиты религии и для искоренения великой порочности» [Абеляр 2010, 504], ибо запрет чего-либо обнаруживает, делает явной интенцию к злодеянию. Но это не значит, что позитивный закон как-то сообразуется с естественным. Абеляр говорит о необходимости «придерживаться» того и другого закона, а не об их сообразовании, ибо земная жизнь все же имеет самостоятельный статус существования, и ничто человеческое ей не чуждо, значит и человеческая злоба, зависть, тщеславие, что в случае с Абеляром да и Росцелином проявилось остро. Присутствие наряду с писаным законом неписаного свидетельствует о том, что в рамки писаного вмещается не все. Невмещаемое связано с личностью, ярко выраженной индивидуальностью, оригинальностью и пр., которые не позволяют полностью растворить себя в законодательных регулах. Поэтому независимо думающему свободному человеку при неотъемлемости от него естественного (божественного) права позитивный закон оставляет немного. Считается, что его свобода им обеспечивается, его правота должна быть принята на веру (даже если он когда-то был принят на основании разума, но ты-то родился сейчас, когда закон, которому все должны повиноваться, уже есть). Тот, однако, невмещаемый остаток и был основанием для «наказуемой ереси».
Декрет Грациана
ХII в. был веком, когда шла деятельная работа по реформированию самых разных областей жизни – и светской, и религиозной. Вопрос об инвеституре (о способе обладания светской властью, на которую претендовали и церковь и светские владыки) был одним из главных при проведении церковно-правовых реформ, приведших к принятию Декрета Грациана, подоспевшего к Сансскому собору 1141 г., когда был осужден Петр Абеляр, и способствовавшего выделению из теологии канонического права. Поскольку церковь говорила от имени вечности, а мирской государь – от времени, то проблема того, в какой именно форме воплощается Божье Слово, то есть как проявляется вот в этом конкретном времени грамматика Бытия, стала одной из первейших. Это вело к повышению статуса знания, а значит и школ, где вырабатывалось ученое согласие с верой. Но поскольку школа требовала дисциплины урока, то эта дисциплина была направлена на извлечение смысла текста при снятии буквальных значений. Знание ускользало от ревизии верой, для их согласования требовалась сила свободной воли. Ансельм Кентерберийский заметил такое рассогласование веры и знания у Иоанна Росцелина, а Бернард Клервоский у Петра Абеляра. Вера потому и вера, что она всегда ортодоксальна, а знание, добытое разумом, напротив, всегда за пределами ортодоксии (в молитве «Отче наш», которую Абеляр толковал по просьбе Элоизы, звучало не «хлеб наш насущный», «panis substantialis», а «хлеб сверхсущий», «panis supersubstantialis»). Запечатленное, прочитанное слово-логос, связанное с lex, требовало выражения в трепещущем и изменчивом слове-verbum, cвязанном с ius. Это особенно ярко проявится в «Теологии “Высшего блага”», где Абеляр допустит сходство Мировой души Платона со Святым духом. Вера в правильность разумного мироустроения предполагала право вопрошать все, лежащее за пределами устоявшегося знания (Абеляр без колебаний дает разумное истолкование книги Иезекииля).
Общие теоретико-этимологические рассуждения подкрепляются конкретным правовым источником – Декретом Грациана.
Начиная с XII в. происходит отделение разных школьных дисциплин друг от друга. Стараниями Абеляра теология выделилась из философии. Что касается правовых дисциплин, то в Болонье, а затем в Париже от теологии отделилось каноническое право, оставаясь ориентированным на теологию (в том его отличие от Римского права, которое интересовали только правовые нормы). «Декрет Грациана», или «Concordia discordantium canonum» («Согласование рассогласующих-ся канонов»), по определению А.А. Вишневского, – это право «не юристов», а право, действующее «в рамках религиозной (христианской) космологии» [Вишневский 2010, 47–48]. Это первая систематизация канонов, опирающаяся и на Римское право, и на обычаи, за- фиксированные или в варварских правдах, или в христианских текстах (Библии, Августина или «Этимологиях» Исидора Севильского, на которого Грациан часто ссылается). В Декрете Грациана (болонского то ли монаха, то ли магистра, то ли того и другого) кажущиеся противоречивыми каноны не отменяются, но проясняют, как считает Вишневский, разные аспекты одного и того же явления.
Законы, как записано в Декрете, должны соответствовать «природе, обычаю родины, отвечать месту и времени», быть «необходимыми, полезными, наконец, понятными, дабы в силу неясностей не увлекать в ловушки, предписанными не ради личной выгоды, но для общей пользы граждан». Они «приобретают прочность, когда закрепляются привычками применяющих их. Так как некоторые законы, противоположные привычкам применяющих их, оказались ныне лишенными силы, сами законы утверждаются привычками применяющих их… Не порицают как виновных в нарушениях тех, кто не соблюдает нечто, хотя и установленное законами, но все же не закрепленное общим употреблением (курсив мой. – С. Н. ). Вообще же непо-винующиеся им… теряют собственную должность, поскольку тем, кто не в состоянии повиноваться святым канонам, приказывают полностью оставить принятое служение; если только кто-нибудь не скажет, что это было установлено не в качестве декрета, а предписано как поучение. Ведь декрет предписывает необходимое, а поучение побуждает свободную волю» [Декрет web]. Когда Абеляра судили первый раз в 1121 г. в Суассоне, то постановили сжечь его книгу «Введение в теологию». На собор «в колымагах золотых» съехались светские владетельные сеньоры и сам король, которые ждали диспута, точнее – речи Абеляра, высказываний Абеляра, поучений Абеляра. Абеляр же, измученный, собственноручно бросил книгу в огонь и ушел с собора. Он исполнил закон как декрет, а не как поучение свободной воли, наказав сам себя и не оправдав ожиданий жаждавших его услышать.
Эта «невинность из-за неупотребления» была тем неучтенным моментом, содержащим ту остаточность умения, знания, поведения, которая не втискивалась в закон. Гра- циан или все способствовавшие появлению Декрета, понимали это и старались наметить способ учета этой остаточности, благодаря которой, не исключено, что и не признавшие себя еретиками или иным способом освободившие себя от этого звания (путем ли примирения или замалчивания), остались не заклейменными.
Задачей Декрета является то самое согласование божественного и человеческого права, смысл которых в «укрощении дерзости человеческой и стеснении способность вредить» [Декрет web], то есть как раз то, что помогает определить верную или еретическую позицию. В Декрете считается бесспорным авторитет Вселенских соборов (особенно первых четырех), на него будет опираться поместный собор Санса, осудивший Абеляра в арианской, несторианской и пелагианской ересях. Освещаются проблемы брачно-семейных отношений, «сожительство клириков с женщинами», дисциплина клира и о том, как Церковь отсекает от своего тела (в пределе это – мир) упорствующих в заблуждениях. Все эти вопросы так или иначе затрагивали Абеляра – беглого монаха и женатого клирика. И хотя термин «клирик» в ХII в. практически означал интеллектуала, время от времени обновлялись старые представления, напоминавшие о правиле целибата, так что все это держало Абеляра в постоянном напряжении. В целом клюнийская реформа с ее требованием целибата для духовенства успеха не имела, и это видно не только на примере Абеляра-каноника. У клириков были возлюбленные и незаконнорожденные дети. И у Абеляра был внебрачный сын Петр Астролябий, рожденный Элоизой до их брака с Петром [Неретина 2019]. Целибат не приживался, и французские короли разрешали жениться младшим чинам церковной иерархии во избежание «разврата».
Отношения с каноническим правом должны были постоянно находиться в состоянии противостояния. Не исключено, например, что неприязнь (если не сказать – вражда) возникла у Бернарда Клервоского к Абеляру не только в силу разного отношения к схизме, что Абеляр тяжело переживал и открыто поддерживал «греков»: свою молельню он назвал Параклетом в честь греческого Духа Утеши- теля. Абеляр предпочел рыцарскому служению служение диалектике (о чем он прямо заявляет в «Истории моих бедствий»), Бернард же открыто выступал за воинствующую церковь, был одним из тех, кто готовил второй крестовый поход, и одним из патронов духовно-рыцарского ордена тамплиеров, для которого написал устав. И если монашеским подвигом Абеляра (странного монаха без монастыря) было школьное образование, то Бернард из Клерво создавал идеал монаха-воина. Несколько ранее такой же идеал воина, как у Бернарда, воспевал Ансельм Кентерберийский, возбудитель ученой агрессии против Иоанна Росцелина, в письме к английскому королю Вильгельму Завоевателю с выражением благодарности за отказ признать папой не Урбана, а Климента.
Производство ереси
Обвинение в ереси не влекло за собой автоматического признания ее носителя еретиком. Так, Росцелин, о жизни которого известно очень мало (только то, что он был каноником в Компьене, затем вроде бы в Байо и в конце жизни в Туре), и произведения его неизвестны, в 1098 г. был осужден, считается, Суассонским собором, созванным реймским архиепископом, сначала в ней покаялся, но затем, продолжая упорствовать в «заблуждениях», был «лишен гражданства», то есть выслан из Франции, прибыл в Англию, но и оттуда его выслали. Он снова вернулся во Францию. Это все, что о нем известно, но он отвергал саму возможность объявления его еретиком и, судя по всему, обоснованно.
Обратимся к конкретным историям того, как и за что философы – Иоанн Росцелин и Петр Абеляр – объявлялись еретиками.
И тот и другой – прежде всего – пытались понять суть христианских догматов на основании разума. Логика Росцелина при обдумывании догмата о Троице, судя по оставшимся сторонним сведениям от Ансельма Кентерберийского и Петра Абеляра, была такова: если все три Лица Троицы равнозначны и равносущностны, то воплотиться должен был не только Сын Божий, но и Бог Отец и Бог Дух святой. Это выявляло парадокс существования Бога.
Ансельм в «Книге о вере в Троицу и о богохульстве Рузелина, или Росцелина», которую он отправил папе Урбану по обычаю того времени – с просьбой откорректировать, а также потому, что папа пригласил его на собор в Бари, посвященный проблеме истолкования «ratio fidei», смысла веры, в первой главе ее пишет: «Когда я был аббатом в Беке, некий клирик во Франции упорствовал в таком убеждении: “Если в Боге, – говорит, – три Персоны суть одна только вещь, а не три вещи и каждая сама по себе отдельна, как три ангела или три души, таким, однако, образом, что они есть совершенно одно и то же по потенции и воле, значит, Отец и Святой Дух воплощены вместе с Сыном”» [Anselmus 1853, col. 262]. Ансельм с Росцелином не был знаком, что видно из названия его опуса (имени его толком не знал), он прознал о нем по письму некоего монаха Иоанна, отправленного ему в 1090 году. Дело было деликатным, потому что, во-первых, проблема была представлена в виде вопроса на диспуте, во-вторых, в письме сообщается, будто сам Ансельм придерживался подобной позиции. Иоанн доводил до его сведения, будто Росцелин «в своих диспутах заявляет, что и лорд архиепископ Лан-франк согласился с этим предложением, и что вы также с ним соглашаетесь» (цит. по: [Brouwer web]).
Даже если Ансельм вначале и склонен был усмотреть в вопросе Росцелина важную проблему для догматики, то к моменту созыва собора в Бари в 1093 г. он уже его позицию рассматривал не как дилемму, а как богохульство (см.: [Ансельм 1995, 294–296]) и даже написал письмо Фульку, епископу Бове, чтобы тот защитил его, если в том будет необходимость, и приложил к нему свое твердое исповедание веры.
Для нашей темы, посвященной ереси и складывания обвинения в ней, это важные ментальные шаги. Проблема , выставление трудности – это задание для ума, которому надлежало ее преодолеть. А твердое убеждение требует реакции. Одной из них была книга Ансельма, им распространенная, другой – собор в Суассоне 1098 г., где Росцелину было предъявлено обвинение в ереси.
Абеляр, говоря о псевдодиалектиках и псевдохристианах [Abaelardus 1855, col. 358B;
Абеляр 2010, 329] и имея в виду Росцелина (хотя по имени он его нигде не называл), специально посвятил обсуждению проблемы, поставленной Росцелином, главу II «Главное возражение против Троицы» во второй книге «Теология Высшего блага». Он передает такие вопросы Росцелина: а) различение Лиц можно понимать только как слова, а в реальном бытии Бога различения нет; можно ли вести речь о вечности Бога, понятого как Троица, если приложение имен – дело отнюдь не вечных людей?»; б) если в Боге субстанция и Лица тождественны, то нельзя ли о Нем говорить как о трех субстанциях? [Абеляр 2010, 315–321; Неретина, Огурцов 2006, 450–453]. Последний вопрос был расценен как попытка установить тритеизм, что и было принято за ересь.
Тем не менее обвинения не были приняты. И есть три свидетельства того, что Росцелин не был обвинен как еретик: письмо каноника Иво Шартрского, в котором говорится, будто он после отречения вновь вернулся к прежнему учению, книга «О вере в Троицу» Ансельма, написанная, когда он уже не был аббатом в Беке, и письмо Росцелина Абеляру, из которого следует, что он, якобы «изобличенный в высшей ереси, опозоренный и изгнанный всем миром», опровергает и объявляет это ложью «при свидетельстве суассон-ской и реймской церквей. В самом деле, если я когда-либо совершил ошибку в слове или сбился с пути истины, то я не защищал с непримиримостью ни словесный огрех, ни ложное утверждение, но всегда при нападках готовил душу к тому, что ей скорее следует учиться, нежели учить» [Абеляр 2010, 302].
Спор возник снова в 1120 г., когда Росцелин жил в Туре, будучи каноником церкви св. Мартина Турского, и касался он уже Абеляра, ставшего после драматического романа с Элоизой монахом Сен-Дени и против которого созвали собор в том же Суассоне.
Противник схизмы, магистр Петр за признание, что «греки… не боятся произносить “три субстанции” чаще, чем “три Лица”» [Не-ретина 1994, 169], тоже получил обвинение в тритеизме, что и Росцелин. Абеляр, помимо этого, обратил внимание на такие свойства Бога, которые свидетельствовали об их происхождении во времени. Мудрость или Бла- гость есть извечные свойства, свойства же Творца, Судьи, Господа или Воплощенного – временные, следовательно, сотворенные. Этот вопрос показывал теоретическую необходимость его разрешения. Однако если ересь Росцелина осталась неподтвержденной как ересь, а его взгляды были, можно сказать, не рекомендованы (что очень важно для обучения), то ересь Абеляра была утверждена собором, ибо к вопросу о троичности он добавил вопрос о тождестве (или притождеств-лении) Мировой души Платона и Святого Духа. Петр Абеляр в 1120 г. в «Теологии Высшего блага» совершил такой ментальный поход в греческую древность, который позволил ему сделать такое сопоставление. «Кому не ясно, – пишет он, – что нельзя обойти молчанием Лицо Св. Духа, так как уже [Платон] объясняет, что Мировая душа есть третье Лицо от Бога и Нуса», Ума, с которым отождествлялся Сын Божий [Абеляр 2010, 279]. Он так передает слова Платона, сказанные в «Тимее»: «Бог установил, чтобы душа предшествовала телесной природе как древностью, так и добродетелями, и пожелал, чтобы была она госпожой и главным судом по отношению к тому, о чем заботится. Именно потому он придумал третий род – род души», выраженный фигурой сокровения [Абеляр 2010, 279–280].
Этот фрагмент у Платона выглядит несколько иначе. «…бог сотворил душу первенствующей и старейшей по своему рождению и совершенству как госпожу и повелительницу тела, а составил он ее так… он создал путем смешения третий, средний вид сущности, причастный природе тождественного и природе иного» [Платон 1971, 474]. Если учесть, что Абеляр затем анализировал проблему тождественного и различного, то он как бы приуготовлял себя и читателя к такой аналогии. Старый текст позволил прочесть себя новыми глазами. Понятия наложились друг на друга; при желании увидеть мир изначально развивающимся по одному сценарию они незаметно подстраивались друг к другу.
Разумеется, это случилось с ведома Абеляра. Он поставил вопрос об основаниях, позволивших Платону считать Мировую душу сотворенной, и к этим основаниям, «если рассматривать их внимательно, не нужно отно- ситься враждебно» [Абеляр 2010, 399]. И далее Абеляр методологически показывает возможность двуосмысленного прочтения текста. Речь о Духе, полагает Абеляр, должно вести с двух позиций: 1) применительно к тому, на что Он направляет свою благодать, то есть к тварям, и здесь он скорее является душой; 2) применительно к Самому Себе, когда Он действительно дух и только дух, ибо не было тварей, среди которых Он распределял бы свои дары; в этом случае Он «абсолютно прост, вечно пребывая в своей сущности» [Абеляр 2010, 400]. По мнению Абеляра, Платон говорил о нем лишь с первой позиции, как о начале, имея в виду только множественность его результатов, проявившихся после творения. Абеляр объясняет свое понимание вглядыванием в, как ему казалось, смысл слов: «”дух” есть имя природы, “душа” же – название способности к одушевлению» [Абеляр 2010, 400]. Как комментатор он имел право на такое осмысление фрагмента, но в итоге перед нами оказалась, с одной стороны, спрямленная линия развития мысли, а с другой – вопиющее, торчащее из текста ее топорщение, что он сам и подтверждает. «Платон… называет Святой Дух (в какой-то момент Абеляр уже и не возвращается к имени Мировой души, а прямо называет ее по-христиански Святым Духом) душой на основании эффекта его [Мирового духа] деяний; мы же называем Его Духом по естественному аффекту благости, которой Он обладал извечно… Платон утверждал, что Душа имела начало, а мы – что Дух абсолютно вечен» [Абеляр 2010, 400]. И далее он переводит речь в то русло граду-ированности Троицы, за что также сподобился еретического звания: «на основании эффекта свершений с полным правом говорят, что Отец и Сын прежде Духа, являясь как бы Его началом» [Абеляр 2010, 401]. Он также переводит речь из состояния перформативности (тождества и нераздельности слова и дела) в состояние возможной отчужденности одного от другого: «Дух исходит от них обоих <через эффект свершений>, то есть Могущество под водительством Разума побуждается к деянию» [Абеляр 2010, 401].
Чтение мысли сквозь мысль и текста сквозь текст вело к новой логической авантюре: перестановке (Сын-Разум побеждает
Отца-Силу, хотя в другом месте сила Мудрости побеждает Разум) и показу возможности разрыва мысли – на слово и дело. Но это еще куда ни шло. Однако для Бернарда, который главенствовал на соборе, Дух действовал мимо всего земного и давал ощущение неведомой дальности Божества, делая все иное наказуемой ересью.
Снова «время изменилось», как некогда сказал Августин. Философия, в которую еще некоторое время назад входила теология, вот только сейчас превращающаяся в основную дисциплину Средневековья, припала к своим основаниям, называемым языческой философией. И хотя Платон в глазах Абеляра становился едва ли не христианином, в глазах образованных читателей, а ими были прежде всего религиозные деятели, он, Платон, оставался язычником, главным инструментом которого был человеческий разум, а не божья благодать. А Мировая душа действительно понималась как имеющая начало и как таковая обсуждалась среди философских спекуляций. Поэтому обсуждаемая Абеляром проблема происхождения Мирового Духа вошла в лист его обвинений на Санском соборе 1141 г. наряду с пунктами о градуированности (степенях и ступенях) Троицы и некоторыми мистическими положениями.
Всего обвинительных пунктов было 19, Абеляру надлежало их или исправить, либо опровергнуть их достоверность, либо защитить. Первый пункт касался градуированнос-ти Троицы: «Отец есть полное Могущество, Сын – некоторое Могущество, Дух Святой не есть какое-либо Могущество» [Dictionnaire 1930, col. 44]. Абеляр действительно формально проводил такие различения, но не логически. Ибо Сына он считал прежде всего олицетворением Разума, который даже не «некоторое Могущество», а, как мы видели, имел приоритет перед Могуществом в вопросах логики различения. Чисто логическое различение обнаруживает точку зрения на анализ, не на утверждение некоторого действительного положения. В ХIХ в. от такого инструментального взгляда на логику будет упреждать Гегель, считая, что таким образом она «лишается чести рассматриваться особо и низводится до служения духовной выработки живого содержания» [Гегель 1970, 85].
«Этому взгляду следует противопоставить простое замечание, что как раз эти вещи, которые будто бы стоят на другом конце, по ту сторону нас и по ту сторону соотносящихся с ними мыслей, сами суть мысленные вещи» [Гегель 1970, 87]. Вещь заряжена мыслью – вот что хотел сказать Абеляр и что понял Гегель, и эта заряженная мыслью вещь несет в себе все, как раз не чинясь степенями и уступая друг другу, когда того требует дело.
Обвинение Абеляра и примирение
Обвинительные пункты, среди которых те, что постигаются мистически, и те, что подвержены логическому анализу, представлены вперемешку, очевидно по степени важности для участников собора: «2. Святой Дух происходит не от той же субстанции, что Отец и Сын. 3. Святой Дух – это Мировая душа . 4. Ни Христос как богочеловек, ни тот человек, названный Христом, не есть одна из ипостасей Св. Троицы. 5. Христос воплощался не для того, чтобы освободить нас от суда демонов. 6. Свободной воли, опирающейся на собственные силы человека, достаточно для создания некоторого блага. 7. Бог мог творить или пренебречь чем-то, но творить и пренебречь только тем способом и в то время, в какое он это сотворил, а не иначе. 8. Бог не может и не должен мешать злу» [Dictionnaire 1930, col. 44].
Ясно, почему этот пункт почитался еретическим: человек создан со свободной волей, которая может изменить то, что Бог создал хорошо .
«9. Адам передал нам не смертный грех, а только кару за него. 10. Распявшие Христа, не ведавшие Его, не согрешили, ибо ничто из творившегося по неведению, не должно вменяться в вину. 11. Христос упал духом от страха перед Богом. 12. Власть связывать [грехом] и разрешать [от греха] была дана только апостолам, но не их последователям. 13. Внешние поступки не делают человека ни лучше, ни хуже. 14. Отец, который только творит из ничего, обладает в качестве собственного свойства силою сотворения, а не Мудростью или Благом. 15. В будущей жизни нет страха, даже сыновнего. 16. Демон внушает мысль о зле посредством камней и рас- тений. 17. Пришествие в конце времен может быть приписано Отцу. 18. Душа Христа спускалась в ад не собственной силой, но благодаря Могуществу. 19. Внешний поступок, желание [совершить] поступок, вожделение или удовольствие, которое он возбуждает, не есть грех, если у нас не возникало сознания подавить это удовольствие» [Dictionnaire 1930, col. 44–45].
Общим у всех 19 пунктов именно их несоответствие догматическим установлениям, порядок этих несоответствий не столь важен. Но большая их часть относится к этике, и еретические основания почерпнуты из трактата Абеляра «Этика, или Познай самого себя» (см.: [Абеляр 2010]).
Еретические принципы как основания будущего знания
При попытке осмыслить «ученые» ереси XII в. нужно отметить, что именно они в будущем образовали стержневые линии знания, которые прочерчивались знаменитыми докторами-теологами. К этим докторам не было экклезиастических претензий. Так, Фома Аквинский был занят выяснением ответственности / неответственности Бога за зло; он же, Иоанн Дунс Скот и Уильям Оккам – проблемой интенции; последний выступал не только против светской власти пап, но вообще против существующей формы церковной организации. Не говоря уже о том, что теология стала официально принятой дисциплиной. Так что ересь превратилась в мощное интеллектуальное направление. Более того, ни одна из упомянутых ересей (к исследуемым двум надо добавить попытку осуждения Гильберта Пор-ретанского в 1148 г.) не была утверждена папой, а иные (Иоанна Росцелина и Гильберта Порретанского) и соборами. Письмо, которое Петр Достопочтенный, клюнийский аббат, послал Иннокентию III с просьбой о смягчении приговора Абеляру (предполагалось «вечное молчание»), пришло до того, как тот смог утвердить решения Сансского собора, а сам Петр Абеляр покаялся и примирился со своим врагом Бернардом из Клерво. Правда, хватило и слухов о признании всех еретиками, что отразилось на их судьбе: привкус от попыток признания их таковыми остался, работы Рос- целина неизвестны, труды Абеляра долгое время замалчивались.
Проблематичность самой идеи знания вела к смятению при признании учений еретическими. В немалой степени признание зависело от характера (дерзости) привлекаемого к обсуждению. Отказ от признания еретиком также был возможен, и он был возможен не вследствие невежества или нерадивости судей (среди которых – ученейший монах Бернард Клервоский), а вследствие уже упомянутого разного понимания терминов «религия» и «ересь». Первый термин в основном сопрягался с глаголом religare («cвязывать»), хотя не исчезло и старое римское понимание религии, связанное с указанием на диархию – сложившуюся в римскую эпоху систему двоевластия, осуществляемого сенатом и императором, что повлияло и на средневековое двоевластие. Определение ереси как противоположности ортодоксии, соответствующее вере большинства, не означало понимания догматов, к чему стремились ученые церковные деятели. Проблемы понимания становились предметом философского осмысления. Пример Росцелина опровергает убеждение, что еретиком считался не заблуждающийся, если он был таковым признан, а упорствующий в своих заблуждениях: Росцелин, не согласившийся с решениями собора, не был признан еретиком, как и Абеляр, в результате примирившийся с оппонентами, не настаивавшими на применении к нему наказания. Видимо, сказанное философами, хотя и было «установлено законами, но… не закреплено общим употреблением» и как учение возбуждало свободную волю. Аббат Клюнийского монастыря Петр Достопочтенный дважды после соборов приглашал к себе Абеляра, и тот дважды не ответил на его призыв.
Список литературы Почему Петр Абеляр был признан еретиком?
- Абеляр 2010 – Петр Абеляр. Теологические трактаты. М: Канон+, 2010.
- Аврелий Августин 1994 – Аврелий Августин. О Граде Божьем. В 4 т. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря, 1994.
- Аврелий Августин web – Аврелий Августин. О диалектике [Vox. Философский журнал. 2016. № 20. С. 25–42] // https://vox-journal.org/content/Vox20/Vox20-AugustinA.pdf
- Ансельм 1995 – Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М.: Канон, 1995.
- Бибихин 2005 – Бибихин В.В. Введение в философию права. М.: ИФРАН, 2005. Вишневский 2010 – Вишневский А.А. О системе канонического права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 4. С. 47–59.
- Гегель 1970 – Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1970.
- Декрет web – Декрет Грациана [Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. 2. Европа: V–XVII вв. / отв. ред. Н. А. Крашенинникова ; пер. Н. Ф. Ускова. М., 1999. С. 240–273] // https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiT8dftnq-AAxW5IBAIHY50DO MQFnoECEUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vostlit.info%2FTexts%2FDokumenty%2FItaly%2FXII%2FIoann_Gratian%2Ftext1.phtm l%3Fid%3D9429&usg=AOvVaw12qP0HGV7rKt3rUbdFJQip&opi=89978449
- Кофанов web – Кофанов Л.Л. Понятия lex и ius в римском архаическом праве [Древнее право. 2003. № 1 (11)] // http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Kofanov-lex-ius-neldiritto-romano.htm
- Неретина 1994 – Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра. М.: Гнозис, 1994.
- Неретина 2019 – Неретина С.С. Концепт любви: Петр и Элоиза // Философские эманации любви. М.: Издат. дом ЯСК, 2019. С. 18–61.
- Неретина, Огурцов 2006 – Неретина С.С., Огурцов А.П. Пути к универсалиям. СПб.: РХГА, 2006.
- Платон 1971 – Платон. Тимей // Платон. Сочинения. В 3 т. Т. 3 (1). М.: Мысль, 1971.
- Шевцов 2013 – Шевцов С.П. Архаичное понимание права: этимологический подход // УЧПЛЗ. 2013. T. 7.2. С. 340–355.
- Abaelardus 1855 – Epistola XIV. Quae est ejusdem Petri Abaelardi ad G. Parisiensem episcopum // Patrologiae cursus completus... series latina... acc... J.-P. Migne. V. 178. P., 1855. Col. 355–358.
- Anselmus 1853 – Anselmus Cantuariensis archiepiscopus. De fide Trinitatis et de Incarnatione Verbi. Contra blasphemias Ruzelini sive Roscelini // Patrologiae cursus completus... series latina... acc. J.-P. Migne. V. 158. P., 1853. Col. 259–284.
- Brouwer web – Brouwer Ch. Roscelin de Compiègne, nominaliste ou hérétique? Quelques aspects de l’accusation d’hérésie contre la dialectique au XIe siècle [Siècle. 1996. № 2. P. 15–30. DOI: https://doi.org/10.4000/siecles.6823] // https://journals.openedition.org/siecles/6823
- Decretum web – Decretum magistri Gratiani (Corpus iuris canonici. Teil 1) // https://geschichte.digitale-sammlungen.de/decretum-gratiani/online/angebot
- Dictionnaire 1930 – Dictionnaire de théologie catholique de Vacant-Mangenot-Amann, fasc. XC – XCII: Naasséniens-Nicole. Paris: Letouzey & Ané, 1930. Col. 44–45.