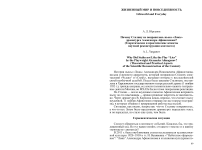Почему Сталину не понравилась пьеса «Ложь» драматурга Александра Афиногенова? (Теоретические и практические аспекты научной реконструкции контекста)
Автор: Юрганов А.Л.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Жизненный мир и повседневность
Статья в выпуске: 3 (77), 2023 года.
Бесплатный доступ
Пьеса известного драматурга Александра Афиногенова «Ложь» (1933 г.) понравилась многим партийным начальникам, была поставлена в театре, несколько раз сыграна, но И. В. Сталин - после неудачных попыток драматурга исправить пьесу по его замечаниям - принял решение окончательно запретить ее. Статья посвящена не только практическим аспектам изучения контекста, но и теоретическим основаниям анализа. Современная научная интерпретация случившегося видит исторический контекст в том, что драматург разоблачил лживую сталинскую идеологическую машину. «Контекст» в таком понимании - часть жизненного мира самого исследователя, такое объяснение не способно открыть смысл того, почему Сталин сказал о пьесе, что «идея пьесы богатая», а «оформление» вышло «небогатое». Контекст исторический никогда не выводится из привычного мышления исследователя, а является проблемой изучения Другого. Правда/ ложь в мировоззренческой парадигме большевиков рассматривается как феномен, требующий реконструкции. Анализ показал, что Сталину понравилась «богатая» идея пьесы - признать Центральный Комитет партии большевиков мерилом нравственных достоинств («идея богатая»), но ему не понравилось, что Центральный Комитет партии оказывается в пьесе одиноким маяком, у которого нет реальной почвы. Почва - это коммунисты, преданные партии, а не «уроды», как написал Сталин Афиногенову о героях «Лжи». Реконструкция контекста пьесы Александра Афиногенова показывает, что «ложь» рассматривалась драматургом как все то, что противостоит «генеральной линии» партии, Центральному Комитету партии большевиков. Высшим проявлением эволюции когда-то нэповской России в сталинскую стал главный мотив пьесы о допустимости и необходимости политического доноса как единственно возможный нравственный шаг на пути в сталинский социализм.
Сталинский авторитаризм, партия большевиков, идеология, пропаганда, культурная политика, советская культура, социалистический реализм, театр, драматургия, драматург, жизненный мир, и. в. сталин, а. н. афиногенов
Короткий адрес: https://sciup.org/149144345
IDR: 149144345 | DOI: 10.54770/20729286_2023_3_89
Текст научной статьи Почему Сталину не понравилась пьеса «Ложь» драматурга Александра Афиногенова? (Теоретические и практические аспекты научной реконструкции контекста)
Why Did Stalin not Like the Play “Lies” by the Playwright Alexander Afinogenov? (Theoretical and Practical Aspects of the Scientific Reconstruction of the Context)
История пьесы «Ложь» Александра Николаевича Афиногенова, весьма успешного драматурга, который понравился Сталину спектаклями «Чудак»1 и «Страх», вызывает интерес у исследователей своей необычной судьбой. Пьеса была заказана Сталиным, поставлена в Харьковском государственном театре русской драмы (1 ноября 1933 г), трижды сыграна, ее успели положительно оценить театральные деятели Москвы, во МХАТе была готова генеральная репетиция.
Но Сталин — после неудачных попыток Афиногенова исправить пьесу по его замечаниям — принял решение запретить ее окончательно. Через драматурга В. Киршона вождь передал, что считает пьесу неудачной. 11 ноября Афиногенов отправил во все театры телеграммы, в которых объявил о прекращении работы над пьесой.
Ситуация, как видно, непростая: что-то Сталину понравилось, а что-то нет. Затем было предложено драматургу переделать текст, и он переделал, но стало еще хуже, чем было.
Герменевтическая ситуация
Следует обратиться к контексту событий. Казалось бы, это традиционный ход. Но тут важно понять: от какого «текста» и к какому «контексту» двигаться?
В 2011 г. была опубликована статья исследователя художественной культуры 1920-1930-х гг. И. Венявкина «“Небогатое оформление”: “Ложь” Александра Афиногенова и сталинская культурная по- литика 1930-х годов»2. В этой работе было предложено объяснение всего случившегося через политический контекст эпохи. И. Венявкин пишет: «.. .Главная задача “Лжи” — показать, как в новом обществе изменилось содержание основных этических категорий». События литературного фронта начала 1930-х гг. были «направлены на то, чтобы коллективными усилиями изобразить рождение нового человека»3. Однако Афиногенов шел своим путем, в нем исследователь находит такие факты, которые оказали влияние на концепцию произведения.
Прежде всего — это заграничное путешествие А. Н. Афиногенова в 1932 г: «Два с половиной месяца он провел в Париже — посещал собрания эмигрантов и читал эмигрантские газеты и журналы, наполненные критическими замечаниями по поводу советской политики и дававшие общую картину оппозиционных настроений внутри страны. <.. .> поставленная в центр будущей пьесы проблематика правды/ лжи, возникающая при взгляде на советскую действительность, была пропущена Афиногеновым через личный опыт»4.
Понятие «ложь» приобретает в статье смысл неприятия всего, что происходило в стране Советов. Не ставится вопрос об особенностях мировоззрения драматурга, о специфике языка политической культуры. «Ложь» принимается по умолчанию и так понятной, что в свою очередь порождает вольные интерпретации. Между тем, хорошо известно, что в мировоззренческом лексиконе большевиков, начиная с первых марксистов-эмпириокритиков, никогда не признавалась общечеловеческая мораль, для которой естественны категории «добра» и «зла»5.
И. Венявкин связывает мотивы написания пьесы «Ложь» с событиями личной жизни Сталина (Первым об этой возможности объяснения мотивов пьесы написал Н. Афанасьев6). 10 ноября 1932 г. газеты сообщили о смерти Надежды Аллилуевой. Исследователь основывается на воспоминаниях Бориса Бажанова; в них говорится следующее: «В продолжавшихся домашних спорах Сталин, утверждая, что заявления, цитируемые Надей, голословны, требовал, чтобы она названа имена: тогда можно будет проверить, что в их свидетельствах правда. Надя назвала имена своих собеседников. Если она имела еще какие-либо сомнения насчет того, что такое Сталин, то они были последними. Все оказавшие ей доверие слушатели были арестованы и расстреляны. Потрясенная Надя, наконец, поняла, с кем она соединила свою жизнь, да, вероятно, и что такое коммунизм; и застрелилась»7.
Какой же вывод? «В слухах о смерти жены Сталина переплелись два мотива — оппозиционности Аллилуевой и лжи руководителя государства, вынужденного скрыть личную трагедию, чтобы сохранить стройность партийных рядов. Именно эти два мотива легли в основу сюжета пьесы и переводили проблематику лжи/правды с уровня теоретической дискуссии о соцреализме на реалии внутрипартийной 90
борьбы и личной жизни Сталина и его окружения [Курсив мой. — А.Ю.у.
Не рассматривая семантическую природу лжи/правды в мировоззренческой парадигме большевиков, по умолчанию принимая ее некую априорную сущность, И. Венявкин произвольно толкует концепцию пьесы.
Сталин высказал мнение о пьесе Афиногенова, которое обессмысливает утверждение культуролога: «Идея пьесы богатая». Какая идея? Смерть жены и сокрытие правды о ее смерти?
И. Венявкин не остановился на достигнутом: «Это был запрос на художественное изображение Сталина. ... Создавая образ старого большевика Рядового, Афиногенов умело воспользовался “официальным” материалом и разнообразил его личными впечатлениями от общения с вождем. Рядовой говорит медленно, вдумчиво и афористично [Курсив мой. — А.ЮД, по ночам работает в кабинете, расположенном высоко над Москвой, в свободное время увлекается оперой. Он также обладает воспетой пропагандой жестокостью и классовым чутьем. Собственно говоря, сама фамилия Рядовой должна была восприниматься как намек на Сталина.. ,»9.
Ну что же, обсудим и этот «намек», ничем не подкрепленный, — только логикой допущения.
В первой редакции пьесы «Ложь» даются авторские комментарии к каждому персонажу,О Рядовом сказано следующее: «РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, замнаркома. Среднего роста, плотный мужчина лет 48-49. Какой-то хитроватый, иронический взгляд настороженного человека не покидает его все время. Говорит он не особенно гладко, часто подбирая слова, спотыкаясь на междометиях и заканчивая фразы неожиданными остановкам [Курсив мой. —Я.ТО.]»10.
Мог ли это быть «намек» на Сталина, если о замнаркоме сказано, что он говорит «не особенно гладко»? Сталин говорил ясно, просто, договаривая свою мысль до конца. Он никогда не «спотыкался на междометиях», не страдал речевой дефектностью, хотя и говорил медленно.
А теперь обратимся к человеку, который хорошо знал Сталина, близко с ним общался и любой намек бы понял. Что думал Максим Горький об образе Рядового в пьесе «Ложь»? Он писал Афиногенову: «.. .У вас и Рядовой — глуп, хотя вы, как будто, показываете его “положительным” героем. Глуп он во всем поведении...»11.
В чьих же головах могли возникнуть ассоциации по мотивам смерти жены Сталина?..
Еще более сомнительно видеть в образе Рядового «намек» на сексуальную привлекательность вождя партии: «Таким образом, Афиногенову удается сценически выразить атмосферу эротизации вождя, которая складывалась в обществе в середине 1930-х, — “Ложь” удовлетворяла всеобщий интерес к личной жизни вождя, его чувствам и мыслям»
И так далее...
Возникает длинная цепочка ничем не доказанных умозаключений, в которой нет ответа на главный вопрос: почему Сталин сказал, что «идея пьесы богатая», а «оформление» — «небогатое»? Что он имел в виду? Герменевтическая ситуация показывает, что прежний способ истолкования фактов нуждается в переосмыслении.
Переход от «текста» к «контексту» в парадигме изучения Другого
Природа любой интерпретации заключается в том, что в ней всегда обнаруживается связь с современностью. Человек не замечает, что любое смыслопорождение содержит в себе нечто необсуждаемое — готовое знание, которое можно назвать установкой. Она существует, потому что существует жизненный мир — осмысленная повседневность. Когда мы привычно думаем, мы не подвергаем себя рефлексии. Пространство обиходной мысли, всякой, какой угодно, где царит любое мнение — это пространство Доксы (мнения). Чтобы проверить мнение, следует изменить оптику наблюдения, и прежде всего усомниться в очевидности привычного смысла. Так возникает переход из региона Доксы в регион Эпистемы, и всякое мнение становится уже предметом изучения13.
Конфликт интерпретаций возникает тогда, когда встречаются два интерпретатора — и каждый со своей установкой обыденного сознания. Чтобы понять Другого, следует временно ограничить («взять в скобки») действие своей установки и таким образом настроиться на восприятие иной причинно-следственной трактовки.
Если Афиногенов — интерпретатор Лжи в драматическом произведении, то исследователю этого феномена личного и общественного сознания начала 1930-х гг, следует отказаться от привычек своего актуального мышления, чтобы поставить вопрос: а что понимал драматург под «ложью», и как большевики объясняли нравственное поведение, если природу общечеловеческой морали они отрицали?
Итак, драматург Афиногенов не убедил Сталина в необходимости постановки пьесы, но вождь партии признал, что идея пьесы «богатая».
Нравственный выбор как проблема культуры сталинизма
Задолго до победы большевиков, в начале XX в., в кругах марксистов-эмпириокритиков сформировалась концепция, отрицающая моральные категории, привычные для так называемого буржуазного общества. В основу был положен не только классовый подход, но и крайний эмпиризм, не признававший ни в каком виде метафи- 92
зику. Максимально на что были способны большевики — придумать «позитивную религию», религию без Бога, но с верой в человечество. Главная идея — победа жизни, разума, науки и техники над природой. Общее мнение марксистов-эмпириокритиков состояло в том, что трансцендентное существует только в пролетарском коллективизме. А. В. Луначарский полагал, что добро и зло не существуют вне человека, вне животного мира, — эти понятия целиком относятся к естественной природе. А. А. Богданов довольно откровенно отвечал на вопрос «Что же такое человек?». Он признавал человека существом «дробным», слишком погруженным в индивидуализм и не способным подняться до коллективистского идеала: «Человек еще не пришел». Концепция «недочеловечества» в устах А. А. Богданова — редкое по своей природе обнажение самых глубоких интенций марксистского мировоззрения: разве можно признать человеком того, кто «еще не пришел»? Этот вывод о несоответствии человека идеалу общества, о неготовности человека быть человеком (созвучный учению Людвига Фейербаха) проистекает из убежденности, что только сознательные перемены во внешнем мире, в обществе, в действительности могут изменить человека, сделать его более гармоничным, потому что он всегда лишь отражение действительности, а не ее творец. Иными словами, в марксистском мышлении отдельно взятый человек не составляет того, что определяется как жизненная реальность, — только соединение человека с обществом дает человеку право быть человеком14.
Обратим внимание на отношение к Истине со стороны Л. Фейербаха. Он подчеркивал, что истина — это «сознание рода». Род первичнее всякого индивида, род — это целое, реальное существо, более реальное, чем индивид. Для Л. Фейербаха «человеческий род есть бог для отдельного человека, вид есть бог для индивида»15. Человечество— тоже бог. А богом для человека является глава государства. Фейербах обожествил человеческий род («в роде весь закон и все пороки»). Согласно безоговорочной марксистской догме — «истина существует не в мышлении». Истина имеет надличный характер, она соответствует масштабу рода: «Истинно то, что согласно с существом рода, ложно то, что ему противоречит. Другого закона истины не существует»16.
Во времена победившего большевизма истину стали рассматривать как коллективное начало партии, — все, что ему противостоит, является ложью.
Пьеса «Ложь» погружена в переживание всех уклонов, какие только были в партии; герои активно изобличают друг друга, — ив рамках представлений, которые определяли собой «моральные» аспекты поведения, всякое «уклонение» от истины есть ложь перед партией, перед Центральным Комитетом.
Ложью наделяется смысл обвинения в «либерализме» и «правом уклоне» — это актуально в 1933 г. Дмитрий Кулик, шофер завода, выдвинутый в фабричный комитет профсоюза, «коренастый силач 27 лет с грубым раскатистым голосом и размашистыми движениями» говорит, обращаясь к бывшему оппозиционеру Накатову: «Я либералом не был. Я в правом болоте не сидел, как некоторые.. ,»17.
Слова «либерализм» и «либеральный» Сталин стал активно использовать для опровержения тех, кто сопротивлялся тезису его доклада, прозвучавшему на июльском пленуме ЦК ВКП(б) в 1928 г., о налагаемой на крестьян «дани» для спасения всей экономики страны. На пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г. Сталин едва ли не постоянно вводил в негативную оценку своих оппонентов слова «либерал», «либерализм»18. На апрельском пленуме произошел резкий спор с участием Сталина. Д. П. Розит, сторонник Бухарина, обвинил А. И. Микояна, наркома торговли, в «чрезвычайно низкой экономической грамотности» из-за попыток дискредитировать теорию Бухарина. Розит говорил: «...Эта дискредитация [А. И. Микояну. — А.ЮД не удалась, потому что цитата, которую он пытался приписать тов. Бухарину, насчет мирного врастания кулака в социализм, оказалась гнуснейшей ложью, фальшивкой. У Бухарина нет этого, там сказано кулацкие кооперативные гнезда и эти кулацкие гнезда поставлены на одну доску с концессионными предприятиями. Микоян говорил, что нужно эту книгу распространить. Это правильно, тогда не будет фальсификации цитат из Бухарина и полезно вообще заглянуть в эту книгу».
Возникла перепалка:
«Рудзутак. А внук кулака?
Розит. И «внук кулака», если вы правильно понимаете, что такое концессионное предприятие, ничего не меняет в этом деле.
Сталин. Либерал.
Розит. Ваши крики насчет либерала не липнут к Бухарину.
Сталин. Это вы либерал»19.
Ложной позицией по отношению к партии было «примиренчество» (как одна из форм оппортунизма). Все тот же Кулик в разговоре с Горчаковой, местной активисткой, пытающейся навешивать ярлыки, говорит:
«Кулик. Ты, Горчакова, примиренчеством занимаешься. Я сейчас ему протокол принесу — пусть убедится документально.
Выходит.
Горчакова. Слышали, я уже примиренка»20.
Обвинение в «примиренчестве» — мощное оружие:
«Горчакова. Димитрий, а ясен ли тебе смысл борьбы с Ковалевой?
Дмитрий (Кулик). Насквозь! Через нее мы Сероштанова свалим. .. Он ее примется защищать, а мы его за примиренчество и кокнем. .. И ты — секретарь!»21.
Герои пьесы пугают друг друга «примиренчеством», разжигают огонь непримиримости и классовой вражды ради своей карьеры.
И говорят о «самокритике».
Кампания по «самокритике», начатая в 1928 г, и борьба с примиренчеством, будучи творчеством самого Сталина, давали возможность манипулировать как партийным, так и общественным сознанием. Целью хитроумных манипуляций было создание такой ситуации, когда никто, кроме Сталина, не мог быть уверенным в своей правоте. В массовом сознании слово «самокритика» выражало непреодолимый людской страх, оторопь; в высшем звене партийной власти Сталин расставлял ловушки в виде разных уклонов — и не уклониться нельзя было. Потому что даже тот, кто искренне не хотел быть ни в каком уклоне, обвинялся в не менее страшном прегрешении, чем уклон влево или вправо, — в «примиренчестве»22.
На заседании Оргбюро Центрального Комитета партии большевиков в октябре 1928 г. Сталин вспомнил Иннокентия Дубровинского, с которым Ленин порвал из-за его примиренчества: «Почему? Потому что Ильич знал, что невозможно преодолеть оппортунизм, не ведя борьбу против примиренчества, укрывающего оппортунистов под свое крылышко. Тогда именно и дал Ильич лозунг о непримиримой борьбе с примиренчеством. Ильича называли за это некоторые товарищи узким, слепым, крайним фракционером и бог знает еще что. Однако линия Ильича целиком оправдала себя, и он поставил партию на ноги. Если мы этот и подобные ему эпизоды из истории партии забудем, то чего стоим и какие же мы большевики. Мы должны проводить ильичевскую линию во всей чистоте. Если в Московской организации нашелся (вы знаете тов. Мандельштама), который открыто заявил...»23.
М. Н. Рютин возразил Сталину: «ошибка» Мандельштама это просто случайность. Сталин прервал его и напомнил о неслучайности самого явления примиренчества. Рютин переспросил: «Что, я примиренчески отношусь?» На это Сталин ответил: «Нет, не примиренчески. Есть одна группа примиренцев, из которой некоторые укрывают троцкистов, а некоторые укрывают Фрумкиных. Есть такие примиренцы». Рютин согласился: «Конечно, есть». Сталин тут же перехватил инициативу, вводя своего оппонента в положение, из которого уже нет выхода, если не отрицать всю эту сталинскую мифологию уклонов: «А вы не ведете борьбу с этим течением и не отстаиваете, стало быть, линию ЦК. Может быть, вы человек смелый и искренний, но очень трудно поверить, чтобы ваша политическая ошибка была случайностью»24.
Михайлов, который уже возражал Сталину, откликнулся словами отчаяния тех, кто понимал, что они в ловушке, из которой нет исхода: «...Это создает очень скверную атмосферу. Может быть, и есть примиренцы, но, товарищи, к чему мы идем?». Сталин пошутил: «К социализму. (Смех.)». Михайлову было не до шуток вождя: «... Тов. Сталин я всегда привык говорить, что думаю. Создалась такая обстановка, то есть ряд товарищей, которые ходят с цитатами из Ста- лина, с цитатами из Ленина... как изгородкой огородились этими цитатами. Это нехороший метод. У нас нездоровая атмосфера в этой плоскости»25.
В тексте пьесы Афиногенов пытался собрать весь негативный опыт борьбы с уклонами, но не для того, чтобы полемически опровергнуть «генеральную линию» ЦК партии, а для того, чтобы прозвучал пафос едва ли не религиозного служения партии, которому мешают внутрипартийные дрязги. Горчакова добирается до личного дневника главной героини, жены директора завода, Нины Михайловны Ковалевой, читает дневник и понимает, что та во многом права — это и ее слова, произносимые внутри, — но задача состоит в том, чтобы, живя в условиях неопределенности партийной истины, подавить в себе всякие сомнения, — и бороться, бороться!
«Ага!.. “Нежность! Забыли мы это слово, потеряли по дороге к социализму. .. Теперь нежность слюнтяйством зовут, мелкобуржуазным пережитком... а во мне нежности много, и гибнет она, как сухостой, гниет...” Да-да, именно так, именно... Какие слова!.. Как я их чувствую... Ну, еще — где еще?.. А! “...Коллективизация у нас только в деревне, а в личной жизни мы одинокими живем, друг перед другом прихорашиваемся, а на лицах у всех маски... И для всякого собственная его жизнь — самое Главное...” (Остановилась.) О! Это же правда, правда, именно: маски, у всех маски... Теперь верить нельзя никому, теперь уклоны у всех внутри, иногда мне кажется, что вся партия в уклонах [Курсив мой. — А.Ю. ], — я узнаю себя в ее дневнике... Вот оно, вот оно, возмездие. Это написано ее рукой, долой все варианты — вот единственный вариант! Я прочту это громко, перед всеми, и буду говорить! О, это будет блестящая речь! Последний бой сомнениям, которые я считала заглохшими... Они еще живы, они говорят с этих страниц, они переселились в Ковалеву! Я уничтожу ее в зародыше, раздавлю, сомну—я должна это сделать, чтобы победить себя, чтобы не колебаться... (Закрывает дневник.) Я не буду выписывать цитат, я стану цитировать наизусть, как стихотворение!..»26.
Накатов весьма правдоподобно (но не правдиво по духу самой пьесы) разоблачает идеологические кампании — именно как оппозиционер, — создавая в душе Нины не придуманные, а реальные сомнения в истинности того, что делает власть.
«Мы становились большевиками в непрестанной борьбе с могучими противниками. Для того чтобы выбрать путь, надо было одолеть целую библиотеку чужих мыслей. Папскую библиотеку... А вы растете на готовых лозунгах. Вам предложено либо верить на слово, либо молчать. Единственным вашим багажом становятся истины, усвоенные в порядке директивы... Предписано считать их правдой. А что, если это не так? Что, если “правда”, которой ты веришь, есть ложь в основании своем? И ты споришь тут с Виктором [Директором завода и мужем. — А.ЮД и Горчаковой о копеечной неправде, не видя того, что вся страна лжет и обманывает — ибо сама она обманута»27. 96
В диалоге с Рядовым Нина говорит о том, что ее волнует классовая правда, но вот беда, — все обманывают партию, и никто не верит словам. Исчезли убеждения, которые были прежде, исчезла вера, которая тоже была. Теперь — все напоказ. Но хуже всего, что вера в «генеральную линию» нарушается тем, что никто не может поручиться за правильность этой веры.
«...Не знаем мы, что будет завтра генеральной линией: сегодня линия, завтра уклон. И в газетах всей правды не пишут. А я устала так жить, я хотела сама во всем разобраться и так понять, чтобы, если навалятся на меня мучители революции, я бы в пытках говорила о своем, оставалась тверда... А теперь мы на глиняных ногах, оттого что твердым сейчас быть легко, раз партия в стране одна, и партия эта — железная сила. За ее спиной мы и прячемся, а в одиночку мы слабы и хилы и тычемся, как слепые щенята, не знаем куда... А временами мы, и обманываем, и подличаем, и друг друга ненавидим, как сто лет назад, а может быть, даже хуже, я прежней жизни не знаю»28.
Какова же основа той веры, которая должна быть непоколебима? Ложь проросла по всей стране, снизу доверху, ложь маленькая и ложь большая, семейная и партийная, но в диалогах Накатова и Рядового, когда-то двух друзей, оформляется важнейший смысл пьесы — о безупречном соединении партийной структуры Центрального Комитета и партийной истины, по отношению к которой, к ее «генеральной линии», все что не согласуется, не совпадает, не растворяется в единстве, есть абсолютная ложь. Венцом этой высшей, партийно-государственной истины, ее личным воплощением становится товарищ Сталин.
«Рядовой. Я говорю о нашем Центральном Комитете... [Я говорю о вожде,] который ведет нас, сорвав маски со многих высокообразованных лидеров, имевших неограниченные возможности и обанкротившихся. Я говорю о [человеке,] сила которого создана гранитным доверием сотен миллионов. [Имя его] на всех языках мира звучит как символ крепости большевистского дела. И [вождь этот] непобедим, потому что непобедима наша революция. Ты знаешь, о ком я говорю...
Накатов. Значит, наверху все благополучно? Значит, враги только внизу?
Рядовой. Нет, враги были и в Центральном Комитете. Вышибли.
Накатов. Враги?
Рядовой. Предатели.
Накатов. Были.
Рядовой. А если остались — добьем!»29.
Сталин всегда «скромно» апеллировал к авторитету Центрального Комитета — это была хитрая уловка, чтобы скрыть личную волю, и утвердить коллективную истину партии как безусловную. В письме Афиногенову (1933 г.) он написал в постскриптуме: «Зря распространяетесь о “вожде”. Это не хорошо, и пожалуй, не прилично.
Не в “вожде” дело, а в коллективном руководстве — в ЦК партии»30.
Логика допущения как институализация нового смысла
Итак, реализм изображения оппозиции, неприукрашенная правда о лжи, кажущаяся едва ли не крамольной по отношению к партии большевиков, была тонким расчетом драматурга, который понимал, что, отталкиваясь от такой обнаженной правды, можно смело двигаться к новому горизонту, в котором тоталитарная система получает новое дыхание и новой смысл, — что и уловил Сталин словами «богатая идея».
В пьесе два друга, Александр Михайлович Рядовой и Василий Ефимович Накатов, решают едва ли не самую важную проблему пьесы. Нине Ковалевой Рядовой рассказал, что Накатов спас ему жизнь: «Из ссылки мы с ним вместе бежали — через тайгу шли, а я заболел в тайге и идти не мог. Неделю он со мной возился, выхаживал, на спине нес... не бросил товарища. А теперь — заперся Василий, крепко заперся. Одиночеством болен»31.
Накатов был в оппозиции, признал свою вину, вернулся в партию, Рядовой не забыл друга, испытывая к нему теплые человеческие чувства. Когда отмечали пятидесятилетие Накатова, Рядовой обнял его и сказал: «А доживем мы с тобой, Василий, до расцвета? Такое вот у меня чувство есть: лет через пятнадцать ликвидируют смерть, и мы доживем.. ,»32.
Нина Ковалева случайно узнает от Накатова, что он создал конспиративную группу. Рядовой догадался об этом после разговора с Ниной.
Накатов был шокирован тем, что секрет раскрылся. Он надеялся, что тот, кому он однажды спас жизнь, не донесет... Но горизонт допустимого в тоталитарной психологии изменился:
«Рядовой. Хрусталев. Семеновский. Гусев... И кто еще? Конспиративная группа для борьбы с Центральным Комитетом.
Накатов. Кто?.. Кто?.. Нина?.. Нина тебе сказала?
Рядовой. Она.
Накатов. Предашь?
Рядовой. Нет, не предам...
Накатов. Саша!..
Рядовой. Я не предам партию. Я расскажу ей обо всем.
Накатов. А!
Схватил голову руками, сел на крайний стул»33.
Выше человеческих отношений, любых благодарностей, дружбы, даже любви — преданность и верность партии, ее Центральному Комитету. Вопрос «донести — или не донести» потерял свою прежнюю актуальность в логике Рядового, для которого предательство партии не сопоставимо с доносом на друга.
Нина Ковалева была в другой комнате, когда услышала реплику Рядового о том, что он донесет на друга. Она вышла, чтобы защитить Накатова. Ее выстрел в любимого человека — высшая драматическая точка всей пьесы. Героиня поначалу не может себе позволить донос на товарища, но в конце концов осознает, что только в беспрекословной покорности, в добровольном доносительстве возможна вся Правда большевизма, искореняющая ложь человеческих отношений.
Приведу большие цитаты, что показать развитие сюжета.
«Нина. Александр Михайлович, вы же мне обещали... Обещали не говорить. Вы не скажете, вы, конечно, не скажете, Сашенька? Вы слышали — он убьет себя.
Рядовой. Нина, выслушай...
Нина. Нет, нет, я знаю — вы скажете, что сама, мол, о правде говорила, что Виктора не побоялась, — это мелкое, совсем другое, Виктору это на пользу, а Накатов застрелится. Пусть ложь, пусть обман, но один-единственный раз прошу: промолчите!
Рядовой. Именно тот самый раз, когда нужно сказать не мелкую житейскую правдишку, а большую правду...
Нина. Все помню, все. Не надо, родной мой, я знаю — но это я все наделала. Я его уговорила прийти, за вас ему поручилась, все рассказала вам, он ведь ни одной фамилии не называл, за что же вы меня так...
Рядовой. Пойми, Нина...
Нина. Я понимаю. Я твои слова слыхала, знаю — Накатов неправ; но по-человечески пожалей [Здесь и далее курсив мой. — А.ЮД...
Рядовой. Нет во мне жалости.
Нина. Ну, я на колени стану, вот, стала — одинокий он...
Рядовой. С ним — группа
Нина. Он ее распустит, ничего не будет делать.
Рядовой. Он ответит за то, что уже сделал... Встань, Нина.
Нина. Он вам жизнь спас...
Рядовой. За мое спасение я не подписывал векселей...
Нина. Где же ваше большое сердце?
Рядовой. Ты не знаешь моего сердца, Нина.
Нина. Глаза у вас далекие, холодные. Как будто ты видишь меня первый раз...
Рядовой. Ты действительно еще девочка. Встань, встань, Нина. Мне неудобно. Это, собственно говоря, смешно, при чем здесь коленные чашечки.
Нина (опустилась с колен на пол). Смешно? А вы хохочите, если смешно. Музыку заведите. Берлинский ресторан. Или, может, вам на гитаре сыграть? А когда Накатов застрелится, выпьем...
Рядовой. Нина!..
Нина. Да, не знала я вашего сердца. Ошиблась. [Оно у вас стариковское, трусливое.] Отвыкло оно за людей болеть. Лишь бы самому тепло было. А здесь квартира хорошая, и автомобиль, и положение. И девушки молодые! А донесете на друга — повышение получите.
Рядовой. Нина!
Нина. Ага! Закричал! В больное место попала. Друзьями торгуешь. Да-да! Ты почему меня не остановил, когда я фамилии называть начала? Все выслушал тихонько, как паук, а потом и паутину сплел. Все теперь поняла, все.
Рядовой. Ты... ты мне... ты не смеешь так...
Нина. Смею! Все смею! Ничего мне теперь не страшно! Тебя полюбила, а и ты оказался не тот. В последний раз прошу: промолчите.
Рядовой. Я ухожу, Нина.
Нина. Не уйдешь, пока не ответишь. Стой! Скажи что-нибудь.
Рядовой. Прощай!
[Нина (хватает револьвер). Так на! Прощай! Уходи теперь, уходи совсем...
Стреляет»34.
Накатов не застрелился после того, как Нина в порыве отчаяния ранила Рядового. Он пришел к Нине, между ними состоялся разговор, в котором Нина пробудилась к новой жизни, осознала свой правильный выбор, — это главный итог пьесы.
«Накатов. Я приготовился умереть. Сжег бумаги, разослал письма, назначил день... [Но в этот день я услышал, что Рядовой в больнице. Он ранил себя, разряжая револьвер. О, я-то знаю, кто разрядил револьвер!..] До сих пор у меня в сердце горят твои слова: «Нет, нет, он не расскажет, нет!..» И глаза. Этих глаз не забыть до настоящей смерти!.. [Ты стреляла в него, ласточка, ты?
Нина (тихо). Я.]
Накатов. Я чувствовал это... и ждал. Шли дни... Мне не присылали повесток, за мной не приходили... значит, ты понимаешь, значит, он ничего не успел сообщить, [остановленный твоей рукой...]
Нина. А?
[Накатов (не замечая). Сегодня я был в больнице, справлялся... Он очень плох. Безнадежен. Скоро он уж никогда ничего не напишет. Подождем!..
Нина. Вы... Вы его смерти ждете?
Накатов. Так же, как он ждал моей.
Нина. А! (Сдержалась. И очень медленно?) Он будет жить. Я его вылечу. Он напишет. Он все расскажет.
Накатов. Нина.]
Нина. Зачем вы не застрелились?
Накатов. Нина, опомнись...
Нина. Нет, это хорошо, что вы не застрелились. [Ведь я же вашей ученицей была, послушной девчонкой. Вы к ней пришли.] Но только не семь дней с тех пор прошло и не десять... Года протекли... А вы все еще надеетесь... и умирать не хотите. Но ведь вы уже не живете, вы же политический мертвец. Оболочка. Вы только на то и способны, юо чтобы отравлять, спаивать. Трижды был прав Рядовой, что хотел написать немедленно! И он напишет.
Накатов. Не успеет.
Нина. Я... я сама напишу про вас!
Накатов. Так... Пиши. Не забудь только: там, где Рядовому поверят на слово, от тебя потребуют доказательств. Какие факты можешь ты предъявить, кроме простой болтовни один на один? Никаких! Я старый конспиратор!
Нина. Факты? У меня есть [мой выстрел!] Я расскажу, как я защищала изменника партии, и мне поверят, меня поймут и вас тоже поймут до конца! [Прощайте!]
Накатов. Да... это конец»35.
Когда предельной нравственной инстанцией становится партия, ее Центральный Комитет, донос на друга не выглядит чем-то невозможным, — так намечается переход событийного в обиходное жизненного мира сталинизма.
Письмо Сталина
Сталину понравилась «богатая» идея пьесы — признать Центральный Комитет партии большевиков мерилом всех нравственных достоинств, предельной истиной, высшей нормой в отношениях между людьми, когда донос становится абсолютно оправданным проявлениям высшей большевистской морали. Сталин увидел, что эта идея «богатая» в своей расширительности.
Но ему не могло понравиться, что Центральный Комитет партии, будучи истинным выражением воли пролетариата, его идеалов, оказывается в пьесе одиноким маяком, у которого нет реальной почвы. Почва — это коммунисты, преданные партии, цельные личности, и та масса рабочих, которая определяет собой истину коллективных решений, силу нравственных поступков, а не «уроды», как написал Сталин Афиногенову о героях «Лжи». Каждый положительный персонаж пьесы «Ложь» или сомневается, или сам не знает твердо ответы на вопросы времени. Цельная фигура — только оппозиционер Накатов. Это противоречие тонко почувствовал Сталин.
Обратимся к его письму, адресованному драматургу (не ранее 2 апреля 1933 г.)
«Тов. Афиногенов! Идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое. Почему-то все партийцы у Вас уродами вышли, физическими, нравственными, политическими уродами (Горчакова, Виктор, Кулик, Сероштанов). Даже Рядовой выглядит местами каким-то незавершенным, почти недоноском. Единственный человек, который ведет последовательную и до конца продуманную линию (двурушничества) — это Накатов. Он наиболее “цельный”.
Для чего понадобился выстрел Нины? Он только запутывает дело и портит музыку. Кулику надо бы противопоставить другого честно- го, беспорочного и беззаветно преданного делу рабочего (откройте глаза и увидите, что в партии есть такие рабочие). Надо бы дать в пьесе собрание рабочих, где разоблачают Виктора, опрокидывают Горчакову и восстанавливают правду Это тем более необходимо, что у Вас нет вообще в пьесе действий, есть только разговоры (если не считать выстрела Нины, бессмысленного и ненужного). Удались Вам, по-моему, типы отца, матери. Нины. Но они не доработаны до конца, не вполне скульптурны. Почти у каждого героя имеется свой стиль (разговорный). Но стили эти не доработаны, ходульны, неряшливо переданы. Видимо, торопились с окончанием пьесы.
Почему Сероштанов выведен физическим уродом? Не думаете ли, что только физические уроды могут быть преданными членами партии?
Выпускать пьесу в таком виде нельзя.
Привет!
И. Сталин»36.
Комментирующий контекст: дневники Бориса Васильевича Игрицкого
Герменевтический круг — это движение от части к целому, которое позволяет определить смысловую идентичность расширения — от текста к контексту. Но не менее важно и движение от контекста — к тексту как опыт верификации полученного знания.
Возникает вопрос — почему Афиногенову не удалось, даже после двух попыток, попасть в верную идеологическую позицию? Ведь раньше ему это удавалось. Дело не в том, что не хватило таланта драматурга. Задача ставилась не столько художественная, сколько политическая. Это привычная для Афиногенова ситуация. Но в этот раз «не срослось».
Одним из самых близких друзей драматурга был партийный журналист Борис Васильевич Игрицкий (1901-1968). Уроженец города Ельца Орловской губернии, он закончил реальное училище, во время Гражданской войны, в октябре 1918 г., вступил в РКП(б), работал партийным журналистом на Северном Кавказе и в Сибири, в 1935 г. был редактором областной газеты «Сельская правда» в Новосибирске. В 1937 г. был исключен из партии, но арестован не был. В июле 1941 г. он ушел на фронт добровольцем, хотя по состоянию здоровья не годился для строевой службы, после войны работал в редакции журнала «Семья и школа».
Афиногенов и Игрицкий познакомились в Скопине, оба были активистами, затем вместе учились в Московском институте журналистики.
Игрицкий вел дневники, в которых записывал свои жизненные наблюдения. Настоящий партийный идеолог советской журналистики, фанатично преданный партии, Игрицкий тем не менее был умным на- блюдателем, и служил для Афиногенова своеобразным маяком, правильно указывающим ему путь в жизни. В пьесе «Чудак», в первом удачном опыте драматурга, Игрицкий — прототип главного героя, Бориса Волгина, энтузиаста социалистического строительства.
В марте 1956 г. руководство ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ) обратилось к Б. В. Игрицкому с просьбой передать на хранение материалы, касающиеся Афиногенова. Письма драматурга, шутливая пародия «Три мушкетера», часть дневников Игрицкого были переданы в архив. Большая часть дневников хранится в семейном архиве внучки Б. В. Игрицкого, Марины Руслановны. (Пользуясь случаем, поблагодарить М. Р. Игрицкую за возможность ознакомиться с дневниками Б. В. Игрицкого).
Игрицкий был в курсе того, что происходило в творчестве его друга. В ноябре 1932 г. он записал в дневнике:
«О задуманной Александром новой пьесе “Ложь” — Сталин отозвался очень осторожно:
— Тема сложная. Острая. Есть опасности.
— Вы не откажетесь просмотреть ее в оригинале?
Сталин лукаво улыбнулся:
— Это уж меня не минует!»37
Не меньше, чем Афиногенов, он переживал неудачу с пьесой «Ложь». Но, в отличие от Афиногенова, он постоянно искал причину своего недовольства тем, что его друг не вмещает большого опыта народной жизни, какой необходим ему, чтобы быть настоящим пролетарским драматургом.
«Он весь 1933 год корпел над “Ложью” (“Семья Ивановых”). Несколько театров приняли эту его пьесу к постановке: МХТ 1-ый, МХТ-2-ой, Ленинградский и Харьковские театры. Александр говорит, что несколько раз он по указаниям Сталина переделывал пьесу. Не зря еще в январе, кажется, 1933 года, когда он только задумал эту вещь, — Сталин предупредил его: — “Тема острая. Не лезвие бритвы. Легко соскользнуть... ”
И Дерзнувший [Шутливое прозвище А. Н. Афиногенова. — А.ЮД соскользнул-таки!
В последний раз, посмотрев “Ложь”, Сталин безоговорочно забраковал ее: “Не вышло! Ставить не надо...”. А в Харькове незадолго до этого приговора дали закрытый просмотр пьесы, на котором присутствовали Постышев и некоторые другие видные деятели УССР. Они, по утверждению Александра, — одобрили и автора, и игру. Все-таки факт — не вышло. В ложном положении находится Афиногенов: круг его тематики, определяемый объемом его жизненного опыта, его партийной выучки, его практической выучки, его вкусов и наклонностей, очень ограничен и потому порочен. Александр, не прошедший школы Гражданской войны, не участвовавший в хозяйственном строительстве, не окунувшийся глубоко ни в рабочий быт, ни в жизнь деревни, никогда органически не был заражен стра- стями нашей партии, не увлекался ее бурями и натисками, не вовлекался в них. По существу, как был до революции, до партии мамень-ким сынком — таким и остался поныне. Он талантлив, бесспорно, но его талант не обогащенный, не обожженный огнями жизни, талант как вещь в себе — не может развернуться во всю мощь, изолированный от самого водоворота наших дней, дел, людей. Узкий мирок студентов, ученых, руководящих кадров — это чердак здания жизни. Не всегда на этом чердаке есть виды на окружающую природу. Часто это глухой чердак, без света, в пыли, душный летом, холодный зимой, всегда темный»38.
Игрицкого беспокоило и то, что Афиногенов интересовался не жизнью трудовых масс, а личным благоустройством.
«Александр Афиногенов особенное сочувствие и недоумение вызывает именно в 1933 году. Он жил в центре Москвы, сначала на Тверском бульваре, в доме Герцена, потом уединился в гостинице — когда переделывал пьесу, потом купил за 20 000 р. квартиру в новом доме на Газетном переулке.
И все-таки челюскинцы на дрейфующем льду Чукотского моря были ближе к нам, и мы к ним, чем Александр. Это дальше, чем стратосфера на 22-25 тыс. метров вверх — его, Александра, положение на отлете.
И когда как-то осенью мы решили встретиться: он, я, Карго [Александр Дмитриевич Каргополов — писатель, близкий друг Афиногенова и Игрицкого. — А.ЮД — и мы встретились у Политехнического музея после занятий политуправленцев на техучебе и пошли к нему на Газетный, то очутились словно за границей! Честное слово! Большая отдельная квартира из 4-х комнат, много мебели, люстр, вещей. Дорогих. Новых. Торгсиновские закуски и вина. Женни— жена его, американка. Как все комфортабельно, уютно и пусто!
Грустно мне было у него. Кустарь одиночка, отколотый кусок. Впрочем, он много рассказывал о встречах и разговорах со Сталиным, Кагановичем, Постышевым, Литвиновым, Ягодой и др. и о М. Горьком, Фадееве, Панферове, Ставском, Киршоне. Но ведь все это — сферы. А где же атмосфера? Ее нет, или почти нет, а в таком случае это почти стратосфера. Честное слово, грустное зрелище... Вот пример Ставского: человек он куда менее талантливый, чем Афиногенов, а ведь пользуется успехом у широкого читателя. Секрет прост: Ставский упорен в работе, он влезает с головой в гущу жизни, по крайней мере, изредка, но влезает. И именно отсюда он черпает силу, как известный богатырь набирается новых сил в схватке, каждый раз соприкасаясь с землей. Не говоря уж о Фадее-Булыге, Панферове, Шолохове М. Эти и талантливы, и не боятся окунуться поглубже, нырнуть. Они знают жизнь, людей, дела! Они сами умеют творить жизнь, дела! Если ж Афиногенову пройти такую школу, такой Университет жизни, как М. Горький, то о, это был бы исполин!
1933 год прошел для Афиногенова незамеченным. Это непопра- вимый урон для него, для его роста»39.
В самом деле был глубокий разрыв между жизнью всей страны и тех немногих писателей, драматургов, которые входили в круг самых читаемых или самых желанных в театре. Эти люди жили другой жизнью, в которой было все — комфорт, изобилие, и такой человек, как Игрицкий, фанатик коммунистической идеи, скромный до юродства, преданный и верный своим романтическим идеалам борьбы за счастье бедных людей во всем мире, остро переживал, что его любимый друг — часть того мира, которая ему глубоко чужда.
Афиногенову нравился этот образ жизни, он наслаждался широчайшими возможностями, тратил на себя и семью средств столько, сколько хотел.
Игрицкий полагал, что человек становится человеком только тогда, когда максимально сближается с общественным, классовым, партийным сознанием, сам по себе человек ничтожен, мал, никому не нужен — он пустеет и в конце концов «духовно» умирает. Афиногенов, устремляясь к благополучию, позволял себе, — это почти слетало с языка, — буржуазный образ жизни. Однажды, в 1936 г., Игрицкий сделал странную запись в дневнике. Как если бы он писал то ли рассказ, то ли пьесу: словом, изобразил себя под фамилией Га-ленчев, который пытается понять свое отношение к другу — «Дерзновенному» (А. И. Афиногенову). Его мучила раздвоенность чувства и мысли:
«У бывшего “постулантиста” — комфорт, блеск: все вина (ликеры, коньяки) пьет из диковинных бокалов: что-то среднее между цветочной вазой и наперстком.
Галенчев чувствовал себя неловко точно в седле на полосатой зебре: слишком необычно, непривычна для него эта изнеженная вычурная застилизованная обстановка...
Вот они... нувориши от литературы — думалось ему.
И он отгонял от себя назойливые мысли:
— Как понять эту обстановку? Показатель зажиточности или избыточности? Закономерное ли это явление или... разврат? Такова вся Москва? По крайней мере, литературная, господствующая, живущая на огромных заработках? Хорошо это или плохо? Галенчев склонен считать это плохим, но тут возникало новое размышление — цепь: разве я один такой “умный”? Если это разврат, избыточность, изнеженная не наша барская роскошь, то разве во всей Москве никто этого не видит? Или я отстал от жизни? Жизнь ушла вперед, а я застрял где-то на старом “идиллическом” полустанке, разъезде? Больше всего смущало Галенчева то, что поэт — фельетонист — драматург — очеркист пользовался широкой популярностью: перед ним были открыты двери самых знаменитых театров, газет, организаций. Он стоял близко к руководству литературой... И не только литературой... В чем же дело?!.. Гвоздем сидел этот вопрос в голове Галенчева. Ведь если бы он еще не знал или плохо знал прошлое и “жизненные корни” Дерзновенного, но именно потому, что он знал почву, на которой вырос этот, в свое время талантливый и ароматный цветок жизни и искусства, именно потому что хотя за последние годы он редко встречался с Дерзнувшим — он ясно видел: корни остались в прежнем состоянии и если не подросли, то обогатились лишь новыми закорючками, цепко ухватившимися за ту же самую довольно таки тощую и мало производственную почву: подзолистую или суглинистую. .. Почва так и не удобрена свежим и крепким навозом народной жизни, нет перегноя народных переживаний, чувств и настроений в его творчестве... Старая искусственная жвачка!.. Отсюда печать прежней ограниченности... но если раньше в резерве у Дерзновенного была молодость, то теперь, когда молодость прошла, а почва осталась старой — ограниченность перешла в обреченность: во всяком случае близка к ней!»40
Но суть дела, конечно, не в бедности одного и богатстве другого — а в том, что сам талант драматурга был специфический. Афиногенов был мастер конструирования, мастер сюжета, мастер комбинаций, он мог работать по заказу, не вкладывая самого себя в произведенный товар. Выходило, что он был способен писать «как нужно» в данный момент, но его жизнь, чувства, мысли не всегда были близки заказной тематике.
В 1932 г. его стали сильно интересовать сюжеты психологические, семейные конфликты, отношения мужа и жены, и когда этот свой интерес к людям он совмещал с актуальной задачей показать оппозицию, необходимость полного подчинения партии и ее Центрального Комитета, он искренне выполнял задание партии — как мог конструировал конфликт, чтобы он был интересным, захватывающим, но ни настоящей злобы, ни настоящего чувства «пролетарской ненависти» к врагам партии у него не было.
С массой не сливался, это правда...
Афиногенов сам дал точный диагноз творчества, не попадающего в идеологическую цель большевизма: «Писатель, оторвавшийся от масс, страдает психологизмом»41. «Отрыв от масс» — это прежде всего «нецелостное» мировоззрение. В октябре 1927 г. Игрицкий, наблюдавший, как развивается творческая карьера Афиногенова, сделал запись в дневнике, в которой предугадал те трудности, с которыми столкнется драматург в будущем:
«Афиногенов — менее требовательный к цельной системе мировоззрения, очевидно, довольствуется тем, что есть общепризнанного, тем, что еще осталось от прежнего уклада и тем, что стихийно устанавливается как должное в процессе нового жизнестроения. Некий эклектизм. Отсутствие полной ясности [Курсив мой. — А.ЮД. Балансирование с различным по весу тяжестями различных номенклатур: пуды и килограммы»42.
Только Игрицкий знал настоящие мысли и чувства Афиногенова — только он мог так смело характеризовать человека, которого 106
любил и одновременно болезненно переживал его природную натуру.
«По какой-то ассоциации припоминается до крайности ярко “Гамлет” в постановке театра Евг. Вахтангова. Принц Гамлет положительный тип политического деятеля, умного, ловкого, чуткого, прикидывающегося то простачком, рубахой-парнем — повесой, чуть ли, то тихо помешанным, то глубоким философом — чуждым политических придворных дрязг и страстей. И в этой фигуре сколько сдержанной кипучей энергии, живости, изворотливости, настойчивости, холодной воли, расчета в сочетании с пламенным темпераментом [Курсив мой. — А.ЮД. Гамлет и Афиногенов. Гамлет и Лазарев. Гамлет и безвестный профессор. Сколько чепухи, вздора, пустяков, рискованных параллелей и поразительных сходств и противоречий. И там, и там мимикрия, маскировка, актерство диктует все она же всесильная машина»43.
Ключевое слово — мимикрия. И не вполне ясное (на первый взгляд) словосочетание — «всесильная машина». Почему эта машина «диктует» маскировку, актерство, мимикрию? Перед тем, как «Ложь» попала на стол к Сталину, Игрицкий прочитал пьесу и разразился в дневнике длинным монологом о том, что есть ложь. В этом монологе— родственный всему большевизму мотив, который постулировал Людвиг Фейербах, не догадываясь, какими последовательными сторонниками его философии станут русские большевики.
Игрицкий писал: «Если от капли воды перейти к более сложным мирозданиям, то и там можно в еще большей мере убедиться, что ложь свойственна не только общественным животным. Явление мимикрии— разве это не “биологическая ложь”? Приобретая внешнюю окраску, близкую к окружающей среде одно животное обманывает, чтобы защищаться, и чтобы нападать. Какой-нибудь древесный паразит страшно похож на лист, на сучок и т.п. А змеи и некоторые другие виды животных — не дают разве образцов более высокого класса лжи? Безусловно в таком аспекте ложь — органическая часть всей борьбы за существование, за сохранение рода, вида, своей индивидуальности, за возможность жить, питаться, размножаться. И на данной ступени развития человечества, классового общества — действие закона лжи неизбежно, необходимо, целесообразно [Курсив мой. — А.ЮД. Правда, на различных этапах—различные формы проявления. Он остается в силе до построения бесклассового общества, до полной ликвидации пережитков классового общества в психике и сознании людей»44.
С этой точки зрения Афиногенов — как часть мира естественного, природного — приспосабливался к жизни в борьбе за существование: актерствовал, мимикрировал. Он не поднимался до высшего предела классового сознания, до высшего предела в идеологическом понимании народной жизни, как того хотели два столь разных и вместе с тем контекстуально близких людей — Сталин и Игрицкий.
* * *
«Текст» и «контекст» имеют отношение не к интерпретации исследователя, а к жизненному миру современника, субъекта истории. Текст — это смысловой алгоритм, и если это продукт одушевленной деятельности исторической эпохи, то он не обязан совпадать с мнением исследователя. Чтобы понять текст исторической эпохи, следует искать контекст не в своем привычном объяснении, а в чужой очевидности другой осмысленной повседневности.
Текст «Лжи» легко трактовать как ложь всей системы власти в стране, как едва ли не разоблачение сталинской идеологической машины, если не принимать во внимание язык самой эпохи, смысловые коды, которые внешне совпадают с нашим привычным знанием, но на деле — едва ли не противоположны нашему объяснению.
Реконструкция контекста пьесы Александра Афиногенова показывает, что «ложь» рассматривалась драматургом как все то, что противостоит «генеральной линии» партии, противостоит Центральному Комитету партии большевиков. Высшим проявлением эволюции когда-то нэповской России в сталинскую стал мотив допустимости и необходимости политического доноса как единственно возможный нравственный шаг на пути в сталинизм.
Список литературы Почему Сталину не понравилась пьеса «Ложь» драматурга Александра Афиногенова? (Теоретические и практические аспекты научной реконструкции контекста)
- Юрганов А. Л. «Бобруйское дело» и пьеса А. Н. Афиногенова «Чудак»: социально-политические реалии сталинизма и советская драматургия // Россия и современный мир. 2023. № 2 (119). С. 156–174.
- Венявкин И. «Небогатое оформление»: «Ложь» Александра Афиногенова и сталинская культурная политика 1930‑х годов // Новое литературное обозрение. 2011. № 2 (108). С. 134–159.
- Венявкин И. «Небогатое оформление»: «Ложь» Александра Афиногенова и сталинская культурная политика 1930‑х годов // Новое литературное обозрение. 2011. № 2 (108). С. 136.
- Венявкин И. «Небогатое оформление»: «Ложь» Александра Афиногенова и сталинская культурная политика 1930‑х годов // Новое литературное обозрение. 2011. № 2 (108). С. 137.
- Юрганов А. Л. Ренессанс личности в судьбе русского модернизма. Москва; Санкт-Петербург, 2018. С. 117–119.
- Афанасьев Н. Я и Он: Александр Афиногенов (1904–1941) // Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 1993. С. 346–375.
- Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Москва, 1990. С. 155, 156.
- Венявкин И. «Небогатое оформление»: «Ложь» Александра Афиногенова и сталинская культурная политика 1930‑х годов // Новое литературное обозрение. 2011. № 2 (108). С. 142.
- Венявкин И. «Небогатое оформление»: «Ложь» Александра Афиногенова и сталинская культурная политика 1930‑х годов // Новое литературное обозрение. 2011. № 2 (108). С. 142, 143.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 801.
- Литературное наследство. Т. 70: М. Горький и советские писатели: Неизданная переписка. Москва, 1963. С. 32.
- Венявкин И. «Небогатое оформление»: «Ложь» Александра Афиногенова и сталинская культурная политика 1930‑х годов // Новое литературное обозрение. 2011. № 2 (108). С. 143.
- Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Регион Докса: Источниковедение культуры. Москва, 2005.
- Юрганов А. Л. Ренессанс личности в судьбе русского модернизма. Москва; Санкт-Петербург, 2018. С. 117–119.
- Булгаков С. Религия человекобожества у Л. Фейербаха // Вопросы Жизни. 1905. № 10–11. С. 253.
- Булгаков С. Религия человекобожества у Л. Фейербаха // Вопросы Жизни. 1905. № 10–11. С. 253.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 803.
- Юрганов А. Л. В кривом зеркале сатиры: Культ вождя партии большевиков и официальная сатира в середине 20‑х — начале 30‑х годов. Москва; Санкт-Петербург, 2022. С. 339, 340.
- Юрганов А. Л. В кривом зеркале сатиры: Культ вождя партии большевиков и официальная сатира в середине 20‑х — начале 30‑х годов. Москва; Санкт-Петербург, 2022. С. 339, 340.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 804.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 815.
- Юрганов А. Л. В кривом зеркале сатиры: Культ вождя партии большевиков и официальная сатира в середине 20‑х — начале 30‑х годов. Москва; Санкт-Петербург, 2022. С. 265–270.
- Анфертьев И. А. М. Н. Рютин: Накануне исключения из партии президиумом Центральной контрольной комиссии ВКП(б) // Петербургский исторический журнал. 2015. № 1 (5). С. 209–211; Анфертьев И. А. Политическая биография правящей РКП(б) — ВКП(б) в 1920–1930‑е годы: Критический анализ. Москва, 2017. С. 267.
- Анфертьев И. А. Политическая деятельность М. Н. Рютина и его участие в московской «внутрипартийной драке» в 1928 г. // Клио. 2004. № 3 (26). С. 51–54.
- Юрганов А. Л. В кривом зеркале сатиры: Культ вождя партии большевиков и официальная сатира в середине 20‑х — начале 30‑х годов. Москва; Санкт-Петербург, 2022. С. 320, 321.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 845, 846.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 840.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 858, 859.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 865.
- Громова Н. А. Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы: Из литературного быта конца 1920‑х — 1930‑х г. Москва, 2016. С. 203.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 819.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 813.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 866.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 866–868.
- Забытые пьесы 1920–1930‑х годов. Москва, 2014. С. 889–891.
- Громова Н. А. Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы: Из литературного быта конца 1920‑х — 1930‑х г. Москва, 2016. С. 202.
- Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2172. Оп. 2. Д. 82. Л. 5.
- РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Д. 82. Л. 13–14.
- РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Д. 82. Л. 14–15.
- Архив Б. В. Игрицкого, дневниковая запись 1936 г.
- Афиногенов А. Н. Избранное. В 2 т. Т. 2. Письма. Дневники. Москва, 1977. С. 134.
- РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Д. 82. Л. 3.
- РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Д. 82. Л. 8.
- РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Д. 82. Л. 10.