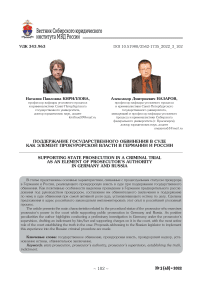Поддержание государственного обвинения в суде как элемент прокурорской власти в Германии и России
Автор: Кириллова Наталия Павловна, Назаров Александр Дмитриевич
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 3 (48), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены основные характеристики, связанные с процессуальным статусом прокурора в Германии и России, реализующего прокурорскую власть в суде при поддержании государственного обвинения. Как позитивные особенности выделены проведение в Германии предварительного расследования под руководством прокурором, составление им обвинительного заключения и поддержание по нему в суде обвинения при самой активной роли суда, устанавливающего истину по делу. Сделаны предложения в адрес российского законодателя имплементировать этот опыт в российский уголовный процесс.
Государственное обвинение, прокурорская власть, прокурорский надзор, установление истины, обвинительное заключение
Короткий адрес: https://sciup.org/140296536
IDR: 140296536 | УДК: 343.963 | DOI: 10.51980/2542-1735_2022_3_102
Текст научной статьи Поддержание государственного обвинения в суде как элемент прокурорской власти в Германии и России
П ротиводействие преступности и контроль над ней являются задачами любого цивилизованного государства и возлагаются на правоохранительные органы. Своевременное раскрытие совершенных преступлений, их качественное расследование имеют существенное значение для достижения назначения уголовного судопроизводства. Однако не менее важным является качество поддержания обвинения в суде, позволяющее суду установить все значимые обстоятельства совершенного преступления и вынести законный, обоснованный и справедливый приговор.
Процессуальное положение государственного обвинителя, объем полномочий, критерии оценки эффективности его деятельности в различных странах зависят от существующей там формы уголовного процесса и правовых традиций [2; 3; 6; 9; 10; 12; 13].
В.Н. Додонов и В.Е. Крутских [5, с. 5-7, 25] выделяют в современном мире несколько моделей прокуратуры, исходя из ее места в системе государственных органов. Первую модель используют страны, где прокуратура входит в состав министерства юстиции, хотя при этом она может относиться к органам правосудия и действовать при судах (например, Германия, Франция, США и др.). Другая группа стран включает прокуратуру в состав судебной системы либо предоставляет ей административную автономию в рамках судебной власти (Испания, Латвия, Болгария и др.). Некоторые постсоветские государства, в том числе и Россия, выделяют ее в самостоятельную систему, которая подотчетна парламенту или главе государства. Наконец, есть страны, где прокуратуры или ее прямого аналога вообще нет (например, в Великобритании).
Указанные авторы отмечают следующую закономерность: чем сильнее у той или иной нации традиции «сильного» государства, сфера его «социальной ответственности», тем шире функции прокуратуры, выше ее роль в системе государственных институтов.
Рассмотрим некоторые вопросы института поддержания государственного обвинения как эффективного инструмента прокурорской власти на примере России и Германии.
Деятельность прокуратуры по поддержанию государственного обвинения в Германии регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, принятым 1 февраля 1877 г. и действующим в редакции от 7 апреля 1987 г. Нормы процессуального характера содержатся в Законе о судоустройстве 1877 г., действующем в редакции от 1975 г., и некоторых других нормативных актах1.
В Германии прокуратура не всегда была самостоятельным органом, поддерживающим государственное обвинение. На этапе партикулярного немецкого законодательства земель в XIX веке по существу роль прокуратуры была сведена в большей степени до организационного придатка суда, самостоятельно осуществляющего уголовное преследование в контексте инквизиционного процесса, где рассмотрение и разрешение уголовного дела не имело четкого разделения с раскрытием и расследованием преступления. Изменение такого порядка начало происходить шаг за шагом после французской революции. И уже к концу первой половины XIX века среди процессуалистов господствовало единство мнений о необходимости функциональной дифференциации органов уголовного преследования, государственного обвинения и суда. Однако такое историческое наследие прокуратуры привело немецких юристов к представлению о прокуратуре как о беспристрастном, независимом «органе мира», надзирающем за законностью и содействующем суду в поиске истины [17, s. 53].
Процессуальное положение прокурора, поддерживающего государственное обвинение в Германии, основано на концепции уголовного процесса, содержанием которой является отрицание процессуальных правоотношений, понятия сторон, принципа состязательности и закрепления особого процессуального положения председательствующего судьи.
Прокуратура (равно как и защитник) не сторона уголовного процесса, и, по смыслу

немецкой уголовно-процессуальной доктрины, не может ею быть. Она собирает доказательства как вины, так и невиновности. Иное бы не позволило согласовать обязанности прокуратуры с принципами истины и справедливости [17, s. 56].
Если говорить о России, то прокурор (как, собственно, и все субъекты, ведущие уголовный процесс, – следователь и его руководитель, дознаватель и его начальники) искусственно оказался на стороне обвинения в состязательной модели российского уголовного судопроизводства. Фактически прокурор в суде представляет сторону государства, у него государственный интерес в достижении назначения уголовного судопроизводства, а наименование его миссии в суде первой инстанции и в апелляции – «государственный обвинитель» – не более как дань сложившейся в России традиции именно так именовать прокурора на суде. А по своим полномочиям немецкие и российские прокуроры практически не различаются.
Председательствующий судья в Германии наделен исключительными полномочиями не только по руководству разбирательством дела, но и по единоличному ведению судебного следствия. Часть 1 параграфа 238 УПК ФРГ предусматривает, что руководство рассмотрением уголовного дела, допрос подсудимого и проведение всего судебного следствия осуществляет председательствующий. Иные участники процесса, в том числе и прокурор, только с разрешения судьи вправе задавать вопросы свидетелям, экспертам, подсудимому1. Для судебного следствия в немецком процессе не характерен перекрестный допрос. Судья осуществляет процесс доказывания, целью которого является установление истины по делу [1, с. 223].
Так, согласно абз. 2 параграфа 244 Уголовно-процессуального кодекса Германии суд в силу занимаемой должности по собственной инициативе для достижения истины должен распространять судебное следствие на все обстоятельства и доказательства, которые имеют значение для принятия решения2.
Это основополагающий для немецкого уголовного процесса принцип, по которому суд обязан по собственной инициативе проявлять доказательственную активность. В Германии рассматриваемый принцип – это отражение элементов розыскного процесса. Обязанностью суда является достижение истины по делу на основе построения доказательственной базы.
Прокуратура в настоящий момент – самостоятельный орган уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Германии, а не только «неотделимая» часть судебной власти, как это было на заре становления этого органа.
В немецкой доктрине осуществление задач прокуратуры является отражением идеи о том, что прокуратура – это «госпожа предварительного расследования» (Herrin des Ermittlungsverfahren) [14, s. 99-100]. Соответственно, поле ее основной деятельности, в отличие от России, – это именно предварительное расследование.
Деятельность прокуратуры в Германии строится на двух ключевых принципах, закрепленных в законе, – официальности и легальности.
Согласно абз. 1 и 2 параграфа 152 УПК Германии предъявление публичного обвинения относится к обязанностям прокуратуры. Если законом не установлено иное, то она обязана организовывать уголовное преследование всех преступных деяний при наличии на это достаточных оснований.
Обязанность прокурора осуществлять уголовное преследование закреплена в ст. 21 УПК РФ.
Также в силу абз. 1 и 2 параграфа 160 УПК Германии, когда прокуратура получает информацию о совершении преступного деяния на основании заявления или иным образом, она должна изучить фактические обстоятельства, чтобы принять решение о том, должно ли быть предъявлено публичное обвинение. Прокуратура должна устанавливать не только обстоятельства, существенные для обвинения, но и обстоятельства, существенные для оправдания, и обеспечивать собирание доказательств, которые могут быть утрачены.
В контексте всех ранее рассмотренных законодательных положений, прокуратура не имеет прямой цели «состязаться» с защитником и подсудимым. В первую очередь немецким законодателем подчеркивается необходимость отстаивать интересы законности, которые выражаются в достижении цели, продекларированной в немецком УПК [15, s. 212-217].
Основным аспектом государственного обвинения в Германии является то, что прокуратура полностью ответственна за результаты предварительного расследования. При этом фактически основная часть работы по расследованию ложится на полицию, осуществляющую дознание [1, s. 103-106]. Но так как прокуратура настолько сильно вовлечена в осуществление предварительного расследования, то законодательно и доктринально для прокуратуры основной задачей выступает подготовка обвинительного заключения таким образом, чтобы суд самостоятельно на основе полученных доказательств мог восстановить события прошлого в их действительном виде [15, s. 211-212]. Законодательно предопределенная активность немецкого суда в рассматриваемом отношении изменяет характер и степень влияния прокуратуры на судебные стадии уголовного судопроизводства.
Прокурор, не являясь стороной в процессе, хотя и представляет в суде обвинение, ограничивается надзорной функцией и по существу не участвует в судебном следствии. Доминирующее положение председательствующего обычно обрекает прокурора и защитника на пассивное участие в судебном разбирательстве. Их активизация в процессе может быть истолкована председательствующим как критика техники его допроса. Прокурор является как бы помощником судьи в судебном разбирательстве. В прениях он предлагает свое видение результатов судебного следствия, делает вывод о виновности или невиновности подсудимого и вносит предложение о постановлении того или иного приговора [4, с. 454-455].
В параграфе 156 УПК ФРГ сказано, что «после открытия судебного разбирательства обвинительное заключение не может быть отозвано». Следовательно, после поступления уголовного дела с обвинительным заключением в суд последний решает все сам и не связан позицией других участников. Прокурор в Германии может отказаться от обвинения до направления дела в суд.
Судья в ФРГ наделен в судебном разбирательстве широкими дискреционными полномочиями, он не связан позицией сторон и занимает активную позицию в судебном следствии. В частности, он первым проводит допрос участников процесса (подсудимого, потерпевшего, свидетелей). В отличие от немецкого судьи российский судья в соответствии с принципом состязательности судебного разбирательства в определенных законом ситуациях связан позицией прокурора. Если прокурор отказывается от обвинения полностью или частично, предлагает суду смягчить квалификацию общественно опасного деяния, инкриминированного подсудимому, то суд в России обязан прекратить уголовное дело или уголовное преследование или вынести приговор в объеме обвинения, поддержанного государственным обвинителем.
В судебном разбирательстве в Германии участие прокурора должно быть обязательным. Участие прокурора – не государственного обвинителя, а именно Sitzungsvertreter (представителя прокуратуры) выражается в прочтении обвинительного заключения (параграф 243 УПК Германии), формулировании вопросов подсудимому, свидетелям и (параграфы 240, 244 УПК Германии).
Прокурор, по сути, поддерживает суд в реализации последним процессуального поиска истины, а также в поддержании или опровержении позиции по заявлениям других участников судопроизводства [16, s. 60].
Вывод о том, что возможности прокурора в уголовном процессе Германии снижаются
за счет активности суда, может следовать из логики законодательного построения и описания хода судебного заседания. В частности, согласно параграфу 243 УПК Германии после подготовительной части судебного заседания сначала председательствующий допрашивает подсудимого о данных, касающихся его личности, а после этого прокурор зачитывает1 резолютивную часть обвинительного заключения.
Таким образом, в Германии прокурор поддерживает в суде именно то обвинение, которое он сам сформулировал по результатам полицейского дознания. Как представитель государственной власти он направляет в суд уголовное дело со своим обвинением, представляет его в суде, оставаясь при этом по своему процессуальному статусу прокурором.
В Российской Федерации прокурор в суде первой и апелляционной инстанций, поддерживающий государственное обвинение, именуется государственным обвинителем. Его процессуальный статус определяется принципом состязательности, в полной мере действующим в судебном разбирательстве. Государственный обвинитель является процессуально самостоятельной фигурой, но он поддерживает обвинение, хотя и утвержденное прокурором, но сформулированное не прокуратурой, а следователем или дознавателем, поэтому нередки случаи, когда обвинение не находит подтверждения в суде. В этом случае государственный обвинитель не только вправе, но и обязан отказаться от обвинения или изменить его в сторону смягче- ния, поскольку помимо функции уголовного преследования он осуществляет и правозащитную функцию в суде [подр.: 7, с. 96].
В контексте имплементации немецкого опыта в российской доктрине обсуждается вопрос о возложении на прокурора обязанности по составлению обвинительного заключения по уголовному делу. Данную идею, как показывают результаты проведенного нами исследования, поддерживают 20,7% адвокатов, 20,5% следователей и руководителей следственных органов, 12, 4% судей, но не поддерживают сами прокурорские работники. Так, 5,6% работников прокуратуры, 5,1% следователей и их руководителей считают, что составлять обвинительное заключение прокурор может при участии следователя. 7,7% следователей и руководителей следствия, а также 5,6% судей и 3,4% прокурорских работников полагают, что прокурор при участии следователя мог бы составлять обвинительное заключение по определенным категориям уголовных дел («сложным», «громким», «резонансным», когда обвиняемый содержится под стражей и т. п.) [подр.: 11, с. 233].
Представляется, что участие прокурора наряду со следователем в составлении обвинительного заключения могло бы уменьшить количество следственных ошибок, усилить прокурорский надзор, а также ответственность прокурора за утвержденное обвинительное заключение. Качественное расследование уголовного дела и прокурорский надзор в значительной степени служат гарантией эффективной работы прокурора в суде.
1 Свободное изложение не допускается: закон предписывает именно зачитывание текста.
Список литературы Поддержание государственного обвинения в суде как элемент прокурорской власти в Германии и России
- Бойльке, В. Уголовно-процессуальное право ФРГ: учебник. 6-е изд., с доп. и изм. / В. Бойльке ; пер. с нем. Я.М. Плошкиной ; под ред. Л.В. Майоровой. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2004. – 352 с.
- Галимов, О.Х. Институт следственных судей в Российской Федерации требует комплексного подхода / О.Х. Галимов, М.А. Галимова // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2016. – N 4(25). – С. 83-90.
- Головко, Л.В. Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголовных дел на постсоветском пространстве / Л.В. Головко // Государство и право. – 2009. – N11. – С. 67-71.
- Гуценко, К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. Филимонов ; под ред. К.Ф. Гуценко. – М.: Изд-во «Зерцало-М», 2001. – 480 с.
- Додонов, В.Н. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное исследование ///В.Н. Додонов В.Е. Крутских ; под ред. С. И. Герасимова. – М.: Норма, 2001.
- Карпов, Н. Нравственные основы прокурорской деятельности / Н. Карпов // Законность. – 2008. – N 12. – С. 12-15.
- Кириллова Н. П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел. Монография. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2007. – 408 с.
- Клевцов, К.К. Субъекты передачи уголовного преследования (судопроизводства) в рамках международного сотрудничества. Часть I. Суд и участники со стороны обвинения / К.К. Клевцов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2021. – N 1. – С. 11-15.
- Кругликов, А.П. Процессуальное руководство прокурором уголовным преследованием от имени государства – принцип уголовного судопроизводства / А.П. Кругликов, И.А. Бирюкова // Законность. – 2019. – N 2. – С. 38-42.
- Махов, В.Н. Начальная стадия уголовного процесса в Российской Федерации и зарубежных странах / В.Н. Махов // Российский следователь. – 2018. – N 3. – С. 75-77.
- Назаров, А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы: монография / А.Д. Назаров. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 400 с.
- Шмарев, А.И. Международно-правовая основа дискреционных полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве / А.И. Шмарев // Законность. – 2021. – N 2. – С. 30-34.
- Щерба, С.П. Полномочия прокуроров иностранных государств в уголовном судопроизводстве и вне уголовно-правовой сферы / С.П. Щерба, В.Н. Додонов, Е.А. Архипова // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2016. – N 3 (53). – С. 27-45.
- Kühne, H.-H. Strafprozessrecht. Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts / H.-H.Kühne. – C.F. Müller, 2015. – 838 s.
- Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung. In 3 Bänden. – 1. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2016. – 2472 s.
- Ranft, O. Strafprozessrecht. Systematische Lehrdarstellung für Studium und Praxis / O.Ranft. – RichardBoorbergVerlag, 2005. – 794 s.
- Roxin, C. Strafverfahrensrecht / C. Roxin, B. Schünemann. – 29. Aufl. – München: Verlag C.H. Beck, 2017. – 576 s.