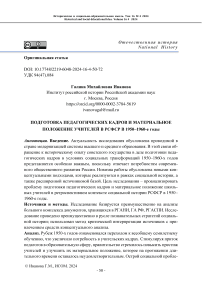Подготовка педагогических кадров и материальное положение учителей в РСФСР в 1950-1960-е годы
Автор: Иванова Г.М.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение . Актуальность исследования обусловлена проводимой в стране модернизацией системы высшего и среднего образования. В этой связи обращение к историческому опыту советского государства в деле подготовки педагогических кадров в условиях социальных трансформаций 1950-1960-х годов представляется особенно важным, поскольку отвечает потребностям современного общественного развития России. Новизна работы обусловлена новыми концептуальными подходами, которые реализуются в рамках социальной истории, а также расширенной источниковой базой. Цель исследования - проанализировать проблему подготовки педагогических кадров и материальное положение школьных учителей в ретроспективном контексте социальной истории РСФСР в 1950-1960-е годы. Источники и методы . Исследование базируется преимущественно на анализе большого комплекса документов, хранящихся в РГАНИ, ГА РФ, РГАСПИ. Исследование проведено преимущественно в русле познавательных стратегий социальной истории; использован метод критической интерпретации источников с привлечением средств концептуального анализа. © Иванова Г.М., ИСОМ. 2024 Анализ. Рубеж 1950-х годов ознаменовался переходом к всеобщему семилетнему обучению, что увеличило потребность в учительских кадрах. Стимулируя приток педагогов в образовательную сферу, правительство стремилось повысить престиж учителей и улучшить их материальное положение, которое на протяжении длительного времени оставалось неудовлетворительным. Острой социальной проблемой для части школьных учителей стала безработица, охватившая советскую систему образования в 1950-е годы. В основе образовавшегося в РСФСР временного избытка учителей лежало резкое сокращение школьных контингентов вследствие уменьшения рождаемости в годы войны. С целью улучшения ситуации Министерство просвещения РСФСР провело ряд мероприятий, в том числе изменило систему подготовки педагогических кадров.
Педагогические кадры, министерство просвещения рсфср, педагогическое образование, школьная безработица, последствия войны, материальное положение учителей
Короткий адрес: https://sciup.org/149146312
IDR: 149146312 | УДК: 94(47).084 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-4-50-72
Текст научной статьи Подготовка педагогических кадров и материальное положение учителей в РСФСР в 1950-1960-е годы
Институт российской истории Российской академии наук г. Москва, Россия
Sources and methods. The study is based mainly on the analysis of a large set of documents stored in the RGANI, GA RF, RGASPI. The study was conducted primarily in line with the research strategies of social history, using the method of critical interpretation of sources with the involvement of conceptual analysis.
Analysis. The turn of the 1950s was marked by the transition to general seven-year education, which increased the need for teaching staff. By stimulating the influx of teachers into the educational sphere, the government sought to increase the prestige of teachers and improve their financial situation, which had remained unsatisfactory for a long time. Unemployment, which engulfed the Soviet education system in the 1950s, became an acute social problem for some school teachers. The temporary surplus of teachers in the RSFSR was based on a sharp reduction in school contingents due to a decrease in the birth rate during the war. In order to improve the situation, the Ministry of Education of the RSFSR carried out a number of measures, including changing the system of training teaching staff.
Conclusions. The Soviet general education system in the 1950s and 1960s was one of the most dynamically developing structures. The initially low level of teaching in the Soviet school gradually improved during the period under study, in particular, due to the improvement of the system of training teachers, raising their professional and educational level. Social changes that began in society in the second half of the 1950s contributed to the improvement of the financial situation of teachers, as a result of which the turnover of teaching staff decreased.
Введение. История высшего профессионального образования в СССР, в том числе и педагогического, давно привлекает внимание исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Практически во всех современных работах, посвященных проблеме подготовки специалистов в Советском Союзе, прямо или косвенно затрагивается тема подго- товки педагогических кадров [7; 8; 9]. Некоторые работы носят региональный характер, то есть проблема педагогического образования рассматривается на материалах Сибири, Южного Урала, Поволжья, Костромской области и др. [10; 11; 12; 13], часть работ посвящена подготовке учителей-предметников, а также развитию вечернего и заочного педагогического образования [14; 15; 16].
Признавая научную значимость и продуктивность проведенных исследований в области педагогического образования, следует отметить, что некоторые важные вопросы до сих пор остаются вне поля зрения историков. Так, например, в современной историографии практически отсутствуют работы по изучению социальных аспектов проблемы подготовки педагогических кадров, недостаточно изучена взаимосвязь и взаимозависимость между педагогическим образованием и материальным положением учителей. Между тем ретроспективный анализ проблемы подготовки педагогических кадров в условиях глубоких социальных преобразований 1950–1960-х годов дает возможность более объективно оценить тенденции и перспективы развития педагогического образования в современной России.
В настоящей работе делается попытка на основе метода критической интерпретации источников определить основные направления развития системы подготовки педагогических кадров, выявить ошибки, противоречия и трудности в деле планирования подготовки и использования учительских кадров, изучить материальное положение школьных учителей в РСФСР в 1950–1960-е годы, раскрыть механизмы государственного стимулирования трудовой деятельности работников образовательной сферы.
Данное исследование базируется преимущественно на анализе большого комплекса документов и материалов, хранящихся в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ), Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Наряду с архивными документами в работе использованы опубликованные материалы (публикации документов, законодательные акты, мемуарная литература и др.).
Анализ. Бедствием советской школы послевоенного периода была низкая успеваемость учащихся. На протяжении ряда лет школам РСФСР не удавалось добиться сколько-нибудь заметных успехов в борьбе с второгодничеством. Самая низкая успеваемость из года в год наблюдалась в V–VII классах. Из всех послевоенных лет наиболее трудными для обучения были для советских школьников два первых послевоенных года, когда доля второгодников в школах РСФСР доходила до 28,2% от общей численности учащихся. К концу 1952/53 учебного года число второгодников снизилось до 14,5%, что в абсолютных величинах составило более 2,2 млн человек. По признанию министра просвещения РСФСР И.А. Каирова, с 1951/52 учебного года в российских школах «началась практика завышения оценок» [17, с. 26].
Основной причиной низкой успеваемости учащихся министр просвещения называл «недостаточную подготовленность значительной части учительства, отсутствие должной ответственности со стороны некоторой части учителей за результаты своей работы и неудовлетворительное руководство со стороны отделов народного образования». Не сбрасывая со счетов такие негативные факторы, как многосменность школьных занятий, отсутствие у школ необходимой материальной базы, перегрузки учащихся и несовершенство учебных программ, И.А. Каи-ров все же подчеркивал, что главное – это низкое качество преподавания [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.42. Л.87, 95].
Низкий уровень преподавания в советской школе объяснялся многими причинами, но в первую очередь – слабым кадровым составом учителей, который хотя и менялся в лучшую сторону, но явно недостаточно быстрыми темпами. Уровень образования многих учителей не соответствовал официальным квалификационным требованиям. Представление об образовательном уровне учителей и руководителей школ на начало 1953/54 учебного года дает нижеследующая таблица.
Состав учителей и руководителей школ РСФСР по образованию на начало 1953/54 учебного года*
Composition of teachers and school leaders of the RSFSR by education at the beginning of the 1953/54 school year*
|
Образовательный уровень учителей и руководителей школ: |
Численность (в тысячах) |
Процент от общей численности |
|
с высшим образованием |
138,2 |
17,5 |
|
с незаконченным высшим образованием |
189,4 |
24,0 |
|
со средним педагогическим образованием |
364,2 |
46,1 |
|
с общим средним образованием |
70,2 |
8,8 |
|
без среднего образования |
28,6 |
3,6 |
|
Всего |
790,6 |
100 |
* Источник: РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.42. Л.105.
Как видно из таблицы, подавляющее большинство учителей имели среднее педагогическое образование. В целом по стране десятки тысяч учителей работали без соответствующего образования. Так, в 1953 г. среди учителей-предметников, преподававших в V–VII классах родной язык и литературу, не имели соответствующего образования 59,2% преподавателей, физику и математику – 41,9%, немецкий язык – 70,4%. В VIII–X классах из общего числа преподавателей географии и естествознания 42,8% не имели необходимого образования, среди учителей физики и математики не имели соответствующего образования 34,6%, немецкого языка – 47,8% [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.42. Л.108]. Не лучше обстояли дела и с пре- подавателями русского языка и литературы в нерусских школах. А уж такие предметы, как пение, рисование, черчение и физкультура, зачастую вели учителя, вообще не имевшие никакой специальной подготовки.
В РСФСР профессиональная подготовка учительских кадров велась в учебных заведениях нескольких типов. На базе семилетней школы в течение четырех лет подготовку учителей для начальной школы осуществляли педагогические училища. В августе 1953 г. в 390 педагогических училищах обучалось примерно 117 тыс. человек.
Подготовка учителей V–VII классов семилетних и средних школ велась в двухлетних учительских институтах, сеть которых была увеличена со 107 в 1946 г. до 140 в 1950 г. Соответственно контингент учащихся этих институтов вырос с 26 тыс. до 49 тыс. Создание дополнительной сети учительских институтов в 1949– 1950 гг. явилось одним из важнейших условий для повсеместного введения семилетнего всеобуча. В последующие годы в связи с реорганизацией учительских институтов в педагогические институты количество первых сократилось к августу 1953 г. до 58 с числом обучающихся 10,5 тыс. человек.
Подготовка учителей для VIII–X классов средних школ осуществлялась в педагогических институтах и частично в университетах. В 1953 г. в РСФСР имелось 86 пединститутов с общим числом студентов 94 тыс. человек. Оценивая качество педагогического образования, И.А. Каиров писал в докладной записке, представленной 4 августа 1953 г. Н.С. Хрущеву: «Качество теоретического образования студентов педагогических институтов имеет ряд существенных недостатков, а их профессиональная подготовка не отвечает в полной мере задачам, стоящим в настоящее время перед школой». Главный пробел – это «недостаточно прочное и глубокое знание программного материала средней школы» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.42. Л.113].
Многие из учителей для получения соответствующего диплома пытались совмещать работу с учебой и поступали на заочные отделения педагогических и учительских институтов. Однако общее состояние заочного обучения было неудовлетворительным. Выпуски заочников не достигали и 50% приема на 1 -й курс. Ежегодный отсев составлял 15%. Успеваемость не превышала 60%, десятки тысяч студентов-заочников ежегодно оставались на повторный год обучения на том же курсе [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.42. Л.108–113].
Стимулируя приток учительских кадров в образовательную сферу, Совет министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли 10 февраля 1948 г. совместное постановление № 245 «О повышении заработной платы и пенсий учителям начальных, семилетних и средних школ», которое заметно улучшало материальное положение школьных преподавателей. Согласно этому документу, заработная плата учителей повышалась с 1 февраля 1948 г. на 15%. Преподаватели массовых школ VIII– X классов с высшим образованием стали получать 710 рублей в месяц при 18часовой учебной нагрузке в неделю, а учителя со средним и средним специальным образованием – 575 рублей [РГАНИ. Ф.5. Оп.30. Д.183. Л.30–31]. Это было несколько меньше, чем получали ветеринарные врачи, агрономы, зоотехники с высшим образованием или техники, электрики, ветеринарные фельдшеры со средним образованием. Увеличение заработной платы мотивировало педагогов на повышение своего профессионального уровня.
Кроме того, учителям устанавливались пенсии за выслугу лет, которые назначались при наличии 25-летнего стажа педагогической работы в размере 40% от соответствующей педагогическому стажу ставки заработной платы. Последнее обстоятельство ущемляло интересы тех учителей-пенсионеров, которые еще раньше вышли на пенсию и не работали. Таких в РСФСР в конце 1948 г. насчитывалась 21 тыс., из них 14 тыс. проживали в сельской местности и 7 тыс. в городах и рабочих поселках.
Многие из этих учителей-пенсионеров остались без повышения пенсии, так как размер ставок зарплаты ко времени их выхода на пенсию был такой, что 40% от этих ставок составляли сумму меньшую, чем уже назначенная пенсия. Эти учителя-пенсионеры по-прежнему получали материальное обеспечение в размере от 50 до 150 рублей в месяц. Их положение усугублялось тем, что после прекращения работы в школе сельские учителя-пенсионеры лишались прав на получение бесплатных квартир с отоплением и освещением, а также земельного участка в размере 0,25 га.
«Таким образом, – писал в своем обращении к Г.М. Маленкову министр просвещения РСФСР А.А. Вознесенский, – неработающие учителя-пенсионеры на пенсию в размере от 50 до 150 рублей в месяц должны питаться, одеваться и обуваться, оплачивать квартиру, отопление и освещение». Вознесенский просил секретаря ЦК ВКП(б) «рассмотреть вопрос о назначении неработающим учителям-пенсионерам пенсий за выслугу лет, исходя из ставок заработной платы, установленной постановлением Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) № 245 от 10.II-1948 года» [РГАСПИ. Ф.17. Оп.132. Д.50. Л.69].
В системе советского пенсионного обеспечения пенсии за выслугу лет назначались специалистам определенных категорий, в том числе учителям и некоторым другим работникам просвещения. Данные пенсии назначались независимо от возраста и состояния трудоспособности и выплачивались полностью как работающим, так и неработающим пенсионерам, что позволяло учителям, пожелавшим оставить работу, получать некоторое материальное обеспечение. Пенсии за выслугу лет повышали денежные доходы работающих учителей примерно на 20–30%. По сути это были надбавки к невысокой заработной плате работников образовательной сферы, которые стимулировали к продолжению работы. Согласно данным начальника ЦСУ СССР В.Н. Старовского, среднемесячная заработная плата преподавателей школ системы министерств просвещения союзных республик в 1954 г. составляла 850 рублей [РГАНИ. Ф.5. Оп.30. Д.106. Л.131].
Для закрепления кадров в системе народного образования и повышения их престижа Президиум Верховного Совета СССР издал Указ от 12 февраля 1948 г. «О награждении учителей орденами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную работу» [18]. Согласно указу, учителя, директора, инспектора школ, заведующие учебной частью, работающие в органах народного образования и имеющие непрерывный стаж педагогической работы 10 лет, награждались медалью «За трудовое отличие», 15 лет – медалью «За трудовую доблесть», 20 – орденом «Знак почета», 25 – орденом Трудового Красного Знамени и 30 лет – орденом Ленина. На основании этого указа в РСФСР с 1948 по 1952 г. были награждены орденами и медалями 148,6 тыс. учителей, в том числе более 19 тыс. получили орден Ленина. В 1953 г. к награждению орденами и медалями было представлено 11 354 учителя, что составило 1,4% от общего числа российских учителей [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.42. Л.106].
Практика награждения орденами и медалями СССР за выслугу лет была отменена по инициативе Н.С. Хрущева в 1958 г. «В целях дальнейшего поощрения творческой активности и инициативы трудящихся и изменения сложившейся в послевоенные годы практики, при которой награждение производилось главным образом за выслугу лет», Президиум Верховного Совета СССР указом от 11 февраля 1958 г. «О порядке награждения орденами и медалями СССР» постановил, что впредь награждение должно производиться за конкретные успехи и выдающиеся заслуги [19]. Все нормативные акты, служившие основанием для награждения работников просвещения «за выслугу лет и безупречную работу», были признаны утратившими силу. В дальнейшем представление учителей к государственным наградам осуществлялось крайне редко.
Для поощрения педагогических работников Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 11 января 1940 г. установил почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», которое присваивалось за «выдающиеся заслуги в области народного образования». Аналогичные указы были приняты в каждой союзной республике. В 1953 г. почетные звания Заслуженного учителя школы РСФСР получили 2232 учителя. Более распространенной формой поощрения работников образовательной сферы было награждение нагрудным значком «Отличник народного просвещения», утвержденного постановлением СНК РСФСР 14 ноября 1943 г. В 1953 г. этот значок получили 17 274 человека.
По сравнению со многими другими работниками системы министерства просвещения учителя имели ряд льгот и преимуществ, особенно в сельской местности. Столкнувшись в послевоенный период с острой нехваткой учителей на селе и невозможностью по этой причине осуществлять не только всеобщее семилетнее, но и начальное обучение, Совет министров СССР принял 10 февраля 1948 г. постановление № 246 «О льготах и преимуществах для учителей начальных и семилетних школ». Правительство пыталось путем улучшения материального положения учителей сделать работу сельского учителя более привлекательной, а его общественный статус более достойным.
Правительственное постановление обязывало исполкомы сельских и поселковых Советов предоставлять «бесплатно учителям, директорам (заведующим) и заведующим учебной частью начальных и семилетних школ в сельских местностях и совместно с ними проживающим членам их семей квартиры с отоплением и освещением по нормам, действующим в данной местности» [20, с. 463–464]. Названное постановление определяло порядок строительства в сельских местностях жилых домов для учителей, условия наделения их приусадебными земельными участками, регулировало взаимоотношения с колхозами по поводу выпаса скота, принадлежащего учителям, а также предоставляло некоторые другие преимущественные права и льготы.
В осуществлении этого и других аналогичных постановлений союзного и республиканского правительств на практике имелись, по словам министра просвещения РСФСР И.А. Каирова, «серьезные недостатки и извращения». Постановление № 246 грубо нарушалось в большинстве краев, областей и АССР. Многие сельские советы не обеспечивали учителей ни квартирами, ни топливом, не выполнялось и распоряжение правительства о строительстве при сельских школах домов для учителей. Разработанные планы предусматривали, что за период с 1948 по 1953 г. на селе будет построено 36 583 дома для учителей, на практике оказалось, что построено и приобретено лишь 18 374 учительских дома [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.42. Л.107].
Вопрос об обеспечении учителей жилплощадью был серьезной проблемой для Министерства просвещения. Значительная часть учителей не имела своего постоянного жилья и проживала на частных квартирах. Исполкомы, обязанные по закону предоставлять учителям жилплощадь, не могли этого делать из-за незначительных объемов жилищного строительства. В сельской местности квартир для учителей также было очень мало. Учителя были вынуждены снимать «углы» в частных домах и жить нередко в одной комнате с хозяевами. При этом вопреки существовавшим законам учителя доплачивали за квартиру из собственных средств.
По воспоминаниям историка С.В. Оболенской, ее быт в первый год учительства в западнодвинской средней школе был предельно прост: «За пятьдесят рублей в месяц я сняла неподалеку от школы маленькую комнату за дощатой перегородкой не до потолка, отделявшей нас от хозяев. Здесь мы с мамой и прожили, не помню уж сколько – около года, наверное. Интерьер наш был крайне скуден. Мамину железную кровать (узкая девичья постелька – шутила мама) и бабушкин деревянный сундук, превращенный в ложе для меня, разделяло такое узкое пространство, что вдвоем не разойтись. Школьный стол, скамейка от парты да в углу еще столик для хозяйственных нужд. Дощечка, подвешенная на двух веревочках, — полка для книг» [21, с. 144—145].
В чрезвычайно сложных жилищных условиях зачастую находились не только молодые учителя без педагогического стажа, но и преподаватели, проработавшие в школе не один десяток лет. В 1956 г. в ЦК КПСС ежедневно поступало более 500 писем, в которых граждане жаловались на невыносимо тяжелые жилищные условия.
В одну из обзорных сводок Общего отдела ЦК КПСС «о создавшемся тяжелом положении» попало в качестве примера письмо учительницы московской школы № 695 Калачевой Е.Я. Вот выдержка из ее обращения к высшему руководству страны: «Я 35-й год работаю в школе. За хорошую работу награждена орденами и медалями. Муж старый коммунист, тоже долгое время учительствовал, умер. Сын сгорел в танке. Второй сын вернулся с фронта инвалидом. Более 12 лет я жила в раздевалке школы, а затем перевели меня в учительское общежитие, которое состояло из комнаток, перегороженных фанерой. Дом ушел в землю, под полом весной и осенью квакают лягушки, стены настолько сырые, что по ним ползают мокрицы. Вот в одной из таких комнатушек, в угловой, сырой и холодной, я живу в течение 20 лет. На руках больной сын, маленькая внучка и безработная невестка. Обращалась во все органы, но все бесполезно. Помогите мне в этом» [РГАНИ. Ф.5. Оп.30. Д.186. Л.168]. Трудно поверить, что так могло быть, но так было.
По сведениям заместителя министра просвещения РСФСР Л.В. Дубровиной, в 1956/57 учебном году в школах РСФСР работало 830 тыс. учителей, в том числе в городских школах – 308 тыс., в сельских школах – 522 тысячи. В каждом городе насчитывались сотни учителей, отнесенных к категории «особо нуждающихся». Министерство просвещения РСФСР неоднократно поднимало вопрос о жилищном строительстве для учителей, но государство на эти цели органам народного образования капиталовложений не выделяло [РГАСПИ. Ф.556. Оп.16. Д.18. Л.12–14]. Отсутствие в достаточном количестве квартир для учителей приводило к большой текучести кадров.
В советском обществе привыкли к мысли, что учителей всегда не хватает. Быстрое увеличение численности учащихся начальных и семилетних школ, а потом и школ-десятилеток обусловливало постоянно растущую потребность в учительских кадрах. Однако смертоносная война и порожденная ею «демографическая яма» разрушили устоявшиеся представления и заставили говорить об избытке учителей. В 1950-е годы школьная безработица стала острейшей социальной проблемой для советской системы образования.
В основе значительного избытка учителей в Российской Федерации лежало резкое сокращение детских школьных контингентов вследствие уменьшения рождаемости в годы Великой Отечественной войны. В декабре 195 1 г. Министерство просвещения РСФСР представило Совету министров РСФСР доклад, в котором определялись масштабы ожидаемого сокращения количества детей школьного возраста и предполагаемый избыток учителей.
В докладе указывалось, что сокращение учащихся по I–IV классам, начавшееся в 1949 г., продлится до 1954 г., по V–VII классам основное сокращение произойдет в 1954–1958 гг., и по VIII–X классам – в 1957–1961 гг. В соответствии с этими расчетами прогнозировался избыток учителей по начальным классам в количестве 131 218 человек, по V–VII – 33 645, по VIII–X – 26 825 человек, то есть в общей сложности предполагалось сократить около 200 тыс. учительских ставок, а преподавателей, соответственно, уволить [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.80–81].
Небольшую часть освобождаемых учителей планировалось использовать на учительской работе в классах более высокого уровня и в различных учреждениях народного образования, а остальных предполагалось трудоустроить в народном хозяйстве. Однако никаких конкретных мер по трудоустройству увольняемых учителей министерские чиновники не предлагали, что впоследствии им было поставлено в вину. Министерство просвещения РСФСР предупреждало правительство республики, что в случае непринятия действенных мер значительный избыток учителей может вызвать безработицу учительских кадров.
Последующие годы показали, что основные расчеты Министерства просвещения оказались верными, однако они не были в должной мере приняты во внимание Советом министров РСФСР. Кроме того, ни Министерство просвещения РСФСР, ни Совет министров РСФСР не представили в ЦК КПСС ни одного доклада по этому вопросу, что противоречило сложившемуся порядку рассмотрения народно-хозяйственных задач и вызвало серьезные нарекания со стороны Отдела школ ЦК КПСС. На практике исключительно тяжелое положение с использованием педагогических кадров и трудоустройством освобождаемых учителей осложнилось некоторыми не учтенными ранее обстоятельствами, а также серьезными ошибками и просчетами Министерства просвещения РСФСР.
Пытаясь сделать процесс увольнения учителей менее болезненным, Совет министров СССР принял 24 февраля 1951 г. решение, по которому сокращенным учителям с педагогическим образованием в интересах сохранения их в дальнейшем для работы в школе по специальности оставляли на период их временной работы вне системы народного образования все учительские льготы. Однако по прошествии этого льготного периода, который был установлен по 1953/54 учебный год включительно, выяснилось, что Министерство просвещения не имеет возможности возвратить этих учителей на школьную работу. В середине 1950-х годов свыше 150 тыс. учителей начальных классов, имевших педагогическое образование, работали не по специальности, из них не менее 50 тыс. человек активно добивались возврата на педагогическую работу.
Значительную часть учителей младших классов Министерство просвещения РСФСР использовало на работе в V–VII классах, где в начале 1950-х годов ощущалась острая нехватка преподавателей. За весь период сокращения учителей начальной школы (1949–1953 гг.) было перемещено на работу в V–VII классы 97 тыс. учителей I–IV классов, а около 30 тыс. педагогов семилетних школ перешли на работу в VIII–X классы. Такое передвижение учительских кадров из младших в старшие классы, с одной стороны, в немалой степени понижало образовательный уровень преподавателей старших классов, с другой стороны, позволяло руководству органов народного образования избегать конфликтов с учителями.
Эта мера рассматривалась как временная и вынужденная. Министерство просвещения рассчитывало, что в 1954–1958 гг., когда начнется полоса резкого сокращения V–VII классов и будет нарастать избыток преподавателей семилетних школ, можно будет произвести «обратную передвижку». С учетом этого обстоятельства и строились все балансы кадров и планы подготовки новых педагогов. Однако перемещение учителей, не имеющих соответствующего образования, из старших классов в начальную школу натолкнулось на существенную преграду правового характера. По советскому законодательству перевод учителя из одних классов школы в другие был возможен только при наличии согласия самого работника, однако получить такое согласие при переводе из старших классов в младшие практически никогда не удавалось.
Ошибка Министерства просвещения РСФСР заключалась в том, что оно не поставило своевременно вопрос перед директивными органами об определении порядка возвращения в начальную школу тех учителей V–VII классов, которые не имели соответствующего образования и были временно взяты на работу в семилетнюю школу. Для урегулирования таких случаев требовалось как минимум решение правительства. Судебные органы, куда обращались «потерпевшие», как правило, отменяли приказы о переводах, не подкрепленных согласием учителя, ибо они исходили из указания Верховного суда СССР о том, что отсутствие диплома об образовании не является само по себе основанием для освобождения работника от занимаемой должности.
В результате этого на работе в школе оставалось около 150 тыс. педагогов V–X классов без соответствующего образования, в том числе более 90 тыс. бывших учителей начальных классов. При этом многие опытные и имеющие необходимое образование преподаватели, если сокращались их классы, освобождались от работы в школе и были вынуждены искать другую работу. Анализируя сложившуюся ситуацию, министр просвещения РСФСР И.А. Каиров пришел к однозначному выводу, что «имеющийся состав учителей по образованию не может быть признан удовлетворительным» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.56].
Отсутствие согласованности в действиях органов народного образования приводило к нелепым ситуациям. Так, в 1954/55 учебном году насчитывалось 5 917 безработных выпускников педучилищ, а в это же время на работу в школы было принято 4 948 новых учителей без образования и звания «учитель начальной школы». 400 выпускников факультетов иностранных языков не могли устроиться на работу по специальности, а 872 новых преподавателя иностранных языков без знаний и образования были прияты на работу в VIII–X классы средних школ Российской Федерации. Комментируя эти факты, заведующий Отделом школ Н.Д. Казьмин сообщал в ЦК партии: «Растет число преподавателей без высшего образования, а с высшим сидят без работы» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.84].
Несовершенство практики планирования подготовки педагогических кадров, а также отсутствие в СССР специальных структур, призванных заниматься трудоустройством граждан, лишившихся работы, усугубляли ситуацию с безработицей учителей. Руководство системы образования не сразу осознало, что в новой демографической обстановке подготовка кадров по принципу «чем больше, тем лучше» может обернуться серьезными социальными проблемами. Вместо того чтобы резко сократить прием в педагогические училища, Министерство просвещения продолжало осуществлять подготовку учительских кадров в прежнем объеме, в результате чего в 1950–1955 гг. было выпущено до 80 тыс. невостребованных учителей начальных школ. На их подготовку ежегодно затрачивались значительные суммы государственных средств. Персональная ответственность за перепроизводство педагогических кадров лежала на заместителе министра, начальнике Главного управления подготовки учителей А.М. Арсеньеве.
С середины 1950-х годов начала снижаться потребность в учителях семилетних школ. Только за два учебных года (с 1955 по 1957 г.) в школах РСФСР сократилось 93,3 тыс. ставок учителей V–VII классов, а учительские институты по-прежнему выпускали ежегодно 26–28 тыс. молодых педагогов [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.152]. Потребность в учителях семилетних и средних школ еще более сокращалась вследствие плохого выполнения народнохозяйственных планов по всеобучу.
Огромный отсев учащихся и второгодничество вели к тому, что планы по комплектованию классов не выполнялись. Например, в 1954/55 учебном году по плану полагалось иметь 323,9 тыс. V–X классов, а фактически их имелось только 310,6 тыс. Это сократило потребность в учителях еще на 20 тыс. человек. Изменение учебных планов, уменьшение числа недельных часов в V–X классах по ряду предметов, отмена преподавания некоторых предметов (например, логики, психологии и др.) вызвали дополнительное сокращение потребности в учителях на 30 тыс. человек [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.53].
Школьная безработица проявлялась больше всего в снижении учебной нагрузки учителей. Оправдываясь перед ЦК за допущенные промахи, Каиров писал, что «иногда учителя из чувства солидарности делят одну ставку на двоих учителей» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.55]. Однако это было не так. Сокращение учебной нагрузки преподавателей происходило не из чувства товарищества, но под давлением руководителей образовательных учреждений, которые видели в этом единственную возможность трудоустройства учителей.
Массовое снижение учебной нагрузки привело к понижению заработной платы у значительного числа школьных работников и, соответственно, к ухудшению их материально-бытового положения. По данным начальника Планово-финансового управления Министерства просвещения РСФСР И.С. Кузнецова, средняя заработная плата учителя V–X классов в РСФСР в 1955 г. по сравнению с 1950 г. снизилась по селу на 10%, а по городу на 11%. И это на фоне общего подъема материального уровня. Более 20% учителей не зарабатывали даже половины тарифной ставки, то есть получали меньше школьной уборщицы. В своем донесении секретарю ЦК КПСС А.Б. Аристову от 8 января 1957 г. Кузнецов приводил выдержки из многих учительских писем, которые адресовались, как правило, высшему руководству страны, но их копии в обязательном порядке направлялись в министерство.
Учительница Власова из Ростовской области писала К.Е. Ворошилову: «Заработная плата в течение трех лет мала… Нагрузка 11 часов в неделю… больной дочери не могу купить молока^ Разве сытый голодного разумеет? Учительство переживает трудные годы. Мы в мирное время голодаем. У меня не хватает даже денег на хлеб, 2 года не знаю, что такое мясо. Такая обстановка заставляет бросить педработу, уйти на другую, как у нас многие учителя сделали, но я проработала 20 лет и не могу расстаться со школой. В школе забываю все свое горе» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.99].
Для учителей предпенсионного возраста потери в заработной плате грозили обернуться потерями части будущей пенсии. «Учителя, работавшие в дореволюционной школе, - писал в донесении Кузнецов, — высказывают недовольство тем, что из-за снижения нагрузки они лишаются возможности иметь пенсию, обеспечивающую их старость. При этом говорится, что даже царское министерство не допускало того, чтобы уменьшалась зарплата учителей ниже нормы в последние годы службы в предупреждение неблагоприятного отражения на пенсии. И в тех случаях, когда учитель давал число уроков меньше нормы, в дореволюционное время у него не производился вычет за недостающие уроки, а зарплата выдавалась полностью. Учителя средней школы имели рабочее время 12 часов в неделю, а не 18 часов, как теперь. Таких жалоб и писем немало» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 18. Д. 66. Л. 102].
В числе первых, кого администрация пыталась уволить из школы, были учителя-пенсионеры, получавшие скромные пенсии за выслугу лет. Такой подход они считали неправильным и несправедливым. Так, учитель-пенсионер из Костромы писал в ЦК партии: «Указания об устройстве на другую работу — пустой звук. Очевидно, вина здесь министерства, что без учета готовят педагогические кадры. Так почему же именно учитель-пенсионер должен расплачиваться за это? Отдать силы, здоровье, всю жизнь и быть выброшенным с работы, хотя справляешься с ней лучше и честнее многих молодых, разве не обидно? Разве не ясны те ужасы существования, на которые обрекается этими сокращениями учитель при нынешних размерах пенсии и дороговизной жизни, особенно в сельской местности? Так где же справедливость? Где же забота о самом ценном материале – о человеке?» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.87].
О положении в обществе школьного учителя, о падении его престижа, об отношении к нему населения, об ответственности министерских руководителей за перепроизводство учителей, о последствиях безработицы писали в своих письмах, обращениях, жалобах, заявлениях многие педагогические работники.
От сокращения учебной нагрузки страдали не только учителя, но и руководители школ. Согласно штатному расписанию, директора и завучи имели учебную нагрузку в размере 12 часов в неделю, что составляло две трети тарифной ставки учителя. С 1955 г. Министерство просвещения РСФСР сократило нагрузку директорам и завучам до 4–6 часов в неделю, что привело к снижению их заработной платы на 3-4 тыс. рублей в год.
Нередко распределение уроков между учителем и руководителем школы приводило к конфликтным ситуациям. В августе 1956 г. в Министерство просвещения РСФСР обратился с просьбой помочь разрешить конфликт с директором школы учитель истории средней школы рабочей молодежи С.Д. Павлов из Ленинградской области. В своем заявлении Павлов писал: «Прошу помочь мне получить работу в школе. Директор школы, по профессии учитель истории, оставляет меня на предстоящий 1956/57 учебный год с неполной нагрузкой – одиннадцать часов истории в неделю, – забрав себе вместе с консультациями семь уроков в неделю истории. Свои действия директор оправдывает тем, что Всеволожский районный отдел народного образования, назначая его на должность директора школы, обещал ему часовую нагрузку за счет учителя. Прикрываясь согласием районного отдела, директор и отбирает у меня уроки.
Итак, я снова с семьей обречен на полуголодное существование. Тяжела доля учителя в наше время. В 1955 году я был шесть месяцев безработным, о чем я вам писал неоднократно, а в 1956 году меня снова ожидает безработица, так я не уверен в том, что и эти часы будут сохранены за мною к концу года. Пожалуйста, напишите мне, прав ли директор школы, забирая уроки у меня и оставляя меня с неполной нагрузкой» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.148].
В 1956/57 учебном году 50,5% учителей имели нагрузку ниже минимальной тарифной ставки. В Министерство просвещения РСФСР, в ЦК профсоюза работников начальной и средней школы, в высшие советские и партийные инстанции поступало огромное количество жалоб от нетрудоустроенных учителей. Подавляющее большинство заявителей демонстрировали, как правило, патерналистскую модель поведения, что было вполне объяснимо, поскольку советское государство в изучаемый период выступало гарантом социальной защиты населения, финансировало основную часть расходов в социальной сфере, в том числе и в области просвещения.
Группа учителей из Саратовской области писала Н.С. Хрущеву: «Все трудные и ответственные задачи выполняем. В то же время забота о нас, учителях, недостаточная. Многие учителя совсем уволены с работы, а многие оставшиеся имеют от 4 до 12 часов и получают зарплату 150–400 руб. в месяц. Таких много, семьи их терпят большие материальные лишения, дети их не обеспечены обувью и одеждой, да и сами ходят на работу одетыми хуже своих учеников, так как купить одежду не на что. Мы очень просим помочь нам» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.100].
Аналогичное письмо на имя Первого секретаря ЦК КПСС поступило в сентябре 1956 г. от группы женщин-учителей Московской области:
«Дорогой Никита Сергеевич!
К Вам обращается за советом и помощью группа учителей Московской области. Мы находимся в очень трудных материальных условиях. Редкий из нас имеет ставку, многие имеют 6—8—9—12 уроков в неделю. В таких условиях мы уже год работали, а перспектив на ближайшие 3-4 года в 5-10 кл. никаких нет. У нас семьи, многие женщины воспитывают детей одни, т.к. мужья погибли на фронте. Учитель должен быть примером не только в поведении, но и в одежде, учитель должен расти культурно, должен идти в ногу с временем. Поверьте: очень трудно растянуть три-четыре сотни на питание, одежду, литературу, театр и кино не только семейному, но и одинокому. А все это необходимо учителю. Что бы мы ни делали, о чем бы ни говорили, а вопрос материальный господствует над всем остальным в эти трудные для нас годы.
Дорогой Никита Сергеевич!
Если бы это был вопрос только одного года, мы, пережившие лишения войны, постарались бы не заметить всего. Но вся беда в том, что это трудное время исчисляется тремя-четырьмя годами. Поменять же профессию после того, когда отдано детям 15–20 лет своей жизни, очень тяжело. Скажите, дорогой Никита Сергеевич, как же нам быть?» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.149].
Патерналистский подход к решению проблемы исключал возможность возникновения массовых беспорядков и публичных проявлений недовольства. Ни малейшего протеста, никаких угроз забастовкой, ни гнева, ни возмущения, только жалобы, просьбы и риторические вопросы – таков тон большинства учительских писем «во власть». Между тем обстановка в школьной среде была весьма напряженной, о чем свидетельствовали все те же письма преподавателей. Так, учитель А.Ф. Медведев из Рязанской области писал на имя Председателя Совета министров СССР Н.А. Булганина: «Учителей перепроизводство. С каждым годом нагрузки становятся все меньше. Зарплата уменьшается. Границ падения зарплаты нет. Уже сейчас некоторые учителя имеют по 8-9 недельных часов и будут получать 250 руб. в месяц. На эти деньги трудно жить, особенно семейным. Невозможно прилично одеться. Я уж не говорю о питании. Нужно дать учителю какой-то гарантированный минимум. Отсутствие часов приводит к скандалам внутри коллективов учителей. Зав. РОНО унижает учителей, кричит на них, грозит лишить работы. Учителя в страхе молчат, так как работу найти невозможно. Произвол достиг нетерпимых размеров. В этом году нам не обещают дров. Мы молчим. Говорить боимся. Очень прошу не посылать в наше РОНО для принятия мер» [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.150].
Руководство Министерства просвещения РСФСР объясняло бедственное положение учителей «неизбежными последствиями войны». Однако далеко не все работники органов народного образования разделяли эту точку зрения. По мнению И.С. Кузнецова, в основе учительских тягот лежала «политически ошибочная практика отношения к материальному положению учителей ». «Сложившееся положение с материальными и бытовыми условиями учителей, их настроения, недовольства мне представляются вопросами большой политической значимости. Поднятые вопросы заслуживают рассмотрения в ЦК партии», – убежденно доказывал Кузнецов секретарю ЦК КПСС А.Б. Аристову [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.99]. Однако, судя по реакции высших партийных и государственных органов, можно утверждать, что в тот период учительство не было в фаворе у советского руководства.
Тем не менее нельзя сказать, что неблагополучное положение российских учителей оставалось без внимания со стороны высшего руководства республики. Для установления причин сложившейся ситуации была создана правительственная комиссия, по результатам работы которой Совет министров РСФСР 10 июля 1956 г. принял постановление о серьезных ошибках и недостатках в деле планирования подготовки и использования учительских кадров. Однако вопросов заработной платы это постановление не решило. Был снят с занимаемой должности министр просвещения РСФСР И.А. Каиров, на его место назначили Е.И. Афанасенко. Наказание понесли некоторые должностные лица, допустившие отмеченные в постановлении ошибки, в частности заместители министра просвещения РСФСР А.М. Арсеньев и П.В. Зимин, заместитель председателя Госплана РСФСР Гармонов [РГАНИ. Ф.5. Оп.18. Д.66. Л.153].
С целью улучшения ситуации в общеобразовательной системе по инициативе Министерства просвещения РСФСР был введен пятилетний срок обучения в педагогических институтах, а учителей стали готовить как специалистов широкого профиля, например, как преподавателей физики, математики и черчения или преподавателей русского языка, литературы и истории. Учительские институты были ликвидированы. Местные руководители провели также ряд конкретных мероприятий. Например, в начальных и средних школах были введены должности запасных учителей по математике, физике, русскому языку и литературе, которые замещали в случае необходимости временно отсутствующих учителей. Должно- сти запасных учителей вводились частично за счет средств социального страхования в городских и сельских школах с расчетом 3-4 учителя на район. Это мероприятие обеспечило работой более 30 тыс. учителей, что позволило несколько смягчить безработицу [ГА РФ. Ф.2306. Оп.72. Д.5150. Л.118].
Материальное положение учителей в значительной мере зависело и от них самих, точнее, от их уровня образования, который хотя и повысился по сравнению с 1950 годом, но по-прежнему оставался довольно низким. В преддверии школьной реформы 1958 г. ЦСУ РСФСР по заданию ЦК КПСС осуществило подробную разработку статистических данных об образовательном уровне учителей школ Министерства просвещения РСФСР. В докладной записке начальника ЦСУ РСФСР Б.Т. Колпакова на имя секретаря ЦК КПСС П.Н. Поспелова отмечалось, что «в свете новых требований в школе, когда практически ставится задача укомплектования педагогическим персоналом с высшим образованием не только старших, но и I–IV классов, существующие темпы повышения образовательного уровня учителей школ являются еще медленными» [РГАСПИ. Ф.556. Оп.16. Д.35. Л.77].
На начало 1957/58 учебного года число учителей с высшим образованием составляло 26%. В 1950 г. этот уровень был равен 14%. В течение прошедших семи лет ежегодный прирост преподавателей с высшим образованием составлял в среднем 15 тыс. человек. Если учесть, что в 1958 г. среди учителей, директоров и завучей школ насчитывалось 600 тыс. человек, не имевших высшего образования, то станет понятным, что при сохранении в будущем указанного выше среднегодового прироста Министерству просвещения потребовался бы очень длительный срок для укомплектования всех школ педагогическими работниками с высшим образованием.
Пополнение школ учителями с высшим образованием могло бы идти более высокими темпами, если бы удалось уменьшить масштабы такого явления, как «уход из профессии». Из школ уходили, как правило, педагогические работники с высшим образованием, в том числе выпускники педвузов. За семь лет (1950– 1957) педагогические вузы Министерства просвещения РСФСР выпустили 218 тыс. специалистов-педагогов, число же преподавателей с высшим образованием в школах, техникумах и других учебных заведениях министерства за этот же период времени увеличилось на 110 тыс. человек.
При определении числа специалистов с высшим образованием, оставивших работу в учреждениях Министерства просвещения РСФСР, следует учитывать, что часть из них перешла на педагогическую работу в другие союзные республики, а также в школы Министерства путей сообщения СССР. Число таких специалистов-педагогов составило за семь лет около 32 тыс. человек. Часть учителей выбыла из школы по естественным причинам (смерть или выход на пенсию по старости). За семь лет таковых специалистов оказалось также приблизительно 32 тыс. человек. Таким образом, чистый «уход из профессии» учителей с высшим образованием и выпускников педвузов составил с 1950 по 1957 г. 44 тыс. человек, или 40 % всего прироста учителей с высшим образованием в учебных заведениях министерства за эти годы [РГАСПИ. Ф.556. Оп.16. Д.35. Л.77].
Начавшийся в первой половине 1950-х годов уход учителей из школ усилился в последующие годы. В 1963 г. в РСФСР на непедагогических видах труда (промышленность, общественное питание, торговля и другие) работало 230 тыс. учителей, в том числе 122 тыс. с высшим педагогическим образованием. При этом в школах республики не хватало в тот период более 50 тыс. учителей [РГАНИ. Ф.2. Оп.1. Д.627. Л.19].
Определенные негативные изменения наблюдались и в качественном составе учителей. О них с горечью говорил заведующий Владимирским областным отделом народного образования Г.И. Чернов, выступавший в июне 1967 г. на республиканском совещании руководящих работников системы просвещения: «За последние годы мы очень испортили наши учительские кадры, так как пришло много людей случайных, недоученных, много людей, которым некуда было деваться, и они стали учителями. Конечно, эти учителя не могут обеспечить высокого качества обучения <…> В связи с этим я выдвигаю такое предложение – пора в областях создать аттестационные комиссии…» [ГА РФ. Ф.2306. Оп.76. Д.1287. Л.118].
Вопрос о необходимости проведения аттестации педагогических кадров с целью освобождения от работы в школе учителей, не отвечающих по своим деловым и профессиональным качествам квалификационным требованиям, ставился и обсуждался на всех уровнях с середины 1950-х годов. В опубликованных в ноябре 1958 г. Тезисах ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране» предусматривалась только аттестация учителей, не имеющих необходимого образования. О какой-либо проверке деловой квалификации педагогических кадров речь в тезисах не шла.
Советская образовательная система действительно нуждалась в коренном улучшении кадрового состава учителей, но вряд ли эту проблему могла решить аттестация. Введение аттестации требовало в первую очередь внимания к учителю и его труду, постоянного проявления заботы о повышении его квалификации и педагогического мастерства. Предпринятая Хрущевым перестройка системы народного образования не была нацелена на повышение роли и авторитета учителя, поэтому и вопрос о введении аттестации долгое время оставался открытым.
Выводы. Реализация реформы 1958 г. привела на практике ко многим отрицательным социально-педагогическим последствиям [22]. Вместе с тем преобразования, осуществленные в образовательной сфере под влиянием реформы, имели и некоторые положительные стороны. Прежде всего, реформа привлекла внимание общества к школе, к ее проблемам, радостям и заботам, внесла творческую активность в среду учителей, возвысила труд педагогов в глазах населения, улучшила их социальное самочувствие. Перестройка системы образования раскрепостила школу, дала простор инициативе и творчеству, что помогло ей вписаться в общую атмосферу «оттепели» и способствовало зарождению множества педагогических начинаний с большим будущим. Со второй половины 1960-х годов началось улучшение материального положения учителей. В 1965 и 1972 гг. в соответствии с правительственной социальной программой были заметно повышены ставки и оклады заработной платы учителей, а о безработице к тому времени уже никто и не вспоминал. Спрос молодежи на образование способствовал повышению престижа профессии учителя.
Список литературы Подготовка педагогических кадров и материальное положение учителей в РСФСР в 1950-1960-е годы
- Рябов Л.П. Сравнительный анализ систем высшего образования России и зарубежных стран. – М., 2005.
- Калинникова Н. Г. Педагогическое образование в России: уроки истории // Вопросы образования. – 2005. – № 4. – С. 304–318.
- Андреев А.Л. Российское образование: социально-исторические контексты. – М., 2008.
- Андреев А.Л. К характеристике социально-исторического опыта России как «общества образования» // Высшее образование в России. – 2011. – № 12. – С. 95– 105.
- Конохова А.С. «Об укреплении связи высшей школы с жизнью» (реформа системы высшего образования СССР в 1958 г.) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2015. – Т. 4. – № 1. – С. 126–134.
- Сулейманова Р.Н., Исянгулов Ш.Н. Высшая школа в Башкирской АССР в 1950–1980-е годы // Научный диалог. – 2021. – № 5. – С. 445–461. – DOI: 10.24224/2227-1295-2021-5-445-461
- Петрик В.В. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру в высших учебных заведениях Сибири. 1958–1991 гг. (К истории вопроса) // Известия Томского политехнического университета. – 2005. – Т. 308. – № 2. – С. 187–194.
- Волошина О.Б. Формирование заочного педагогического образования и его влияние на подготовку кадров // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Психолого-педагогические науки. – 2012. – № 1 (17). – С. 20–24.
- Дьячин А.С., Кисельников А.Б. Изменения в системе подготовки педагогических кадров в СССР в 50-х – начале 60-х годов XX века // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2019. – Т. 4. – Вып. 4. – C. 47–51.
- Петрик В.В. Высшая школа Сибири в конце 50-х – начале 90-х годов XX века. – Томск, 2006.
- Дягилева Т.П. Проблема кадрового обеспечения системы среднего образования в период школьной реформы 1958–1964 гг. (на материалах Костромской области) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 5–1. – С. 70–73.
- Макарова И.Н. Проблемы развития высшего образования в Среднем Поволжье в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. // Общество: философия, история, культура. – 2015. – № 6. – С. 125–127.
- Алмаев Р.З. Набор студенческого контингента педагогических вузов Южного Урала в условиях реализации школьной реформы 1958 года // Преподаватель XXI век. – 2021. – № 3. – Ч. 2. – С. 267–280. DOI: 10.31862/2073-9613-2021-3-267-280
- Захожая Т.М. Высшее историческое образование и общественно-политическая ситуация в СССР конце 1950 – начале 1960 гг. // Историко-педагогические чтения. – 2003. – № 7. – С. 324–328.
- Конохова А.С. Колеблясь вместе с линией партии: изменения в преподавании общественных наук в вузах СССР в 1953–1964 гг. // Новейшая история России. – 2014. – № 2 (10). – С. 64–72.
- Петрик В.В. Из истории развития высшего вечернего и заочного образования (конец 50-х – начало 90-х гг. ХХ в.) // Известия Томского политехнического университета. – 2005. – Т. 308. – № 4. – С. 212–216.
- Иванова Г.М. Советская школа в 1950–1960-е годы. – М., 2018.
- Ведомости Верховного Совета СССР. 1948. № 7.
- Ведомости Верховного Совета СССР. 1958. № 4. Ст. 87.
- Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: Сб. док. 1917–1973 гг. – М., 1974.
- Оболенская С.В. Дети Большого террора. Воспоминания. – М., 2013.
- Иванова Г.М. Образовательная реформа 1958 года и общественные дискуссии о путях развития высшей школы в СССР // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2023. – Т. 15. – № 1. – С. 55-75. DOI: 10.17748/2219-6048-2023-2023-15-1-55-75