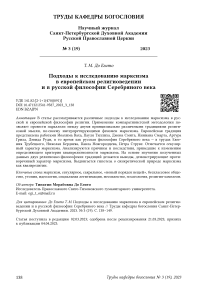Подходы к исследованию марксизма в европейском религиоведении и в русской философии Серебряного века
Автор: До Егито Т.М.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия религии и религиоведение
Статья в выпуске: 3 (19), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные подходы к исследованию марксизма в русской и европейской философии религии. Применение компаративистской методологии позволяет провести параллели между двумя принципиально различными традициями религиозной мысли, по-своему интерпретирующими феномен марксизма. Европейская традиция представлена работами Иоахима Ваха, Пауля Тиллиха, Джона Смита, Ниниана Смарта, Артура Грила, Дэвида Руди, в то время как русская философия Серебряного века - в трудах Евгения Трубецкого, Николая Бердяева, Павла Новгородцева, Петра Струве. Отмечается секулярный характер марксизма. Анализируются причины и последствия, приведшие к изменению определяющего критерия квазирелигиозности марксизма. На основе изучения полученных данных двух религиозно-философских традиций делаются выводы, демонстрирующие противоречивый характер марксизма. Выдвигается гипотеза о синкретической природе марксизма как квазирелигии.
Марксизм, секулярное, сакральное, «новый порядок вещей», бесклассовое общество, утопия, идеология, социальная легитимация, мессианство, эсхатология, религия-хамелеон
Короткий адрес: https://sciup.org/140301591
IDR: 140301591 | УДК: 141.82:[2-1+1(470)(091)] | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_3_138
Текст научной статьи Подходы к исследованию марксизма в европейском религиоведении и в русской философии Серебряного века
About the author: Tinatin Merabovna Do Egito
Researcher at the Saint Tikhon Orthodox University for Humanities.
The article was submitted 02.03.2023; approved after reviewing 21.03.2023; accepted for publication 04.04.2023.
Задаваясь вопросом о статусе марксизма, многие ученые как на Западе, так и в России неоднократно отмечали присущий ему квазирелигиозный характер. Полемика вокруг религиозных основ марксизма привела к необходимости более четкого разграничения религии от секулярных явлений, находящихся по другую сторону от нее. Религиовед Ксения Колкунова считает «важнейшим вопросом для теории и методологии религиоведения — проведение границы между религиозным и нерелигиозным»1.
В связи с этим встает вопрос о том, какое место занимает проблематика квазирелигий в классическом и современном религиоведении? В данной статье марксизм рассматривается в контексте многообразия концепций квазирелигиозности, начиная от классиков европейского религиоведения Йоахима Ваха и Пауля Тиллиха до современных авторов Джона Смита, Ниниана Смарта, Артура Грила и Дэвида Руди. Кроме того, отечественная религиозная традиция представлена философским анализом марксизма в работах мыслителей Серебряного века Евгения Трубецкого, Николая Бердяева, Павла Новгородцева, Петра Струве и др.
К анализу марксизма применяются два основных подхода: феноменологический (теологический) и социологический. Высказывается гипотеза о синкретическом, гибридном характере марксизма как квазирелигии.
Протестантские теологи Йоахим Вах (1898–1955) и Пауль Тиллих (1886– 1965) относятся к родоначальникам дискуссии о квазирелигиях. Оба ученых принадлежат к традиции феноменологии религии: для Ваха, последователя идей Рудольфа Отто, Макса Шелера, Уильяма Джеймса, основополагающим было понятие религиозного опыта, тогда как для Тиллиха — веры. Характерно, что прежде чем приступить к существу вопроса, они приводят оригинальные дефиниции традиционной религии. Вах определяет религию как состояние предельного соприкосновения с высшей реальностью (ultimate reality). Развивая эту мысль, Тиллих констатирует, что в результате подобного переживания человек обретает смысл жизни. Вопрос экспликации сущности религии не является формальным, он фундирован поиском предельного интереса (ultimate concern), который становится для Тиллиха основным критерием различения религиозного / нерелигиозного. Так, отличительной особенностью квазирелигий Тиллих считает возведение ряда светских понятий в степень высшей реальности. Эта же мысль звучит у Ваха следующим образом: в квазирелигиях «человек соотносит себя не с предельной, но с некой конечной реальностью»2. Оба автора отмечают секулярный характер квазирелигий. По мнению Тиллиха, именно секуляризм заложил основы квазирелигий, которые превратились в «альтернативу старым традициям» («an alternative to the old traditions»)3.
Несмотря на общую близость позиций, они расходятся в понятийном аппарате. Чем отличается «псевдорелигия» (pseudo-religion) Ваха от «квазирелигии» (quasi-religion) Тиллиха? В первом случае термин раскрывается как обманчивое сходство «deceptive similarity», тогда как во втором — как истинное подобие «genuine similarity».
Необходимо отметить, что основной интенцией для дискурса о религио-подобных явлениях Тиллих считает глобальную угрозу, исходящую от квазирелигий в отношении «собственно религии» («proper religion»). Это обнажает «теологический подход», лежащий в основе исследований квазирелигий, который, в частности, констатирует религиовед Ольга Михельсон4. Кроме того, это свидетельствует о том, что на начальном этапе исследований квазирелигии воспринимались как некое отклонение от нормы — временное историческое явление в рамках традиционной конфессиональной (преимущественно христианской) парадигмы.
Как отмечалось ранее, в рамках теологического подхода к изучению марксизма Вах и Тиллих придерживаются разных установок, в первом случае — с акцентом на религиозном опыте, во втором — веры. В сочинении Тиллиха, посвященном вопросам исповедания, есть глава «Вера и динамика Священного», в которой он, ссылаясь на работу Отто, вслед за ним отмечает амбивалентную природу Священного: mysterium fascinans et tremendum, что характерно для любой религии, ибо указанные свой ства — суть проявления «предельного интереса». По мнению Тиллиха, Священное может манифестировать себя двой ственным образом: как созидательное и как разрушительное начало, что в его концепции соответствует двум типам веры: истинной и «идолопоклоннической». Тиллих причисляет марксизм к демоническому типу Священного, со свой ственной ему «идолопоклоннической верой», что дает право сделать вывод о том, что «у религии и квазирелигии есть общее основание — опыт святого, в котором квазирелигии акцентируют демонически- разрушительную сторону»5.
К числу псевдорелигий Вах относит: марксизм, биологизм, популизм (расизм), этатизм. Комментируя классификацию Ваха, российский религиовед Андрей Забияко выделяет присущее марксизму своеобразие: «его (марксизма. — Т. Д. ) хилиазм и экономическая теория имеют явное сходство с религией; коммунизм трансцендирует материалистическое мировоззрение, облекая его в священные книги, догматы, ритуалы»6. Тиллих выделяет характерные для квазирелигий феномены, наделяемые статусом высшего интереса: народ, науку, некоторую форму социума, высший социальный идеал. Вах и Тиллих классифицируют марксизм соответственно как псевдо- и квазирелигию. Отмечая его характерные черты, Вах делает особый акцент на отождествлении индивидов с коллективом, а также на его утопическом характере. Тиллих выделяет социальный принцип в качестве доминирующего, что в рамках марксистской эсхатологии проявилось в сакрализации бесклассового общества (classless).
«Здесь движущим религиозным элементом, выраженным посредством христианского символа конца света или секулярно- утопической идеи “бесклассового общества” как исторической цели, выступает ожидание “нового порядка вещей” (“a new state of things”). Этот квазирелигиозный элемент, характерный для любой формы социализма, особенно резко проявляется в революционный период его развития; в эпоху побед коммунизма он приводит к подчинению личностей требованиям неоколлективистской системы»7.
В качестве источников марксизма Тиллих указывает на ветхозаветный профетизм и иудейское законничество.
Тиллих определяет марксизм как «власть идеологии» (rule of an ideology), с помощью которой осуществляется сакрализация и общественное самоутверждение (communal self-affirmation), выраженные как посредством религиозных, так и секулярных символов. Таким образом, немецкий теолог отмечает присущую марксизму корреляцию между идеологией и социальной легитимацией.
Русская философия кон. ХIХ века — нач. ХХ вв. также обращается к осмыслению марксизма в границах религиозного дискурса, однако принципиально в иной плоскости по сравнению с западноевропейским религиоведением. Для традиции русской философии, онтологически связанной с метафизикой / постметафизикой, характерно смещение акцента с социальнополитических вопросов на духовные аспекты, в которых проявилось влияние марксизма. В длительных диспутах между славянофилами и западниками формируются различные версии концепции национального мессианизма, порою граничащие с миссианством. Так, Е. Н. Трубецкой полагал, что «русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении русского Христа, в более или менее тонкой русификации Евангелия»8. В романах Ф. М. Достоевского часто говорится об исключительной миссии русского народа, в частности, что он «на всей земле единственный народ- богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога»9. В некоторых тезисах отчетливо заметен наметившийся антагонизм между национальным и вселенским мессианством. По мнению С. Н. Булгакова, «нам, русским, ближе и доступнее именно наш русский Христос, Христос преп. Серафима и преп. Сергия, нежели Христос Бернарда Клервосского, или Екатерины Сиенской, или даже Франциска Ассизско-го»10. С. Л. Франк задается вопросом: «как и почему случилось, что народ […], прозванный народом- богоносцем, стал народом нигилистом?»11
Необходимо отметить, что революционная тема в русской культуре первой трети XX столетия осмыслялась в рамках эсхатологической и апокалиптиче-ской проблематики. Ощущая революционный настрой в обществе, Е. Н. Трубецкой предупреждал о том, что «в идее «русского Христа в одинаковой мере извращается и образ Христов и русская национальная идея. […] Увлечение Россией воображаемой помешало нам рассмотреть как следует Россию действительную и, что еще хуже, русскую национальную идею; духовный облик России хронически заслонялся фантастической грезой “народа- богоносца”»12. Трубецкой отмечает утопичность мессианских ожиданий, свой ственных русской культуре.
Как заключает Е. Н. Трубецкой, «эпоха пробуждения и подъема религиозного сознания является вместе с тем и критическим периодом религиозных искушений и неслыханных доселе соблазнов. Враждебные религии силы делают все возможное, чтобы для себя использовать новые источники воодушевления, навести туман на мысль, овладеть воображением и обмануть религиозное искание»13.
По мнению Н. А. Бердяева, появление русского марксизма было обусловлено глубоким кризисом в кругах русской интеллигенции, изменившим сами основы их мировоззрения. Русский путь с характерным для него поиском высшей истины проявился амбивалентным образом: в виде нигилизма и апо-калиптизма, что заложило основы «для смешений и подмен, для лжерели-гий»14. В то время как русский атеизм демонстрировал апокалиптические признаки, русскому нигилизму были присущи «лжерелигиозные черты»15. Бердяев усматривал в этом явлении свой ства « какой-то обратной религии»16.
Философ понимал марксизм прежде всего как «учение об избавлении, о мессианском призвании пролетариата, о грядущем совершенном обществе»17. Русский революционный социализм им мыслился как «царство Божие на земле», а русскую Революцию он причислял к «феноменам религиозного порядка», поскольку «она решает вопрос о Боге»18. По его мнению, пролетариат наследует «мессианские свой ства избранного народа Божьего, он новый Израиль. Это есть секуляризация древнееврейского мессианского сознания»19. Марксу принадлежит авторство мифа о пролетариате, согласно которому «миссия пролетариата есть предмет веры. Марксизм не есть только наука и политика, он есть также вера, религия. И на этом основана его сила»20. Русский марксизм нуждался в собственном мифе. С этой целью исконный миф о народе подвергся трансформации, превратившись в миф о пролетариате. В процессе этого мифотворчества произошло «отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом»21.
В сочинениях П. И. Новгородцева марксизм рассматривается в свете проблематики поиска общественного идеала. Он обращает внимание на существующее противоречие между философией земного рая, которую проповедует марксизм, и моральной философией прогресса с лежащим в ее основании нравственным требованием бесконечного совершенствования. По его мнению, находясь внутри рамок истории невозможно преодолеть извечный антагонизм между идеалом и действительностью. Не считаясь с этими соображениями, марксизм стремится достичь абсолютного общественного идеала посредством относительного исторического прогресса. «Мечту о совершенном земном устроении людей они (марксисты. — Т. Д.) ставят во главу угла, делают из нее своего рода религию; и проводят они эту мечту до конца, до последнего предела»22. Религиозные притязания марксизма, хотя и носят тотальный характер, изначально утопичны. По мнению Новгородцева, вероисповедный характер марксизма проявился в создании и внедрении религиозного идеала в качестве социальной модели. «В благодатном слиянии с обществом, в осуществлении совершенной общественности он (марксизм. — Т. Д.) обещает личности и полное и всецелое удовлетворение […] в этом абсолютном своем выражении социализм сам становится своего рода религией»23. Обожествление человеческого социума, придание ему статуса Абсолюта ведет к субституции традиционной религии марксизмом как радикальной религией. «…в воззрении Маркса социализм совершенно и всецело вытесняет религию. Он несет с собою человеку такую полноту обетований, что поистине можно сказать, он сам становится религией, и более того: как всякая единоспасающая вера, он вступает в непримиримую вражду с той другой религией, которую издавна исповедовали люди, — религией неба и Бога, религией трансцендентного мира и мироправительного разума»24.
Провозглашаемый Марксом общественный идеал включает также обетование об исключительной исторической роли и миссии пролетариата — класса, «…который спасет все человечество, спасет мир. Как в религиозных пророчествах и откровениях повторяется идея о народе-б огоносце, призванном быть “солью земли” и “светом миру”, так в социологических представлениях Маркса пролетариат выступает с теми же чертами класса- богоносца, с одним лишь различием, что нет тут веры в Бога трансцендентного, а есть уверенность в возможность божественного совершенства, имманентного миру и человеку»25.
Доказывая утопичность концепции общественного идеала Маркса, Новгородцев отмечает, что социологические представления о земном рае, по сути, соответствуют эсхатологическим мессианским учениям о грядущем «золотом веке», в результате чего переходят из области науки в сферу религии, превращаясь в предмет веры. «Вдумываясь в понятие абсолютно осуществленного идеала, мы должны сказать, что оно становится ясным лишь тогда, когда сочетается с верой в чудо всеобщего преображения»26. Очевидно, что именно этот процесс подразумевали Маркс и Энгельс, когда говорили о «прыжке из царства необходимости в царство свободы»27. По мнению Новгородцева, это указывает на широко распространенное представление, согласно которому полнота воплощения идеала достижима лишь в сверхисторическом масштабе.
Философское наследие П. Б. Струве включает обширную полемику с марксизмом. Мыслитель задается вопросом атрибуции марксизма.
Чем можно считать марксизм: религией или совершенно противоположным ей? Как сочетаются расхожие представления о марксизме как о религии с его антирелигиозностью и воинственностью по отношению к традиционной религии? Для определения марксизма Струве прибегает к образу чуждого и органически внеположенного религии, мотивируя это тем, что «религия в том смысле, в каком понимает ее человечество со времен христианства, опирается на идею ответственности человека за себя и за мир»28. Здесь, очевидно, подразумевается антиномия между личностью и обществом. Поскольку марксизм предстает неоколлективистской моделью общества, подавляющего свободу личности, отдельный индивид, не приученный к личной ответственности, не может проявить религиозное отношение к Богу и ближним. По мнению философа, религия есть тактический маневр, «средство развлечь и отвлечь внимание, усыпить волю обездоленных к действию и борьбе»29, тогда как в реальности «социализм есть враг религии и ее правопреемник»30.
И все-таки в определенном смысле Струве готов признать за марксизмом религиозный статус. «Социализм был религией. Он был верой в тысячелетнее царство, которое принципиально отличается от всей предшествующей истории […] Именно эта формальная религиозность, этот энтузиазм, прикреплявшийся к социализму, представлял себе, вопреки принципу эволюции, будущее общество не просто как усовершенствованное, или преобразованное, а как совершенное, или преображенное»31.
Наряду с этим Струве рассуждает о секуляризации социализма, предрекает ему скорую кончину в силу отсутствия у него «подлинного религиозного корня»32. В довершение ко всему сказанному Струве констатирует: «Марксизм создавал подобие религии и религиозности, давал человечеству суррогат и фальсификат. Это был не обман, а самообман»33.
Познакомившись с различными трактовками марксизма в русской философии конца ХIХ — начала ХХ вв., можно заключить, что анализ марксизма затронул многие извечные богословские темы (теодицея, образ Божий, преображение человека и др.), что наглядно демонстрирует теоцентричность исследовательской парадигмы. Идеи русского национального мессианизма в различных философских трактовках получили широкий социальный резонанс и прошли длительное обсуждение в общественном пространстве, прежде чем марксизм адаптировал их под свои задачи.
Следует определить также актуальные подходы к изучению квазирелигий. Современный британский философ и религиовед Ниниан Смарт (1927–2001) считал термин «квазирелигия» недостаточно точным для описания околоре-лигиозных феноменов. По его мнению, квазирелигия по сути тождественна идеологии. Поэтому вместо него он вводит более нейтральное понятие «мировоззрения» для описания как мировых религий, так и современных секулярных движений34. Наряду с ним Смарт пользуется терминами «религия», «секулярные идеологии», «традиции». Как таковая религия занимает неоднозначное положение в его концепции, то будучи частью мировоззрений, то совершенно обособляясь от них. Он затрудняется с атрибуцией «секулярных идеологий» как к классу религиозных, так и квазирелигиозных. Кульминацией генезиса религии на современном этапе ему видится возникновение универсальной идеологии, что свидетельствует о том, что в его представлении квазирелигии со временем вытеснят традиционные религии.
Современному американскому исследователю квазирелигий Джону Смиту (1921–2010) свойственна определенная эклектичность в оценке марксизма. Будучи последователем Тиллиха, Смит также мыслит квазирелигии в дихотомии собственно религий («the religious proper», «the recognized religions», «traditional religions», «established religions», «world religions» etc.) и отклонений от них. Он отрицательно высказывается о термине «псевдорелигия», отмечая возникающие в связи с ним коннотации подделки, что совершенно обесценивает обозначаемые им религиозные феномены. Смит прибегает к понятию «квазирелигия» как сугубо описательному, позволяющему классифицировать эти движения на основании структурного и функционального подобия. Британский религиовед часто ссылается на Тиллиха, заимствуя у него такие понятия как «вера», «преданность», «идолопоклонство», «предельный интерес» (заменяет на «предельную верность»). В то же время Смит адаптирует понятие «нуминозного» Отто и говорит о мировых религиях как о «выраженном человеком ответе священной реальности»35.
В отношении марксизма Смит отмечает, что в сконструированной им иллюзорной реальности возникает «искаженная картина человека, что приводит к его отчуждению (alienation)»36. Он подчеркивает, что высшая трансцендентная реальность, о которой свидетельствует религия, никак не может быть идентична конечной реальности, к которой апеллируют квазирелигии.
Отказываясь от ваховского понятия «псевдорелигии», но придерживаясь взятого Тиллихом курса на достижение «предельной верности», Смит обнаруживает пересечения сразу с несколькими классиками религиоведения. По сути, в лице Смита происходит синтез двух классических религиоведческих традиций — нуминозного (Отто, Вах) и веры (Тиллих).
Современные американские социологи религии Артур Грил (1949) и Дэвид Руди, представляющие иной, социологический подход к исследованию квазирелигий, указывают на аномальный статус квазирелигий. По их мнению, око-лорелигиозные феномены невозможно классифицировать ни как однозначно религиозные, ни как секулярные. На их взгляд, квазирелигии представляют собой «феномены, которые осознанно полагают себя на границе между сакральным и секулярным», отмечая современный характер этого явления37.
Таким образом, из рассмотренных выше концепций следует, что к исследованию марксизма как квазирелигии применяются два основных подхода: феноменологический (теологический) и социологический. К первому типу относится большинство рассмотренных исследователей, ко второму типу — американские социологи Грил и Руди. Русские философы, также как западноевропейские теологи и религиоведы, склонны рассматривать марксизм в модусе трех основных направлений: идеологии, социального конструирования, утопии, с особым акцентом на последнем. Все авторы отмечают принципиально имманентный и утопический характер учения Маркса, который проявляется в сакрализации бесклассового общества и в «ожидании нового порядка вещей». В оценке марксизма обе традиции используют схожие понятия. Самая радикальная позиция, которую можно обозначить как псевдорелигия (pseudo-religion), подразумевает фальсификацию религии, и принадлежит Ваху и Струве. Следующей в оценочной шкале идет «обратная религия» или квазирелигия (quasi-religion), которой придерживались Тиллих, Смит, Бердяев. Здесь речь идет о подобии религии, содержащем сущностные черты религии. «Своего рода религия», отчасти религия (sort of religious) указывает на проявленность лишь отдельных религиозных элементов. Знаменательно, что это понятие входит в глоссарий современного религиоведения, и помимо Новгородцева, который впервые употребил его, им также пользуются Грил и Руди для описания современных форм квазирелигии. Далее идет градация с условным значением «религия, но с оговорками», свойственная всем трем отечественным авторам. Каждый из них видит в марксизме религию, однако отмечает недостаточность этой характеристики. Примечательно, что всякий из них прибегает сразу к нескольким значениям шкалы, в отличие от современного британского исследователя Смарта, чью позицию можно было бы определить как негативно неопределенную.
По сути, все определения отечественных философов носят противоречивый характер, ни одно из них не способно целостно и исчерпывающе описать парадоксальную природу марксизма, что соответствует выражению: и то, и то, и то, в отличии от современного западноевропейского религиоведения, которое выражает подобную тупиковую ситуацию с помощью негативной формулы: ни то, ни то, ни то. Современные американские социологи религии Артур Грил и Дэвид Руди отмечают аномальный статус квазирелигий, которые невозможно классифицировать ни как однозначно религиозные, ни как секулярные, но как расположенные на границе сакрального и секулярного. Эта тенденция говорит о смене основополагающего критерия, с помощью которого изначально происходила верификация квазирелигий. Как отмечалось ранее, в классических трудах Ваха и Тиллиха в качестве подобного арбитра выступала религия (proper religion). Факт того, что отныне мерилом религиозного / нерелигиозного становится более широкое и религиозно нейтральное понятие «сакрального»38, указывает на размывание границ между ними, а также на ослабление самого понятия «религия», которое оказывается недостаточным для объяснения феномена квазирелигий.
Подводя итоги дискурса о религиозном статусе марксизма, следует отметить широкий спектр оценок от резко негативных до позитивных. При этом один и тот же автор подчас высказывает диаметрально противоположные суждения. Эта контрадикторность, неоднозначность в оценке действительно указывает на аномальный статус марксизма. Он предстает как явление пограничное, располагающееся на границе сакрального и секулярного, что согласуется с теорией Грила, и свидетельствует о ее эффективности для анализа более ранних форм квазирелигий. Кроме того, марксизм обладает и собственными уникальными свой ствами, которые демонстрируют, что это явление sui generis. Полярность оценок, где, с одной стороны, он проявляет истинно религиозные свой ства (к примеру, феномен обожения), характерные для больших мировых религий, а с другой — неожиданным образом обнаруживает связь с наиболее ранними примитивными религиозно- магическими культами (фетишизм, мана)39, дают право утверждать, что марксизм представляет собой феномен секулярного типа — синкретическую религию «хамелеон» с плавающим значением. В рамках широкой шкалы параметров от религиозного до антирелигиозного он постоянно перемещается, меняя свои показатели. Его неуловимость в заданных религиозных границах создает своего рода угрозу, о которой предупреждает Тиллих, когда говорит о столкновении (encounter) мировых религий с квазирелигиями как о главном вызове современности. В то же время он отмечает, что марксизм, будучи демонической стороной Священного, как когда-то язычество, содержит потенциал для духовного преображения общества.
В ходе дискурса о религиоподобных явлениях стало очевидным, что эта тема необходимым образом затрагивает вопрос о содержании и границах самой религии. В этом смысле феномен марксизма интересен не только сам по себе, но и в качестве альтернативы религии, «обратной религии». Если русская философия религии пребывала в парадигме теоцентризма с традиционными для нее темами теодицеи, обожения, образа Божьего и т. д., то западноевропейские исследователи, продолжающие традиции протестантизма, предпочитали эксплицировать религиозный опыт посредством феноменологии Священного. Следует отметить, что смена основополагающего критерия в идентификации квазирелигий обозначилась на раннем этапе исследований.
Фактически уже Вах и Тиллих закладывают ее основы, у Смита и Смарта она получает развитие, Грил и Руди выделяют ее в качестве характерной тенденции. Именно у обозначенного водораздела мысли и проходит граница между классическим и современным религиоведением, между русской и европейской философией религии, между религией и ее секулярным аналогом в лице марксизма.
Список литературы Подходы к исследованию марксизма в европейском религиоведении и в русской философии Серебряного века
- Бердяев Н.А. Русская идея. Истоки и смысл русского коммунизма. Серия: Русская классика. М.: АСТ, 2020.
- Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016.
- До Егито Т. Игнатий Лойола и Константин Станиславский в интерпретации Сергея Эйзенштейна: от мистического экстаза до монтажа // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2022. Вып. 103. С. 87-107.
- Забияко А. П. Теологические трактовки квазирелигий (концепции Й. Ваха и П. Тиллиха) // Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / Ред. И. Т. Касавин. М., 2008.
- Зенкин С. Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2014.
- Из глубины: Сборник статей о русской революции / С. А. Аскольдов, Н. А. Бердяев, С. А. Булгаков и др. М.: Изд -во Моск. ун-та, 1990.
- Колкунова К. Религиоподобные явления и сакральное // Южный полюс. Исследования по истории современной западной философии. 2017. Т. 3 (1). С. 49-61.
- Михельсон О.К. От «псевдорелигии» и «квазирелигии» к «имплицитной религии». Теологизм в исследованиях современной религиозности // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 6 (41). С. 155-159.
- Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Издательство «Пресса», 1991.
- Ростова Н. Н. Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека: монография. М.: Проспект, 2017.
- Русская идея / Сост. и авт. вступ. статья М. А. Маслин. М.: Республика, 1992.
- Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм / Сост. В. Н. Жукова, А. П. Полякова; вступ. ст. и примеч. В. Н. Жукова. М.: Республика, 1997.
- Das Kommunistische Manifest. II Proletarier und Kommunisten.
- Greil A., Rudy D. On the Margins of the Sacred: Quasi-religion in Contemporary America // In Gods We Trust: New Patterns of Religious Pluralism in America / Ed. by T. Robbins, D. Anthony. New Brunswick, NJ: Transaction, 1990.
- Smart N. Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs. New York: Scribner, 1999.
- Smith J.E. Quasi-religions: Humanism, Marxism and nationalism. St. Martin, 1994.
- Tilich P. Christianity and the Encounter of the World Religions. Columbia University Press, 1963.
- Wach J. The Comparative Study of Religions. New York, 1958.