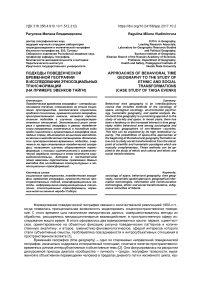Подходы поведенческой временной географии в исследовании этносоциальных трансформаций (на примере эвенков тайги)
Автор: Рагулина Милана Владимировна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2017 года.
Бесплатный доступ
Поведенческая временная география - интердисциплинарное течение, сложившееся на стыке социологии пространства, экологической социологии, средовой психологии, гуманистической географии, пространственного анализа, является перспективным подходом в изучении социопространственных отношений. Значительный рост интереса к временной географии в рамках поведенческого направления, отмеченный в последние годы среди социологов и гуманитарных географов незападных стран, объясняется ее высоким методологическим и методическим потенциалом. Возможности пространственно-временных подходов, очерченных на заре становления поведенческой географии, позволяют изучать общественные трансформации с позиции сциентистской и гуманистической парадигм, которые в этом контексте взаимодополнительны. Автором в постановочном плане намечены перспективы применения данных методов для исследования этнокультурных и этносоциальных трансформаций.
Социология пространства, поведенческая география, временная география, гуманистический пространственный подход, геоинформационные методы, информационно-коммуникационные технологии, этносоциальные трансформации, коренные малочисленные народы сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/14939972
IDR: 14939972 | УДК: 316.356.4:910.1(=1.512.212) | DOI: 10.24158/spp.2017.10.2
Текст научной статьи Подходы поведенческой временной географии в исследовании этносоциальных трансформаций (на примере эвенков тайги)
Формирование поведенческой географии связано с количественной революцией 1960-х гг., когда появилась принципиальная возможность моделировать социопространственное поведение. С этого времени шло накопление эмпирических данных, совершенствовались методы их обработки, расширялись междисциплинарные взаимодействия, в пространственную сферу исследования вошло время. В итоге оформились два взаимосвязанных крыла: первое, сциентистское, ориентированное на объектную фиксацию рисунка поведенческих паттернов и количественную аналитику, и второе, гуманистико-феноменологическое, сферой интересов которого стали субъективные смыслы, проблематика повседневности и интерсубъективных отношений в пространственном аспекте [1].
Временна́я география (time geography) – одно из стержневых направлений поведенческой географии, изначально содержала интегративный потенциал, сочетая в понятии пространственновременных ритмов интерсубъективные и объективные темы [2]. Она фокусировалась на раскрытии дискурсивной природы диалога «сообщество – личность – среда», географии телесности, выраженной в объективном перемещении человека в пределах дневного пути и жизненного цикла, изу- чала проблемы социального взаимодействия в контексте пространственно-временных возможностей и ограничений. Ключевые понятия временной географии: «станции» – места значимых событий, «узлы деятельности» – встреча совместно действующих субъектов, а также лимитирующая создание и распад новых узлов деятельности на станциях триада факторов: предел возможностей (физический), особенности коммуникаций, социальные (нормативные) ограничения. С помощью этих категорий формализуются пространственно-временные закономерности поведения сообщества, метафорически обозначенные как «хореография жизни» [3].
Временная география в современной науке часто рассматривается как сциентистское направление, хотя, как мы показали в ходе краткого экскурса ее становления, ей не чужды феноменологические установки. Поэтому вслед за Р. Голледжем мы употребляем термин «поведенческая временная география», разграничивая бихевиористский (преодоленный дисциплиной уже к 1970-м гг. методологический уровень) и бихевиоральный, включающий элементы социологической теории структурации, гуманистические и когнитивно-географические подходы [4].
Поведенческая временная география позволяет соотнести динамику поведения общности людей и отдельных индивидов с конкретными территориально-пространственными ячейками, проанализировать особенности пространственной организации социальных систем, что, согласно Э. Гидденсу, является фундаментальной задачей социологии [5]. Рассматривая композицию общества, он отмечал исключительную роль пространственно-временных рамок, манипуляции ими для становления управляемых видов социальных взаимодействий. Современное развитие поведенческой временной географии характеризуется широким использованием геоинформационных технологий – основного средства визуализации и моделирования поведения в окружающей среде.
В поведенческой временной географии сочетаются «язык геометрии» геоинформационных систем и язык социальных наук, которые интерпретируются как непересекающиеся, параллельные дискурсы, «связанные многими потоками, проецируемыми друг на друга, но никогда не сливающиеся; эта двойственность нигде так не очевидна, как в поведенческой временной географии» [6, p. 1563]. Несмотря на различия лежащих в их основе методологических оснований, взаимная корреляция естественно-научных и гуманитарных методов обусловила популярность практически ориентированных пространственно-временных подходов в Китае и Японии [7]. Сферами приложения поведенческой временной географии стали криминальные проблемы, исследование пространственной активности групп социального риска, бедность, изучение активности и предпочтений потребителей, транспортные сети, гендерные вопросы, проблемы социального неравенства и доступа разных слоев населения к ресурсам.
Потенциал данных подходов может быть реализован на примере изучения этнокультурных и этносоциальных трансформаций традиционных сообществ – коренных малочисленных народов Сибири. Этносы, сформированные в тесном и неразрывном контакте с природной средой, одухотворяющие ландшафт, имели четкие пространственно-временные рисунки жизненного цикла, со-настроенные с природными ритмами, этническими образами мира, времени и себя в мире.
Исследования эвенков Прибайкалья подтвердили сложившееся в отечественной этносоциологии мнение о «пространственности» традиционного образа жизни. Обозначим его основные характеристики. Кочевой образ жизни эвенков до начала трансформации, связанной с вовлечением в экономическую систему российского государства, характеризовался относительно небольшой амплитудой передвижений. Община, как социальный институт, регулировала социальные контакты и практики природопользования. Переход к пушному промыслу вызвал смещения в годовом цикле: ареалы добычи мехов значительно расширились, при сокращении локусов собирательства, рыболовства, потребительского промысла произошла временная фрагментация хозяйственного года. Для эвенков XVIII–XIX вв. были характерны два (в экстремальные годы – три) периода продолжительного и удаленного от постоянных стойбищ «пика» пушного промыслового кочевания, перемежаемые тремя периодами относительной оседлости с четко адаптированной к состоянию природной среды сменой угодий разного функционального назначения. Регулятором социальной жизни по-прежнему оставалась кочевая община, но уже подчиненная распоряжениям инородных управ, которые начинают отслеживать местонахождение эвенков, вести их учет. Пространственно-временные ритмы традиционного образа жизни подвергаются изменениям, которые усиливаются с установлением контактов между эвенками и русскими крестьянами. Коллективизация эвенков в корне изменила пространственно-временную ритмику образа жизни. Хотя община сохранила некоторые формальные функции социальной регуляции, репрессии в отношении шаманов и кулаков, директивный характер отношений с администрацией подорвали ее единство. Вместо соразмерного природным и культурным ритмам образа жизни извне навязывался пространственно-временной порядок, резко контрастировавший как с экологическими, так и с социокультурными характеристиками этноса.
С помощью поведенческой временной географии можно детально проанализировать структурные паттерны «новой повседневности», роль политических и аккультурационных про- цессов в территориальном рисунке социума. Этот период резких разрывов традиции и непродуманных перемен отражен в дисгармоничном характере локусов с избыточной концентрацией деятельности в местах оседлости и исключением из сферы деятельности сакральных мест, «населенных» родовыми духами.
Период постсоветских трансформаций еще более показателен в плане выявления социо-пространственных связей: можно констатировать дальнейшую редукцию ареалов традиционного хозяйства, возрастание бюрократической зарегулированности традиционного природопользования, рост числа и разнонаправленность интересов акторов, вовлеченных в социальное взаимодействие. Община претерпевает окончательную трансформацию, из регулятора жизни в формальную «некоммерческую» организацию, подчиненную уставу, с официальным членством. Информационно-коммуникационные технологии еще больше «фрагментируют» пространство. Два кардинально различных типа пространства «поселок» и лес» создают два разных стиля жизни со своими ценностями, поведенческими паттернами и ограничениями [8].
Поведенческие пространственно-временные подходы в исследовании этносоциальных трансформаций:
-
– проследить в хронологическом контексте институциональные изменения социума, «привязанные» к конкретным локальностям;
-
– перейти от точечной статической к ареальной динамической картине локализации людей и объектов в пространстве;
-
– исследовать конкретику взаимодействия субъективного опыта с объективными условиями жизни индивида/сообщества и визуализировать результаты в трехмерном пространстве;
-
– рассмотреть динамику социопространственных взаимосвязей;
-
– выявить «ландшафт» сочетания социокультурных и экономических практик сообщества.
Подходы поведенческой временной географии к изучению этносоциальных трансформаций традиционного образа жизни коренных народов в настоящее время могут обеспечить получение новых методов и результатов исследований.
Ссылки:
Список литературы Подходы поведенческой временной географии в исследовании этносоциальных трансформаций (на примере эвенков тайги)
- Buttimer A. Grasping the Dynamism of Lifeworld//Annals of the Association of American Geographers. 1976. Vol. 66, no. 2. P. 277-292.
- Hägerstrand T. Action in the Physical Everyday World//Diffusing Geography: Essays for Peter Haggett/eds.: A.D. Cliff, P. Gould, A. Hoare, N. Thrift. Oxford, 1995. P. 35-45.
- Pred A. The Choreography of Existence: Comments on Hägerstrand’s Time-Geography and its Usefulness//Economic Geography. 1977. Vol. 53, no. 2. P. 207-221. https://doi.org/10.2307/142726.
- Golledge R.G. Behavioral Geography and the Theoretical/Quantitative Revolution//Geographical Analysis. 2008. Vol. 40, no. 3. P. 239-257. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2008.00724.x.
- Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации: пер. с англ. 2-е изд. М., 2005. 528 с.
- Couclelis H. Rethinking Time Geography in the Information Age//Environment and Planning. 2009. Vol. 41, no. 7. P. 1556-1575. https://doi.org/10.1068/a4151.
- Chai Y. Space-Time Behavior Research in China: Recent Development and Future Prospect: Space-Time Integration in Geography and GIScience//Annals of the Association of American Geographers. 2013. Vol. 103, no. 5. P. 1093-1099. http://dx.doi.o DOI: rg/10.1080/00045608.2013.792179
- Алехин К.А. Некоторые вопросы коммуникативной культуры таежных эвенков//Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 3. С. 36-42.