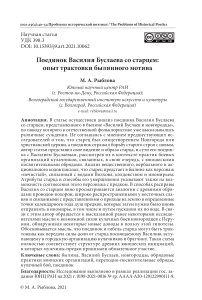Поединок Василия Буслаева со старцем: опыт трактовки былинного мотива
Автор: Рыблова Марина Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлен анализ поединка Василия Буслаева со старцем, представленного в былине «Василий Буслаев и новгородцы», по поводу которого в отечественной фольклористике уже высказывались различные суждения. Не соглашаясь с мнением предшествующих исследователей о том, что старец был олицетворением Новгорода или христианской церкви, а поединок отражал борьбу старого строя с новым, автор статьи представил свое видение и образа старца, и сути его поединка с Василием Буслаевым, рассмотрев их в контексте практик боевых организаций кулачников, связанных, в свою очередь, с юношескими посвятительными обрядами. Анализ вещественного, вербального и акционального кодов показал, что старец предстает в былине как персонаж «нечистый», связанный с водами Волхова, колдовством и иномирьем. Атрибуты старца и способы его умерщвления указывают также на возможность соотнесения этого персонажа с предком. В способах расправы Василия со старцем явно просматриваются аналогии с древними обрядами проводов-похорон, широко распространенными у восточных славян и связанными с представлениями о приходе на землю в определенные точки календарного года душ предков, которые затем нужно было вновь отправлять в иномирье, в том числе и путем пускания их по воде. В связи с этим автор обращается к высказанной ранее некоторыми исследователями мысли о возможной связи кулачных боев новгородцев с Перуном, обнаруживая некоторые новые доводы в пользу этой гипотезы. Обосновывается мысль, что поединок и гибель старца могут быть трактованы как передача силы-доли от старца посвящаемому Василию, вступающему в городскую организацию кулачников и братчину. Такая схема полностью соответствует структуре древних юношеских инициаций, в которых мужчины-предки принимали обязательное участие.
Былина, василий буслаев, новгородцы, обрядовые практики воинских организаций, переходно-посвятительные обряды, кулачный бой, поединок
Короткий адрес: https://sciup.org/147236187
IDR: 147236187 | УДК: 398.3 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.10062
Текст научной статьи Поединок Василия Буслаева со старцем: опыт трактовки былинного мотива
И звестная в 75 записях былина о Василии Буслаевиче и его бое с новгородцами привлекала внимание многих исследователей, представителей разных научных школ и направлений. Если до сих пор исследователи, комментировавшие былины о Василии Буслаеве и пытавшиеся определить их основной смысл, исходили из характеристики представленного в былине боя либо как формы социальной борьбы [Буслаев: 194], [Пропп, 1955: 128–129 и др.], либо как простой молодецкой забавы и бессмысленного озорства [Примечания: 371], то основная цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть этот поединок в связи с практикой мужских воинских организаций в контексте переходно-посвятительных обрядов, структура и семантика которых уже подробно исследовалась рядом ученых на обширном этнографическом материале [Геннеп: 64–107], [Байбурин, 1993: 38–123]. В свое время В. Я. Пропп совершил истинный прорыв в понимании сути индоевропейских волшебных сказок, показав их связь с обрядами-инициациями [Пропп, 1986]. Применить этот метод к русским былинам по ряду причин исследователь не смог, трактуя их исключительно в социальном и историческом контекстах. Однако позднее некоторые отечественные исследователи использовали наработки В. Я. Проппа, пытаясь обнаружить за текстами былин мужские посвятительные обряды [Бернштам, 1994], [Балушок]. Представляется, что именно такой методологический подход позволит объяснить и многие противоречия, и «бессмыслицы», отмеченные в былине о Буслаеве, но так и не получившие достаточного разъяснения. В этой статье я попытаюсь дать свою трактовку лишь одному мотиву былины — поединку Василия со старцем.
Бой Василия Буслаева со старцем, называемым в многочисленных записях разными именами (Пилигримище, Ели-зарище, Игнатьище, Угрюмище, Девя́ нишшо и др.), занимает ключевое место в былине. Этот поединок происходит в разгар кулачного боя на Волховом мосту, иногда предшествует ему, но в любом случае окончательная победа Васильевой дружины над новгородцами следует после убийства Буслаевым старца. К анализу этого сюжета неоднократно обращались исследователи русского героического эпоса. Так, В. Я. Пропп, анализировавший былину в контексте классовой борьбы (а самого Василия представлявший как социального борца), определял исход этого поединка как победу над старой, несправедливой системой, основанной на угнетении «черного люда» новгородскими богачами [Пропп, 1955: 447]. Т. А. Новичкова перенесла трактовку этого сюжета в религиозное русло, высказав мысль, что в поединке представлено противостояние новой христианской традиции, связанной с образом старца, и прежней, языческой, воплощенной в образе Василия [Новичкова: 44]. Исследовательница также указала на возможную связь Василия с образом Перуна [Новичкова: 30].
Наиболее перспективными из предложенных ранее трактовок былины мне представляются те, которые определяют описанный в ней кулачный бой как обрядовое действие. Одной из первых мысль о том, что организации русских кулачников представляли собой трансформированные реликты «мужских союзов воинов», высказала Т. А. Бернштам [Берн-штам, 1988: 95]. Развивая эту мысль, в одной из своих статей я писала о возможности определения самого кулачного боя в качестве переходно-посвятительного обряда, в котором принимали участие представители разных половозрастных групп [Рыблова, 2001]. Исходя из того, что поединки нередко были составной частью кулачных боев, в этой статье я попытаюсь обосновать, что бой старца и Василия Буслаева также должен рассматриваться в контексте обряда, составлявшего основу юношеского посвящения Василия.
Итак, за помощью к старцу новгородцы обратились с просьбой усмирить Василия, разбушевавшегося в разгаре кулачного боя. Выход же героя, предварительно собравшего свою дружину, на бой был обусловлен достижением им возраста юности, его претензиями на контроль за городской территорией и правом участвовать в городской братчине. В разных вариантах былины отмечается, что старец был прежде богатырем (Свод (b): 205), старым вожаком (Свод (b): 211), крестным отцом Василия (Свод (с): 742; Свод (b): 224 и др.), его учителем и наставником (Свод (а): 394), Он предстает как глубокий старик (дед) (Свод (b): 216); указывается также, что он пилигрим, т. е. странник, называется каликой перехожей (Свод (b): 205 и др.). Наиболее ярким знаком старца является надетый на голову колокол, иногда герой несет в руке колокольный язык. При этом разные исследователи по-разному трактовали эти атрибуты. В. Г. Белинский полагал, что колокол является поэтическим символом Новгорода и его государственности, а В. Я. Пропп отмечал, что он указывает на связь старца с новгородским архиепископом [Пропп 1955: 449]. Т. В. Новичкова считала, что колокол на голове старца делал его олицетворением всей христианской церкви [Новичкова: 44]. Представляется, однако, что для выяснения сущности образа старца недостаточно оперировать лишь каким-то одним из его символов. Необходимо обратиться также к акциональному и вербальному кодам этого образа, а также выяснить мотивацию действий героев.
В некоторых случаях после убийства старца Василий продолжает прерванный бой, начиная разить новгородцев языком колокола, демонстрируя силу оружия, которое он, по сути, унаследовал от убитого предшественника. Смена оружия из дерева («червленого вяза», дуба) на металлическое (язык колокола) может оказаться весьма значимой именно в контексте воинских переходно-посвятительных обрядов. Так, С. И. Трунев обратил внимание на то, что в мифологии и обрядовой практике многих народов семантика металла определяется его способностью не только защитить его обладателя, но и сделать последнего неуправляемо агрессивным [Трунев: 193–197]. Отмечу также, что во множестве фольклорных текстов герой приобретает холодное рассекающее оружие (обычно меч) далеко за пределами дома. В воинской индоевропейской традиции такое оружие было связано не с юношами, а со стратой взрослых мужчин-воинов. В связи с этим обратим внимание на то, что в одном из вариантов былины Василий, перед тем, как отправиться на бой, ищет подходящее оружие, но
«не попала ему с собой сабля востра», а «попала ему с собой да подтележна ось» ( Свод (a) : 394). Тележные оси могли быть как деревянными, так и железными¸ но в данном случае важно указание на то, что Василий не использует саблю — оружие зрелого воина. Язык же колокола, будучи металлическим (пришедшим на смену деревянной дубине), мог символизировать вступление Василия в новую (но юношескую) возрастную группу.
Обращаясь с бранной речью к Василию, старец особенно отмечает его молодость: «Уж ты молодо курё, не попархивай, / Молодыя Василей, не похвастывай» ( Свод (b) : 205). И эти слова, и ответная брань Василия Буслаева в адрес старца вполне вписывается в стиль «затравок» перед кулачным боем и поединками других былинных богатырей. Во взаимных обещаниях старца и Василия «похристосоваться» звучит также мотив приобретения воли-доли. В одной из записей былины молодой «отоманище» Василий, перед тем как ударить своего крестного, восклицает:
«Сколько я тебя крестным ни называл, На веку ты мне яичка не давывал;
Теперь мы с тобой похристосуемся:
Вот тебе красно яичко — Христос воскрес!» ( Данилов : 8).
Иногда уже крестный отец, «старчище Елизарище», бьет крестника клюкой, приговаривая: «Не дано тебе у мене о Хри-стови дни, / А дам тебе яичко о Петрове дни» ( Рыбников : 17). Рассматривавшая этот мотив в контексте обрядовых практик, Т. А. Новичкова обратила внимание на противопоставленность Пасхи и Петрова дня, отметив, что последний считался в русской народной традиции «мужским днем» и временем молодежных ритуальных боев и пивоварений [Новичкова: 44]. Я предлагаю обратить также внимание на древнюю символику яйца. Так, оно выступает символом обновления магических способностей лешего, который помогал пастуху: тот обещал преподнести лешему первое яйцо, полученное от попа во время христосования в первый же день Пасхи [Криничная: 379]. В символике яйца народная мифология соединила вместе языческие и христианские мотивы, сохранив представления о его связи с долей-судьбой-жизненной силой и обновлением.
Вместе с тем, отечественные этнографы уже отмечали особую значимость концепта доли в восточнославянских переходных обрядах и символического наделения ею при переходе из одной социовозрастной группы в другую [Байбурин, 1998: 78–82]. В связи с этим удар клюкой, сопровождаемый вручением «яицька», вполне может быть трактован именно как символический способ передачи доли от учителя ученику. Причем, случается это в Петров день, когда, по народным представлениям, происходило также и «проявление рока» (судьбы) [Новичкова: 44]. Таким образом, можно предположить, что Василий убивает прежнего вожака городской братчины и символического хранителя ее общей доли, и это дает ему право пройти посвящение и, возможно, стать новым вожаком.
В то же время «крестовая» связь старца и Василия может быть трактована в контексте не только христианском, но и в воинском, в частности, в связи с традицией воинского побратимства. Ф. Кардини, исследовавший традиции европейского рыцарства, отмечал, что обряд побратимства символизировал установление новых отношений и связей, противопоставленных прежним родовым связям, которые прерывались с вступлением мужчины в воинское братство [Кардини: 135]. Традиция побратимства хорошо известна и в русской традиции. Так, на Дону этот обряд заключался в обмене крестами и подарками двух казаков в присутствии третьего — старшего, который назывался после этого крестовым отцом , а «побратавшиеся» — крестовыми братьями или по кресту братьями [Харузин: 83]. А теперь обратимся к тексту былины о Василии Буслаеве. В одном из ее вариантов Василию встречаются на мосту последовательно — «крестовый братёлко», а затем «хрёсный батюшко» старец Дев я́ нишшо. Василий поочередно бьется с ними, убивая сначала одного, затем другого ( Свод (с) : 741–742). Наличие у Василия не только крестного отца, но и крестного брата вполне можно связать с описанной выше традицией воинского побратимства, а не христианского обряда крещения.
Обратим внимание и на то, что прежний вожак и крестный отец Василия предстает очень старым, при ходьбе он опирается на язык колокола. В то же время он обладает огромной силой: несет на голове колокол «пудов о тысецу», а в руке колокольный язык в «пятьсот пудов» (Свод (с): 742). В целом и образ старца, и описание поединка предстают в былинах символически перегруженными. Не будет ли в таком случае попытка определить старца в качестве только старого вожака, должного уступить свое место более молодому и сильному, заменой обрядовой основы этого былинного мотива историческими и культурными реалиями позднего новгородского социума? Смена старого вожака новым вполне могла быть частью таких реалий, однако эпос нередко воспроизводит картину мифоритуальную, а не реальную. Вспомнив, что былинные богатыри нередко получали и волшебное оружие (меч-кладенец), и волшебную силу (долю) от мертвых, можно предположить, что и старец в былинах о Буслаеве в большей степени связан с образом предка. На это указывают не только дряхлость старца, но и изощренный способ расправы Василия с ним.
Способ умерщвления старца Василием действительно трудно вписать в схему простого поединка между старым и молодым богатырями, не являющимися к тому же врагами. Василий сначала наносит удар по колоколу (надетому на голову старца) «червленым вязом», затем находит на берегу Волхова и вырывает с корнем огромный дуб и раскалывает им колокол на три части (иногда — вдребезги), или (в некоторых вариантах) проделывает это языком колокола. Далее он срывает голову с «могучих плеч» старца, а язык мертвой головы предрекает Василию, что ему «не будет поединщика». Эти слова представляют собой, по сути, пророчество, которое, кстати, сбывается, так как смерть Василий примет не в поединке, а (гораздо позже) — на камне, разбившись об него в прыжке.
В некоторых вариантах былины Василий убивает старца тележной осью, и этот мотив отсылает к другим подобным фольклорным сюжетам, например к эпизодам, в которых происходит убийство казачьего атамана или колдуна. Так, согласно фольклорной легенде, обломком тележной оси был убит Степан Разин ( Минх ). В народе также полагали, что, для того чтобы лишить колдуна силы, нужно ударить его наотмашь тележной осью или осиновым поленом [Власова: 187].
Далее обратим внимание на то, что Василий не ограничивается простым убиением старца, а глумится над мертвым телом (пинает его ногами). Иногда он вырывает из головы старца глаза, и они падают в Волхов ( Рыбников : 64). В другом случае Василий спихивает мертвое тело в реку и идет сам под мост, приговаривая: «Там уж дядьки и живого нет, / Задавило его языком колокольным» ( Рыбников : 72). На связь старца с иномирьем и предками указывает и его гибель под колоколом, и сам колокол, который совсем необязательно был связан с христианским монастырем. Так, этот мотив отсылает к записанным фольклористами преданиям о древних насельниках Русского Севера (чуди), имевших статус «чужих» и предков. О чуди рассказывали, что они ушли под землю, и оттуда слышался звук колокола. В этом же регионе записывались рассказы о разбойниках, которые утопили в озере колокол [Бе-резович: 4]. Семантически колокол также связан с мужчинами, в том числе и в эротическом контексте, что нашло отражение во многих обрядах календарного года и жизненного цикла. Так, у донских казаков жених приезжал за невестой верхом на лошади, обвешанной колокольчиками, которые впоследствии хранились у его родителей ( Чулков : 11). В Воронежской губернии в праздник, посвященный Яриле, его изображал мужчина с колотушкой в руках, украшенный цветами и обвешанный колокольцами и бубенчиками [Галь-ковский: 41]. В святочных «покойницких играх» в деревне Тимонинской (Вологодская область) парни разыгрывали на вечеринке приход мертвеца (предка), которого называли «медведем с колоколом» с пояснением, что колокол — это то, «что между ног находится» [Морозов, Слепцова: 254, 266]. Показательно, что в двух последних примерах колокольчики были связаны с образами предков, приходивших на время в мир живых в определенные календарные дни. Характерная для молодежных «покойницких игр» эротическая символика была связана с идеей брака живых девушек с предком-покойником [Морозов, Слепцова: 294], что, в свою очередь, может быть трактовано как включение неистраченной жизненной силы (потенции) предка в общую долю живых.
Наконец, имеются исторические свидетельства и о связи колокола и Перуна. Конрад Бото в «Саксонской хронике» применительно к 1123 г. сообщал, что в городе Ольденбурге был бог, именовавшийся Проно (некоторые исследователи соотносят его с Перуном); он стоял на столбе, имел в руке красное железо испытаний (proveyssen) и знамя, а под ногой — колокол ( Jagic : 204). Косвенная связь колокола c Перуном просматривается и в таких его функциях, как произведение молнии и звуков грома. Еще более информативными для нас оказываются параллели между расправой со старцем и новгородскими народными преданиями, связывающими побоища на Волховом мосту со свержением в реку идола Перуна в период религиозной реформы князя Владимира. Так, о традиции новгородских кулачных боев Густынская летопись свидетельствовала: когда сверженный Перун плыл по Волхову, «един же некто человек верже на него палицею, он же взем палицу, верже нею на мост и уби тамо мужей килка; порази же слепотою новгородцев, яко оттоле в сие время, далее коеждо лето на том мосту люди собираются и разделшася надвое играюще убиваются» [Примечания: 370]. С. Герберштейн, побывавший в России в 1517 г., так пересказывал предание о голосе Перуна, слышном в определенные дни года. «Услышав его, граждане того места внезапно сбегаются вместе и взаимно бьют друг друга палками» [Примечания: 370].
Итак, согласно новгородским преданиям, кулачные бои на Волховом мосту стали проводиться ежегодно после того, как некий человек нанес изваянию Перуна удар палицей. Ответным ударом по мосту изваяние побило многих новгородских мужей и поразило их слепотой. После этого ежегодные кулачные бои на мосту стали традицией и совершались всякий раз, когда слышался из реки голос Перуна. В таком случае можно предположить, что кулачный бой мог быть для новгородцев способом участия в распределении между ними неистраченной до конца жизненной силы «убитого» Перуна.
Возвращаясь к мысли о том, что традиция кулачных боев на Волховом мосту могла быть связана с потоплением изваяния Перуна, нельзя обойти стороной мнение Л. С. Клейна и М. А. Васильева о возможной связи этого потопления с древними обрядами проводов-похорон, когда происходило уничтожение (разрывание, сжигание, потопление) обрядовых чучел, символизировавшее их отправку («проводы») на «тот свет» [Васильев: 47–51], [Клейн: 339–340]. При этом Л. С. Клейн вообще считает, что никакого низвержения идолов в Волхов при крещении Новгорода не было, а летописец просто «не понял суть устного рассказа своих информаторов и принял описание ежегодного… ритуала «проводов Перуна» за уникальный эпизод ликвидации языческих кумиров при крещении Руси» [Клейн: 340]. Эту мысль можно и принять, и отвергнуть, так как определить однозначно, «было или не было низвержения идола в Волхов», не представляется возможным. Однако параллели между потоплением идола и обрядами проводов-похорон, повсеместно распространенными в восточнославянской народной традиции, представляются мне весьма уместными. В любом случае параллели с обрядами похорон-проводов можно провести и применительно к былине о Буслаеве. Так, рассечение колокола на голове старца на части с последующим бросанием и колокола, и головы в воду вполне соотносится с практикой разрывания на части и пускания в реки чучел (и других предметов), часто встречаемые у восточных славян в календарных обрядах. Отмечу также, что некоторые исследователи связывают персонифицированные в виде чучел (или ряженых) символы праздников с предками, приходящими к живым в важнейшие точки календарного года для участия в новом долевом переделе в рамках определенных половозрастных групп [Холодная: 60–66], [Рыблова: 111–112].
Таким образом, вполне можно предположить, что кулачный бой Василия и его дружины был составной частью ежегодного ритуала проводов некоего языческого божества (предка), возможно, связанного с образом Перуна (но определенно — с мужским сообществом), и сложившегося еще до реформы Владимира. Новгородские предания настаивают на том, что именно сброшенный в Волхов идол установил традицию его поминовений, однако, такое «сбрасывание» действительно могло быть частью древнего обряда, ежегодно исполняемого новгородцами, и, возможно, этот обряд нашел отражение в описанном в былине поединке Василия и старца. Во всех описанных вариантах этого поединка речь может идти о получении Василием от старца-предка новой доли и обретении нового статуса молодого воина. Такая схема полностью соответствует мифологии древних юношеских инициаций, в которых мужчины-предки принимали обязательное участие.
Список литературы Поединок Василия Буслаева со старцем: опыт трактовки былинного мотива
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 321 с.
- Байбурин А. К. Обрядовое перераспределение доли у русских // Судьбы традиционной культуры. СПб.: РИИИ, 1998. С. 78-82.
- Балушок В. Г. Инициации древнерусских дружинников // Этнографическое обозрение. 1995. № 1. С. 34-45.
- Березович Е. Л. «Чужаки» в фольклорной ремотивации топонимов // Живая старина. М., 2000. № 3. С. 2-5.
- Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX — начала XX в. Половозрастной аспект традиционной культуры. Л.: Наука, 1988. 227 с.
- Бернштам Т. А. Эпический герой на пути к совершеннолетию // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб., 1994. Вып. 5-6. С. 119-139.
- Буслаев Ф. И. Народная поэзия: исторические очерки. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1887. 501 с.
- Васильев М. А. Великий князь Владимир Святославович: от языческой реформы к крещению Руси // Славяноведение. 1994. № 2. С. 38-55.
- Власова М. Новая абевега русских суеверий. Иллюстрированный словарь. СПб.: Северо-Запад, 1995. 383 с.
- Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков: Епархиальная типография, 1916. Т. 1. 376 с.
- Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Вост. лит. РАН, 1999. 198 с.
- Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987. 384 с.
- Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб.: Евразия, 2004. 480 с.
- Криничная Н. В. Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и структуры. Л.: Наука, 1987. 232 с.
- Морозов И. А., Слепцова И. С. Свидание с предком (пережиточные формы ритуального брака в святочных забавах ряженых) // Секс и эротика в традиционной русской культуре. М.: Ладомир, 1996. С. 248-304.
- Новичкова Т. А. Эпос и миф. СПб.: Наука, 2001. 248 с.
- Примечания // Новгородские былины. М.: Наука, 1978. C. 362-446.
- Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. 552 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 364 с.
- Рыблова М. А. Кулачные бои у донских казаков // Дикаревские чтения (7): материалы регион. науч. конф. Краснодар: Изд-во Центра нар. культур Кубани, 2001. С. 83-88.
- Трунев С. И. Опыт пространственно-магистического материаловедения // Власть. Судьба. Интерпретация культурных кодов. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2003. С. 190-201.
- Харузин М. Сведения о казацких общинах на Дону. М.: Тип. М. П. Щепкина, 1885. 388 с.
- Холодная В. Г. Статус мужчины в социокультурной среде славянского населения Карпат в середине XIX — 30-х годах XX века: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2003. 312 с.