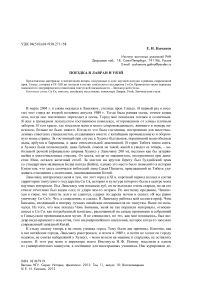Поездка в Лавран и Увэй
Автор: Кычанов Евгений Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Представлены материалы и впечатления автора, полученные в ходе научной поездки в районы современной пров. Ганьсу, которые в IX–XIII вв. входили в состав тангутского государства Си Ся. Приводятся также переводы знаменитого эпиграфического памятника тангутской письменности – Лянчжоуской стелы.
Си ся, тангуты, китайские мусульмане, монастырь лавран, увэй, лянчжоуская стела
Короткий адрес: https://sciup.org/14737671
IDR: 14737671 | УДК: 94(510).04+930.271=58
Текст научной статьи Поездка в Лавран и Увэй
В марте 2004 г. я снова оказался в Ланьчжоу, столице пров. Ганьсу. В первый раз я посетил этот город во второй половине августа 1989 г. Тогда была ранняя осень, точнее конец лета, когда оно постепенно переходит в осень. Город мне показался теплым и солнечным. Я жил в громадном полупустом гостиничном комплексе, отгороженном от улицы плотным забором. В том крыле, где поселили меня и моего сопровождающего, жившего в номере наискосок, больше не было никого. Когда-то это была гостиница, построенная для многочисленных советских специалистов, создававших вместе с китайцами промышленную и оборонную мощь страны. За гостиницей при спуске к Хуанхэ был рынок, поразивший меня обилием дынь, арбузов и баранины, и даже относительной дешевизной. В горах Тибета таяли снега, и Хуанхэ была полноводной, даже буйной, совсем не такой, какой я увидел ее теперь, – небольшой речкой (официально ширина Хуанхэ у Ланьчжоу 200 м), местами как бы затерявшейся в многочисленных отмелях. От моста, когда-то знаменитого, построенного при династии Мин, остался железный столб. За мостом на крутом берегу был буддийский храм со стандартным названием Белая пагода (Байта), однако это место было знаменито в истории Китая тем, что здесь скончался тибетский лама Сакья Пандита, приезжавший из Тибета улаживать отношения с монголами, завоевывавшими Китай.
Ланьчжоу интересовал меня и тем, что этот город в XI в. короткий период входил в состав территории тангутского государства Си Ся, история и культура которого были в центре моих научных интересов. Под Ланьчжоу мне показали дуб, он не выглядел очень старым, но на его стволе отчетливо был виден след от удара чем-то острым. По местному преданию, Чингисхан в гневе, что тангуты долго не сдаются, ударил по дереву мечом и сказал: «Я все равно уничтожу Си Ся!». Что, к сожалению, и сделал. В Ланьчжоу работал мой коллега проф. Чэнь Бинъинь, входивший в пятерку лучших китайских специалистов по тангутам. Ныне он скончался. Из того, что мне показал Чэнь Бинъинь, меня не так поразили материалы, относившиеся к Си Ся, как погребальный комплекс, раскопанный на западе провинции и собранный в Ганьсуском провинциальном музее. Я не специалист, но это, как мне показалось, был шедевр индо-иранского искусства, того индоевропейского населения, которое когда-то заселяло современный западный Китай.
К стыду своему теперь я не очень узнавал город. Тому были две причины. Конечно, как и все китайские города, Ланьчжоу расстроился, и потом в 1989 г. я почти не ходил по городу пешком, не считая набережной у Хуанхэ, – меня возили на машине и старались не оставлять одного. В этот раз меня и директора моего Института И. Ф. Попову поселили в одном из университетских кампусов, в гостинице для иностранных учащихся. Нас курировали де-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © Е. И. Кычанов, 2012
кан исторического факультета университета и проректор по международным связям, хорошо и свободно говоривший по-русски и, судя по его отдельным репликам, долго служивший в государствах бывшей советской Средней Азии. Его научный интерес состоял в том, не в нашем ли институте (а если нет, то не знаем ли мы где) хранятся документы, связанные с временной оккупацией советскими войсками части территории Синьцзяна в 1930-х гг.
Побывав четыре раза в г. Иньчуань, я в отличие от некоторых советских коллег, не говоря уже о зарубежных, фактически территории бывшего тангутского государства не видел. Я не был в Увэй (Лянчжоу) и Чжанъе (Ганьчжоу), не говоря о Хара-Хото, куда японцев, например, возили. Я немного писал о Тибете и хотя, будучи в Китае, в Тибет не просился, но мне предупредительно говорили, что поехать туда я не могу из-за высокогорного климата, опасного для моего здоровья. Дело в том, что еще в 1970 г. некий аноним из Уханьского университета опубликовал статью, в которой обвинил меня в том, что моя научная деятельность разрушает дружбу народов Китая и подрывает его территориальную целостность. За предъявление таких обвинений мне по китайским законам полагалось уголовное наказание. Тогда я этого не знал. Уже позже, читая в университете лекции по традиционному праву Китая и предоставляя студентам некоторые сведения о современном праве Китая, я обнаружил, что совершал серьезные преступления.
Одним из пунктов нашего короткого пребывания в Ланьчжоу была поездка в крупный ламаистский монастырь Лавран. Автобус не был заполнен, имелись свободные места. С нами ехал декан истфака Ван Силун, как я узнал позже, по национальности югур (или уйгура), не новый уйгур, из Синьцзяна, а потомок древних уйгуров, которые в небольшом числе остались в пров. Ганьсу. В администрации университета также был югур, молодой человек, сотрудник международного отдела. Позже, когда мы ехали из Ланьчжоу в Иньчуань, то проезжали небольшой городок, в котором югурское население было значительным; всего в Ганьсу их насчитывается более 10 тыс. чел. В местной гостинице и ресторане были девушки в национальных костюмах, с двумя из них мы даже сфотографировались, хотя фотографий не получили. Югуры интересовали меня как обломки Уйгурского каганата (VIII–IX вв.) и остатки уйгурского населения Си Ся. Я сожалею, что не имел возможности подробно поговорить с ними, особенно о том, как они воспринимают себя и оценивают свое прошлое.
Сейчас на юг Ганьсу, наверное, существует хорошая асфальтированная дорога, строительство ее виднелось где-то сбоку, с западной стороны. А мы ехали по грунтовой дороге. Несмотря на воскресный день, движение было очень интенсивным. Одни машины стремились на юг, навстречу шли тяжело груженые грузовики с шерстью из Тибета. То и дело возникали пробки. Вокруг кипели весенние полевые работы. Шла пахота. И впервые я увидел, как землю пахали не на муле, а на людях. Два человека были впряжены в соху, один шел сзади, управляя сохой, добиваясь правильности борозды. Скажу откровенно, что тракторов я тогда не видел.
Чем ближе мы подъезжали к г. Линься, оплоту мусульман Ганьсу, тем однороднее становилось местное население. Все были мусульмане, мужчины в белых шапочках и черных или серых костюмах, женщины обязательно с покрытой головой, большие платки закрывали часть лица. Китайцы говорили, что по тому, как надет платок и закрыто лицо, видно, замужняя это женщина, или еще нет. Довольно опрятные, с обилием зелени поселения украшали новенькие мечети. Их минареты разной степени благоустроенности встречались на каждом шагу, еще раз подчеркну, все это был в основном новострой.
Когда мы к вечеру приехали в Линься, нас прежде всего повели к месту с зажженными свечами, где, по преданию, в первой четверти VIII в. была построена мечеть. Все это показалось мне весьма сомнительным, в это время арабы еще только завоевывали Бухару и Самарканд, обращали в ислам местное население Средней Азии, откуда здесь могла взяться мечеть? В большом дворе стоял громадный деревянный двухэтажный дом, совсем пустой. Он когда-то принадлежал семье местных мусульманских милитаристов Ма. Отсюда нас повезли в новое медресе. Громадное здание в четыре этажа с просторными залами и аудиториями для обучения. Несколько десятков здоровых молодцов – студентов медресе. Это было ваххабитское учебное заведение, главный его наставник получил образование в Саудовской Аравии. Конечно, это вызывало удивление, но никаких комментариев не последовало. Потом был ужин в мусульманском ресторане, во время которого глава местной администрации и его супруга, люди уже немолодые, вспоминали, как они принимали участие в освобождении Тибета.
Надо сделать небольшое отступление. Вопрос о происхождении этно-конфессиональной общности китайцев мусульман Ганьсу и Нинся-Хуэйского автономного района не имеет однозначного решения до сих пор. Для большинства самих мусульман они – потомки пришлого населения из Средней Азии, т. е. этнически не китайцы. Началом появления мусульман стала династия Тан (VII–X вв.). Достоверных исторических данных для этого нет. Мусульмане проживали в небольшом числе в Китае, но совсем не здесь, а в г. Гуанчжоу (Кантон), куда прибывали для торговли морем. После Таласской битвы 752 г. арабы не продвигались на восток. Мусульманский мир разделял мир буддийский, в современном Синьцзяне, затем с Х в. на территории тангутского государства Си Ся (982–1227 гг.). Ни в китайских, ни в тан-гутских источниках нет сведений о мусульманских общинах на территории этого государства. Мусульмане в большом числе появились на территории современной пров. Ганьсу и Нинся-Хуэйского автономного района только при династии Юань. Отчасти это были действительно выходцы с запада из разгромленного монголами государства хорезмшахов. Но число их было все-таки незначительно. Откуда же взялись мусульмане в этом западном районе Китая? Дунганский историк М. Сушанло первым высказал предположение, что основу мусульманского населения составили «местные народы», т. е. уцелевшее население тангутского государства: сами тангуты, китайцы, уйгуры, тибетцы и др.
Как в свое время бывшее население Средней Азии при арабах, местное население было обращено в ислам властной силой. Известно, что сами монголы, их правящая верхушка были веротерпимы. Мать основателя династии Юань Хубилая была христианкой, сам он – буддистом школы Сакья. Судьбу населения области Тангут, как стала называться бывшая территория Си Ся, решили третий сын Хубилая Мангала и внук Ананда. У Мангала часто умирали дети. Когда родился Ананда, его отдали на воспитание туркестанскому мусульманину Мех-тар Хасан Ахтачи. «Жена этого человека по имени Зулейха выкормила его грудью, поэтому мусульманская вера укрепилась в его сердце и была непоколебима. Он учил Коран и очень хорошо пишет по-тазикски», – сообщал Ращид ад-Дин в своем «Сборнике летописей». В 1279 г. Ананда стал правителем области Тангут с титулом Аньси-вана. Придя к власти, он «большую часть 150-тысячного войска монголов, которые от него зависят, обратил в мусульманство … сделал обрезание большинству монгольских мальчиков и обратил в ислам большую часть войска». Хубилаю это не понравилось. Ананда был арестован. Но армия Ананды была нужна Хубилаю для борьбы с Хайду и другими чингисидами, стремившимися лишить Хубилая власти. И Хубилай простил внука, решив не обращать много внимания на то, что «все те войска и население области Тангут – мусульмане, и упорствуют в этом», позволив Ананде «самому разбираться в своей вере». Ананда насаждал ислам в области Тан-гут и после смерти деда, при правлении Тимура. После смерти императора Тимура, Ананда был втянут во внутреннюю борьбу монгольских принцев за власть в Юань. Его группировка потерпела поражение, и в 1307 г. Ананада «был пожалован смертью». К сожалению, его жизнеописания нет в «Юань ши», летопись Рашид ад-Дина – единственный достоверный источник о том, как бывшее тангутское государства Ся и прилегающие территории стали мусульманскими. Как я понял из беседы с одним из высокопоставленных чиновников Нинся в 2010 г., сведения Рашид ад-Дина китайским мусульманам неизвестны.
Утром следующего дня мы выехали из Линься в Лавран. Дорога постепенно поднималась на Тибетское нагорье. Вот кончились мусульманские поселения, и через какое-то время встретилось первое тибетское. Ступа (субурган), каменные изгороди, дома из камня и, вероятно, кирпича, людей не видно. Да и дорога шла чуть в стороне. После очередного подъема перед нами открылся монастырь Лавран. Первое, что нам было предложено (не только мне и И. Ф. Поповой, но и сопровождавшим нас китайцам) – подняться на довольно высокую смотровую площадку, откуда виден весь монастырь. Плоские крыши монастырских построек и окружающих домов; мало зелени. На территории монастыря нас атаковали группы тибетских нищих-раджаба. Все они были без головных уборов, черные волосы не причесаны. Одеты в черные полушубки, подпоясанные на тибетский манер так, что за пазуху можно было положить полведра картошки. Взрослые и дети буквально преследовали нас. Их отгоняли, они на время исчезали, чтобы потом внезапно из-за поворота появиться снова. Милостыни им никто не подавал. В конце концов, местные власти загнали их куда-то или выгнали за ворота, больше они нам не досаждали. Монастырь нам показывал представитель монастырской администрации, худощавый чуть выше среднего роста тибетец амдоского типа, одетый в красное, не бритоголовый, с хорошей шевелюрой черных причесанных волос. Он свободно говорил по-китайски. Мы осмотрели одну из главных храмовых построек. Там, очевидно, недавно прошла служба. Сотни полторы-две монахов сидели рядами, болтали, как я понял, в ожидании раздачи чая. Алтарная часть храма была затемнена. Меня не в первый раз поразило то, что я ранее видел в Монголии. Десятки здоровых мужчин, не хочу сказать бездельников, но в данный момент ничем не занятых, ухоженных и сытых на вид, так отличающихся от только что атаковавших нас раджаба. Сопровождающий провел нас между алтарной частью и первыми рядами сидящих монахов, затем мы пошли в главный храм монастыря, храм Майтрейи, Будды будущего. Храм был закрыт на замок. В центре храма гигантская статуя Майтрейи, по бокам стражи света и другие божества. Справа, чуть ближе к входу большой портрет Далай-ламы XIV. До этого я слышал разговоры о том, что иметь портреты Далай-ламы нельзя, за это наказывали. Но даже не портрет в храме Майтрейи заставил усомниться в этом. В Ланьчжоу за два дня до этого на толкучке я видел, как продавали портреты Далай-ламы.
Затем мы все пошли к врачу тибетской медицины. Одна из приехавших с нами китаянок нуждалась в его помощи. Врач принимал в отдельном помещении. Он минут 15 беседовал с больной на китайском языке, затем выписал ей лекарства. Она через коридор прошла в аптеку и купила большой полиэтиленовый мешок разных трав. Затем нас повели ждать отъезда в дом родителей преподавателя-тибетца из Ланьчжоуского университета. Этот тибетец всю долгую дорогу до Лаврана вез родителям ведерную канистру молока, которое, очевидно здесь было в дефиците. Дом был большой, растянутой П-образной формы, обнесен глухой каменной стеной. Если встать лицом к воротам, то в правом крыле дома был рабочий кабинет сына, с письменным столом, книгами. Если я правильно понял, то в центральной части находились «парадные» комнаты, а в левом крыле спальные помещения. Во дворе слева – стойла для скота, в одном из них свирепо лаяла запертая там собака. Насколько я помню, мы что-то поели и выпили чаю перед обратной дорогой, хозяев не было видно. Нам также не позволили свободно походить по поселку. Но это был кусочек Тибета, в котором мне в течение одного дня пришлось побывать, за что я безмерно благодарен проф. Ван Силуну и другим нашим хозяевам.
В 2008 г. после конференции мне разрешили трехдневную поездку в г. Увэй (бывший Лянчжоу, вторую столицу тангутского государства Ся). Дали старенькую легковую машину, за рулем – крупный для китайца бритоголовый мужик. Когда я осторожно спросил его, не мусульманин ли он, водитель даже обиделся и с гордостью ответил, что он китаец. Сопровождающих было двое. Один, как предполагалось, человек, знающий русский язык. По-русски он, по существу, не говорил, хотя, видимо, читал и переводил. Ему поручили перевод моей книги с исследованием тангутского кодекса середины XII в. для публикации в журнале «Си Ся яньцзю» под редакцией проф. Ли Фаньвэня. «Трудно» – это единственное слово по-русски, которое я слышал от этого «переводчика». Да простит он меня, я забыл его имя. Я до сих пор не знаю, завершил ли он перевод, и будет ли этот перевод издан. Не все китайские коллеги заинтересованы в этом, ибо китайский читатель может узнать, что многое, о чем они писали, было уже написано за 20 с лишним лет до них, правда, по-русски. Основным сопровождающим был очень интересный человек, достаточно рослый и стройный, красивый китаец, с сохранившейся военной выправкой. Его звали Цзя И, был он отставным военным в звании не то майора, не то подполковника войск химической защиты. Выйдя в отставку, он увлекся тангутикой. Работал в Академии общественных наук Нинся в группе Ли Фаньвэ-ня, активно помогал ему делать «Тангутско-китайский словарь».
Был октябрь месяц. В окрестностях Иньчуань убран урожай, в своеобразных хранилищах из соломы складированы на зиму овощи. Мы ехали по новенькой асфальтированной платной дороге. Параллельно шла старая дорога, грунтовая. Редкие машины обгоняли нас или попадались навстречу. Зато по бесплатной дороге движение было интенсивным. К вечеру мы приехали в Увэй, поселились в одной из центральных гостиниц на большой городской площади. Вправо отходила главная старая улица, с трех-, четырехэтажными домами, очень зеленая и по-своему уютная. Недалеко от гостиницы был, может быть, и непостоянный рынок, но осенью здесь продавалось большое количество овощей, в том числе картофеля, и фруктов, особенно яблок. Вечером был прием, подавали много цинцая (разных салатов) и, с чем я, пожалуй, столкнулся впервые, недоваренного картофеля и свеклы. Я как-то не очень мог эт. е.. Памятуя о своей болезни, я уже не употреблял алкоголь, это затрудняло общение и не дало достаточной защиты моему желудку.
Для меня главной достопримечательностью Лянчжоу была знаменитая Лянчжоуская стела, которая положило начало европейскому тангутоведению. Уникальный памятник хранился в местном музее, надежно упрятанный в защитное сооружение из прозрачного материала. Стела хорошо видна с двух сторон, с одной стороны тангутский текст, с другой – китайский, хотя тексты не идентичны и совпадает лишь основное содержание. Когда-то стела украшала пагоду Благодарения, построенную на 800 лет раньше. В 1092 г. пагода была повреждена землетрясением. Собственно по случаю ее ремонта и была сооружена стела-билингва. Я позволю себе процитировать куски перевода тангутского текста, выполненного мною более 40 лет назад.
«Лянчжоу стало принадлежать народу Ми (тангутам) и (мастера) время от времени высылались производить ее (пагоды) ремонт. Возносились молебны с просьбами о даровании счастья, и счастливые предзнаменования появились. Это место – основание и опора территории государства.
Восемьсот двадцать лет прошло с тех пор, когда пагода была построена и до настоящего времени, до пятого года дерева-собаки девиза царствования Тянь-ю минь-ань (1094 г.). Во втором году девиза царствования Да-ань (1077 г.) опорные балки пагоды рухнули. Вдовствующая императрица Цзэ-цзинь и император Мянь гоу-чэн (Бин чан) послали интендантов и мастеров, но как только те собрались начать ремонтные работы, ночью поднялся большой ветер и на вершине пагоды появился волшебный свет. К рассвету он исчез, и пагода оказалась такой же, какой она была прежде. Затем в восьмом году девиза царствования Да-ань (1083 г.) на востоке государство Хань, тщательно подготовившись, выступило против нас с большой армией. А чтобы окружить нас, тибетская армия вторглась в Лянчжоу. Но в этот момент поднялся черный ветер, и все погрузилось а такую тьму, что нельзя было даже различить друг друга тем, кто держался за руки. Затем яркие лучи света засверкали вокруг пагоды, Обе вражеские армии потерпели поражение, и с того момента не могли уже больше продвигаться вперед. Потом власть в стране перешла к императрице Дэ-шэн и императору Жэнь-цзин (Цянь-шунь). Во втором году девиза царствования Тянь-ань-ли-дин (1087 г.) часто возжигались курения, непрерывно подносились жертвоприношения и часто подавались бумаги с пожеланиями. Из числа китайцев два человека поочередно несли дежурство. Когда вдовствующая императрица лично выехала верхом на коне (во главе войск), яркий свет среди ночи сопровождал ее в пути, то появляясь, то исчезая. Свет этот был подобен сиянию полуденного солнца, и, проникнув на китайскую территорию, произвел там большие разрушения. Обо всех тех благоприятных предзнаменованиях, которые в большом числе появлялись до и после, невозможно здесь и рассказать. Благие знамения неоднократно заранее предвещали людям счастье, и в сотворении таких щедрых и великих заслуг и доблести проходили дни и годы этой золотой Лянчжоуской пагоды. Ее украшения обдувались ветрами и обмывались дождям, а в прошлом году случилось сильное землетрясение. Видя, что деревянные части ее разрушились, а опорные столбы перекосились, вдовствующая императрица Дэ-шэн и император Жэнь-цзин, наверху желая приобрести счастье, милости и заслуги, а внизу желая иметь простор... действуя в пожелании глубокого и великого счастья, послали смотрителя за святыми местами собрать разных мастеров. К работам приступили в двенадцатый день шестого месяца четвертого года воды-птицы девиза царствования Тянь-ю-минь-ань (8 июля 1093 г.), работы были закончены в пятнадцатый день первого месяца следующего года (2 февраля 1094 г.).
Семь ярусов прелестной пагоды,
Как семь просветлений.
Прелестные карнизы с четырех сторон
Ниспадают, как четыре реки.
Окраска деревянных балок и черепицы пестра,
Как оперения птиц.
Золотом и яшмой украшены колонны,
И установлены надежно.
Семь прекрасных колоколов
Блестящи и ярки.
Многочисленные разноцветные вышивки и украшения
Гармонируют друг с другом.
Укрытое в таком окружении прозрение истины
Излучает прекрасное и величественное сияние...
Новенькие, изящные флаги реют
Как распустившиеся цветы...
Выделены Будде: постоянно пребывающее (при храме имущество) - пятнадцать лан желтого золота, пятьдесят лан белого серебра, шестьдесят кусков шелка для одежд, семьдесят пар разных парчовых знамен, тысяча связок монет.
Выделены буддийской общине: постоянно живущие (прикрепленные к храму) четыре семьи землепашцев и мастера по изготовлению стрел, тысяча связок монет, тысяча мер зерна.
Человеческое тело непрочно,
Как пузыри на воде, как восточный бамбук.
Жизнь человеческая невечна,
Как ясность осени, как летние цветы, ласкающие взор...
Желаем, чтобы:
На троне прочно сидящий царствовал так же вечно,
Как вечно произрастает восточный бамбук...
Пусть ветры дуют, и дожди проливаются своевременно,
Драгоценные хлеба вызревают вечно,
На границах установится мир,
А народ благоденствует!..
Написавший (тангутский) текст, мастер размещения текстов, стремящийся к чистоте (написания) и следования образцам каллиграфии чиновник Хуэньнгве Шиангиу.
Написавший текст китайской части стелы, каллиграф китайской и киданьской письменностей чиновник Чжан Чжэнсы».
Видеть эту стелу, этот текст стало одним из запоминающихся событий моей жизни.
Каждый день мы ездили за пределы города, чаще всего в сторону гор Наньшань. Нас сопровождал местный краевед, учитель истории, человек, активно интересующийся историей Си Ся. Первый большой выезд был в место, где когда-то располагалось большое тангутское поселение. Оно было разрушено, на его месте стояла китайская деревня, но на берегу местной речки, где, возможно, во времена Ся располагался храм, в оползнях много было тангут-ской керамики и, вероятно, не только. Кажется, когда-то там студентами велись какие-то раскопки. Место было хорошее: речка, невысокие горы, частью поросшие лесом. Посещение этого места имело и практическую сторону. Здесь выращивался хороший и недорогой картофель. И краевед, и двое моих сопровождающих обзавелись каждый по мешку картошки.
Вообще, окрестности Увэй были развитым сельскохозяйственным районом. Деревни встречались часто, дома обычно глинобитные, из саманного кирпича, но усадьбы обширные. Все окрестные поля ухожены. В Китае нет частной собственности на землю. Но я рискую утверждать, что вся годная для обработки земля поделена, границы полей четко обозначены. Крестьяне были одеты просто, но опрятно, обычно по старой моде в синие или серые куртки и штаны, у мужчин на головах кепки, женщины, особенно в возрасте, не простоволосые, головы повязаны платком. Я обратил внимание на то, что на одном поле, при доме были три холмика - кажется, довольно свежие могилы. По старому китайскому обычаю, умершие крестьяне были похоронены на своем поле.
Самой знаменательной стала поездка в полуразрушенный храм, сохранившийся со времен Си Ся. Мы выехали рано утром, погода была пасмурной и холодной. Дорога обрывалась в предгорьях, среди довольно высоких, безлесых холмов. Машина осталась внизу, нам надо было подниматься на один из этих холмов. Снизу ничего не было видно, но когда мы прошли потихоньку вверх более половины пути, наверху залаяла собака. Не доходя до вершины холма, на небольшой площадке оказался пещерный храм, при котором жил монах. Он привязал собаку, довольно крупную, рыжую, тощую. Открыл двери в храм и зажег внутри светильники. Это был храм тантрического женского божества, ваджра-варахи, по-китайски Хайму, Свиной матери. Хайму укрепляла и усиливала женскую силу, как я понял, способствовала деторождению и улучшению женского здоровья. Икона-танка с изображением Хайму была небольшой, но храм был действующий, о чем свидетельствовали размещавшиеся перед иконой подношения. В тесном храме было полутемно. Я, конечно, сразу вспомнил, что в нашей коллекции есть тексты на тангутском языке, посвященные богине Хайму. Но самым достопримечательным было то, что справа и вверх от храма по склону горы находились полуразрушенные входы в пещеры и остатки других пещерных храмов. Они были разрушены землетрясением, монах категорически запретил подниматься и подходить к ним. Велись ли там какие-то раскопки или исследовательские работы – не знаю. Монах не отличался гостеприимством, по-моему, мы ему ничего не дали. То, что я из России, не вызвало у него никакого интереса. Я думаю, что иностранцы нередко посещали храм. Мы потихоньку стали спускаться вниз, а по параллельной тропе к храму поднимались цепочкой с полдесятка, если не более, женщин.
Стоит еще упомянуть о посещении большого музейного комплекса, на месте предполагаемой встречи Сакья Пандита и царевича Годана, сына Угедэя и внука Чингис-хана, который в 1240 г. совершил военный поход в Тибет. Он разорил ряд монастырей, убил многих монахов и дошел до местности Пханъюл к северу от Лхасы. Годан просил рекомендовать одного из ученых тибетских лам для проповеди ему учения и одновременно врача, который бы излечил его от болезни. Выбор пал на Кунга Джалцана из школы Сакья, известного в будущем как Сакья Пандита. В 1245 г. он прибыл в ставку Годана, возможно, находившуюся там, где размещается этот музейный комплекс. Они встретились позже, в 1247 г. В 1249 г. Годан даровал школе Сакья власть над Тибетом, а Сакья Пандита действительно излечил Годана от какой-то болезни. В 1251 г. Сакья Пандита скончался в Ланьчжоу, о чем упоминалось выше, вскоре после этого умер и Годан.
Все эти события воспринимаются как символ подчинения Тибета Китаю. При Юань на том месте, где, возможно, была ставка Годана, выстроили гигантскую ступу, от которой и по сей день сохранилось основание. На территории, окружающей эту реликвию, построены новая ступа и место поклонения, как объясняли, для местных и приезжающих тибетцев. И музей, в котором экскурсоводы подробно рассказывают посетителям, как Тибет добровольно оказался в составе Китая. Я тоже прошел через эту экскурсию. Молодая женщина-экскурсовод подробно и старательно рассказывала обо всем, чем утомила и краеведа, и всех сопровождающих, но таков был ритуал.
Позже я дважды побывал и в мертвом городе Хара-Хото, который тоже уже стал местом официальных экскурсий, от аймака Эдзина к его воротам вела благоустроенная асфальтированная дорога. Кажется, сейчас до Эдзина есть железная дорога.
И хотя я так и не посетил западную часть территории Си Ся, район Ганьчжоу (Чжанъе) – Дуньхуана, но неоднократные посещения г. Иньчуань и его окрестностей, краткие поездки в Лавран и Увэй сильно повлияли на мои представления о территории Си Ся. Мало читать тексты и изучать карты, надо, по возможности, все видеть своими глазами.
* * *
Я счастлив посредством статьи участвовать в выпуске журнала, который также посвящен 80-летию со дня рождения моего товарища студенческих лет, давнего друга Виталия Епифановича Ларичева. Донской казак с отдаленного хутора, он с ранних лет проявил тягу к знаниям. Я всегда с уважением думал о том, как он после окончания семилетки покинул семью и учился в другом поселении, где была школа-десятилетка, неделями проживая в чужой се- мье, «на квартире». В нашей группе две трети студентов были не ленинградцами, и, надо сказать, большинство из них «сделали жизнь», заняв свое место в науке или практической деятельности. В жизни В. Е. Ларичева переломным оказался 1953 г., он стал археологом, исследователем Сибири. О его заслугах расскажут друзья и коллеги во время неизбежного застолья. А сам Виталий алкоголем никогда не увлекался. Он мог сердиться, его любимое: «это черт-те что!», – но был отходчив и всегда старательно делал свое дело. Еще я хочу сказать, что Виталий – литературно одаренный человек, об этом свидетельствуют его научнопопулярные книги. Он «грешил» и стихами, помню его пародию на слабого преподавателя истфака Степнищева, в которой фамилия последнего остроумно была представлена как «стопа нищего».
И напоследок я хочу отдать должное за любовь и долготерпение Инне, жене Виталия, которую тоже знаю со студенческих лет.
Материал поступил в редколлегию 05.08.2012
Eugenie I. Kychanov
SCIENTIFIG JOURNRY TO LAVRAN AND WUWEI