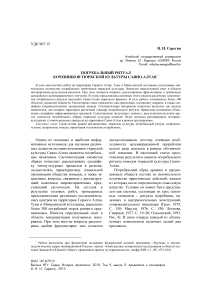Погребальный ритуал кочевников тюркской культуры Саяно-Алтая
Автор: Серегин Николай Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии и Северной Америки
Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В ходе многолетних работ на территории Горного Алтая, Тувы и Минусинской котловины исследовано значительное количество погребальных памятников тюркской культуры. Накоплен определенный опыт в области интерпретации результатов раскопок. При этом остаются вопросы, рассмотренные фрагментарно и требующие дальнейшего целенаправленного изучения. В статье представлены основные итоги анализа различных компонентов погребального ритуала населения Саяно-Алтая тюркского времени. В ходе работы учитывалось более 300 объектов указанной общности. Рассмотрены такие показатели, как ориентация, положение умерших, а также специфика сопроводительного захоронения лошади. Систематизация материалов позволила выделить две группы памятников, для которых характерен различный стандарт погребального ритуала. Приведены возможные объяснения специфики зафиксированных традиций. Сопоставление полученных данных с результатами изучения других элементов погребального обряда тюркской культуры позволит более детально рассматривать историко-культурные и этносоциальные процессы на территории Саяно-Алтая в раннем средневековье.
Саяно-алтай, раннее средневековье, тюркская культура, погребальный ритуал, сопроводительное захоронение лошади, ориентация и положение погребенных
Короткий адрес: https://sciup.org/14737295
IDR: 14737295 | УДК: 903'15
Текст научной статьи Погребальный ритуал кочевников тюркской культуры Саяно-Алтая
Одним из основных и наиболее информативных источников для изучения различных аспектов истории кочевников тюркской культуры Саяно-Алтая являются погребальные памятники. Систематизация элементов обряда позволяет рассматривать специфику этнокультурных процессов в регионе, осуществлять характеристику социальной организации общества номадов, а также затрагивать вопросы, связанные с реконструкцией комплекса мировоззренческих представлений скотоводов. На сегодня в результате полевых работ, проведенных представителями различных исследовательских центров на территории Горного Алтая, Тувы и Минусинской котловины, раскопано более 300 погребений тюрок раннего средневековья. Имеется определенный опыт в области интерпретации полученных материалов. При этом многие вопросы рассмотрены крайне фрагментарно или остаются дискуссионными, поэтому очевидна необходимость целенаправленной проработки целого ряда аспектов в рамках обозначенной тематики. В настоящей статье представлены результаты анализа погребального ритуала номадов тюркской культуры Саяно-Алтая.
Погребальный обряд древних и средне вековых обществ состоял из значительного количества практических действий , каждое из которых несло определенную смысловую нагрузку . Условно он может быть представ лен как система , состоящая из трех основ ных элементов – ритуала погребения , на земных и внутримогильных конструкций , сопроводительного инвентаря [ Грач , 1975. С . 158; Массон , 1976. С . 150; Леонова , Смирнов , 1977. С . 19–20; Ольховский , 1993. Рис . 4]. В свою очередь каждый из обозна ченных компонентов включает целый ряд признаков .
Основными показателями погребального ритуала кочевников тюркской культуры яв ляются положение и ориентация умершего , а также захоронения животного , нередко сопровождавшего человека . Различия в обо значенных признаках объясняются многими факторами , важнейшим из которых является комплекс мировоззренческих представле ний . Обобщение результатов работ в широ ком хронологическом и территориальном диапазонах позволило А . В . Подосинову [1999] продемонстрировать перспектив ность исследований в указанном направле нии . При этом очевидно , что объективно изучить тенденции в ориентации и положе нии погребенных можно лишь при условии всестороннего исследования конкретных общностей .
В ходе изучения археологических памятников кочевников тюркской культуры исследователи нередко обращали внимание на определенные закономерности в ориентации объектов или их отдельных элементов в пространстве. Некоторые наблюдения были сделаны при изучении поминальных памятников (оградок, изваяний, балбалов и «княжеских» комплексов) на различных территориях Центральной Азии (см.: [Гумилев, 1959; Евтюхова, 1952; Грач, 1961; Кубарев, 1979; 2001; Ермоленко, 1991; Войтов, 1996; Дубровский, 2005] и др.). Не меньший интерес вызывали особенности представлений тюрок о сторонах света, отраженные в погребальном обряде. Вопрос об ориентации умерших рассматривался в нескольких аспектах. В первую очередь, предпринимались попытки интерпретации направленности головы погребенного в определенный сектор горизонта. Большинство исследователей ограничивались констатацией почитания раннесредневековыми кочевниками стороны восхода солнца, опираясь зачастую на информацию, зафиксированную в письменных источниках. Но предлагались и оригинальные концепции. Развернутое объяснение ситуации, которая зафиксирована при изучении значительного количества погребальных памятников тюркской культуры, представила Б. Б. Овчинникова [1983]. По ее мнению, в погребальной практике кочевников отразились не только культ восходящего солнца, но и представление о том, что страна мертвых находится на западе. Поэтому покойник должен быть обращен головой на восток, а лицом – в иной мир, что подтвер- ждает и преобладающее направление лошади в сторону захода солнца. Данное положение получило развитие в работе С. П. Нестерова [1990. С. 51–85]. Особое внимание исследователь обратил на определение роли коня в погребальной практике тюркских племен, подчеркнув транспортную функцию животного при переходе в иной мир.
Вопрос о традициях в ориентации погребенных в курганах тюрок приобрел особое значение в связи с проблемой датировки комплексов, а также выделением хронологических этапов развития культуры раннесредневековых кочевников. Мнение о наличии связи между временем погребения и традицией в ориентировке впервые высказал О. Прицак, отметивший, что ранние тюрки имели северную ориентацию, позже смененную ими на восточную [Подосинов, 1999. С. 423–424]. В дальнейшем вопрос о возможности корреляции ориентировки погребенных с общей датировкой памятника решался, в основном, на материалах тюркской культуры, полученных с территории Тувы. Наиболее последовательно свою точку зрения излагал А. Д. Грач, первоначально выделивший два основных этапа в развитии культуры тюрок: VI–VII вв., когда характерной являлась восточная ориентация человека и противоположная лошади; VIII–IX вв., основной чертой которого является преобладание направления погребенного головой на север, северо-запад, а сопровождавшего его животного – на юг или юго-восток [Грач, 1960. С. 146–148; 1961. С. 91; Грач, Нечаева, 1960. С. 191]. В последующие годы автором был обозначен и третий период (IX–X вв.), отличающийся отсутствием коня и ориентацией умершего человека головой на север, северо-запад [Грач, 1966. С. 190], при этом в качестве наиболее ранних объектов тюрок были обозначены погребения по обряду трупо-сожжения. Такую концепцию поддержали Ю. И. Трифонов [1971. С. 121] и В. А. Грач [1982. С. 163], подчеркнувшие, что отмеченные закономерности следует распространять только на территорию Тувы, в то время как А. Д. Грач не исключал общей ситуации для всех регионов существования тюркской культуры в Центральной Азии. Противоположной позиции придерживался Л. Р. Кызласов [1965; 1969. С. 18–19, 178], в ряде работ отметивший, что для VI–VII вв. характерна меридиональная ориентация умер- ших (юг – север), а для VIII–IX вв. – широтная (запад – восток). Учитывали определенную зависимость общей ориентировки погребения и его хронологической позиции Д. Г. Савинов [1973. С. 236] и В. А. Могильников [1981. С. 34]. Другие же специалисты, предлагая свои варианты перио-дизационной схемы, отметили отсутствие прямой зависимости между сектором горизонта, в который направлены погребенные, и этапом развития тюркской культуры [Гаврилова, 1965. С. 65; Вайнштейн, 1966. С. 76–79]. Не согласен с самой возможностью резкого изменения традиций в реализации рассматриваемого элемента погребального ритуала А. В. Подосинов [1999. С. 424], отметивший глубокую связь ориентационных признаков с особенностями мировоззренческих представлений древнего общества.
Краткий историографический обзор по зволяет в общем виде обозначить круг вопросов , связанных с рассмотрением ва риаций в ориентировке и положении чело века и животного в курганах кочевников тюркской культуры . В данной статье пред принимается попытка на основе , в пер вую очередь , археологических материалов , а также привлечения сведений письменной истории и данных этнографии , рассмотреть обозначенные показатели .
Источниковую базу исследования соста вили более 300 погребений тюркской куль туры , исследованных на территории Горно го Алтая , Тувы и Минусинской котловины . При этом анализу были подвергнуты только те объекты , для которых имелась информа ция по всем интересующим нас признакам . В работе использовались , прежде всего , опубликованные материалы , а также до ступные отчеты о полевых исследованиях , в которых представлены результаты раско пок , не введенные в научный оборот .
Исследование проводилось на нескольких уровнях. Первоначально традиции в ориентации и положении человека и животного рассматривались для каждой территории по отдельности. Далее происходило сравнение полученных результатов. Подобный подход призван выявить общие и особенные черты в интересующих нас элементах погребального обряда носителей тюркской культуры в различных регионах ее распространения, что позволит поставить ряд вопросов, связанных с отдельными чер- тами мировоззрения кочевников, этнокультурными контактами номадов в раннем средневековье и т. д. В связи с тем, что преобладающим вариантом погребального обряда обозначенной общности являлась ингумация с лошадью (иногда в силу различных причин она заменялась на овцу), мы посчитали необходимым учитывать также ориентацию животного и его положение в могильной яме по отношению к человеку. Обратим внимание на то, кенотафы и «самостоятельные» захоронения лошадей рассматривались отдельно. Опыт интерпретации подобных объектов представлен нами в ряде специальных публикаций [Серегин, 2008; Дашковский, Серегин, 2008. С. 89–94], поэтому в настоящей статье данная информация не приводится.
Уже на начальном этапе работы в рамках исследуемой совокупности объектов было выделено две группы памятников , сущест венно различающихся по ряду показателей . В первую условно включены погребения тюркской культуры Горного Алтая и Тувы , во вторую – курганы , исследованные на территории Минусинской котловины . Ре зультаты , полученные в ходе анализа , при ведены с учетом подобного разделения .
Для погребального ритуала населения тюркской культуры Горного Алтая харак терна определенная вариабельность ориен тировок . В то же время очевидно преобла дание направления умерших головой в восточный сектор горизонта . Выделяется группа объектов , при изучении которых за фиксирована северная ориентация людей . Все сказанное справедливо и для обряда тюрок Тувы , с той лишь поправкой , что несколько меньше отмечено отклонений от востока ; в качестве второй традиции замет на ориентация людей на север . Совершенно иная ситуация характерна для погребе ний кочевников Минусинской котловины . В данном случае для людей наиболее рас пространена ориентация на запад с отклоне ниями на север и юг , при этом также зафик сировано северное направление .
Лошадь или овца присутствовали в 86,4 % 1 погребений тюркской культуры Горного Алтая, 86,3 % Тувы и 80,6 % Мину- синской котловины. Объекты с сопроводительным захоронением овцы зафиксированы дважды в Туве и в двенадцати случаях при исследовании памятников тюрок Среднего Енисея. Замена лошади в большинстве случаев была связана с половозрастными характеристиками умершего [Худяков, 2004. С. 48], что позволяет включать подобные объекты в круг «погребений с конем» [Нестеров, 1990. С. 84]. Преобладающая ориентация животных в курганах тюркской культуры Горного Алтая связана с западным сектором горизонта, значительно реже встречены северное и южное направления. Аналогичная ситуация характерна и для других территорий.
Остановимся на особенностях располо жения сопроводительных захоронений жи вотных относительно погребенных людей . Один из важных показателей – соотношение их ориентировки . Для Горного Алтая и Ту вы стандартным является противоположное направление лошади к человеку : 86,3 и 93,2 % соответственно . И вновь серьезным образом отличается традиция захоронения животных в курганах тюркской культуры Минусинской котловины : для погребений кочевников Среднего Енисея преобладает одинаковое направление человека и лошади (81,5 %). Интересной является корреляция рассматриваемого показателя с тем , с какой стороны расположено животное по отноше нию к умершему . Для памятников тюркской культуры Горного Алтая и Тувы характерна следующая закономерность : в абсолютном большинстве случаев лошадь ( овца ) нахо дилась слева от человека (90,5 и 93,2 %), однако тогда , когда наблюдалась широтная ( преимущественно северная ) ориентация умерших , животное зачастую было поме щено справа . При исследовании погребений тюрок на Среднем Енисее зафиксировано преобладание расположения животного справа от человека (66,6 %), присутствует и другая традиция (33,3 %).
При изучении особенностей ритуала носителей тюркской культуры зафиксировано несколько случаев, являющихся специфичными для обрядности рассматриваемой общности. Интересно, что некоторые из них находят аналогии в традициях, характерных для населения булан-кобинской культуры Горного Алтая «гунно-сарматского» времени. К таковым можно отнести расположение лошади и человека в одну линию, встречен- ное на могильнике Улуг-Хорум в Туве [Грач, 1982. С. 156–157, рис. 1], а также помещение животного над погребенным, зафиксированное дважды на территории Горного Алтая [Могильников, Елин, 1983. С. 129–130, рис. 4; Кирюшин и др., 1990. С. 233]. Довольно специфичной является традиция захоронения лошади рядом с человеком, но в отдельной яме, обнаруженная при раскопках впускного раннесредневекового погребения на могильнике Аржан в Туве [Комарова, 1973. Рис. 1]. В одном случае подобная ситуация встречена и при исследовании памятников булан-кобинской культуры [Матренин, 2005. С. 41]. Точка зрения о том, что раздельные погребения человека и коня характерны для раннесредневековых объектов могильника Кудыргэ [Азбелев, 2000. С. 4], на наш взгляд, не соответствует действительности. В связи с тем, что материалы известного некрополя традиционно привлекают повышенное внимание и нередко становятся основой для достаточно серьезных выводов, считаем необходимым рассмотреть обозначенный вопрос более подробно.
В пользу того, что в ходе исследования могильника Кудыргэ зафиксированы самостоятельные объекты (одиночные погребения людей и отдельные от них захоронения лошадей), а не «раздельные погребения человека и коня в разных, но стандартно соотнесенных ямах: могилы 1 и 2, 3 и 4, 6 и 8, 22 и 23» [Азбелев, 2000. С. 4], свидетельствует ряд показателей. В первую очередь, следует обратить внимание на значительное расстояние между обозначенными объектами [Гаврилова, 1965. Табл. II]. Кроме того, все погребения имеют отдельные наземные сооружения. Существенным является тот факт, что конское снаряжение присутствует не только в отдельных захоронениях лошадей, но и одиночных погребениях людей. Подобное дублирование не может быть объяснено в том случае, если могилы рассматриваются как единый комплекс, и не находит, насколько нам известно, аналогий в памятниках тюркской культуры. Итак, на наш взгляд, обоснованным является отнесение объектов № 1, 3, 8 могильника Кудыргэ к «самостоятельным» захоронениям лошадей, а могил № 2, 4, 6 – к одиночным погребениям людей. Отметим, что объекты без сопроводительного захоронения лошади, но с набором конского снаряжения получили определенное распространение в раннем средневековье, в том числе и в памятниках тюркской культуры (см.: [Грач, 1968. Рис. 49; Елин, Могильников, 1993. С. 219; Худяков, Борисенко, 1997. Рис. 1, 2; Кирюшин и др., 1998. Рис. 2, 3; Трифонов, 2000. Рис. 1] и др.). Объект № 22 могильника Ку-дыргэ, безусловно, относится к «парным» кенотафам. Специфика подобных памятников достаточно подробно раскрыта в ряде исследований [Савинов, 1987; Серегин, 2008. С. 145–146].
Продолжая рассмотрение основных эле ментов ритуала , отметим , что одним из важных признаков , характеризующих по гребения по обряду ингумации , является положение умерших . Для обозначенного показателя обряда кочевников тюркской культуры характерна наибольшая унифика ция – погребенные были положены вытяну то на спине . Незначительные отклонения не превышают порога единичности . В то же время важно отметить , что ряд памятников , для которых характерны специфичные при знаки в рамках обозначенного элемента ри туала [ Гаврилова , 1965. Табл . IX- Б ; Мо гильников , 1990. Рис . 14, 16; Худяков и др ., 1990. Рис . 4; Тишкин , Горбунов , 2005. Рис . 30], относятся к начальным этапам существования тюркской культуры . Эта особенность , как и отмеченные выше спе цифичные характеристики расположения лошади в некоторых погребениях , могут являться дополнительными показателями , подтверждающими наличие преемственно сти с традициями предшествующего вре мени . Тесную связь булан - кобинской и тюркской культур отмечает целый ряд спе циалистов [ Мамадаков , 1990; Горбунов , Тишкин , 2002; Кубарев , 2005. С . 19; Тиш кин , 2007. С . 194–195; Серегин , 2009 а ]. При этом следует признать , что подробное рас крытие механизмов данной преемственно сти требует проведения отдельного иссле дования .
Кратко остановимся на других специфических особенностях погребального ритуала кочевников тюркской культуры. Интерес представляют случаи различной ориентации лошадей в одном погребении, встреченные дважды на территории Горного Алтая [Гаврилова, 1965. Табл. XXIII; Соловьев, 1999. С. 24, рис. 4]. Судя по имеющимся данным, подобная ситуация зафиксирована и в Монголии [Худяков, Лхагвасурэн, 2002]. Не ха- рактерным для обрядности тюрок является помещение в могилу шкуры лошади, встреченное на могильниках Саглы-Бажи-III и Аймырлыг в Туве [Грач, 1968. С. 106; Овчинникова, 2004. С. 102]. Аналогии этой традиции в средневековье имеются в различных районах Центральной Азии, однако вопрос о культурной и этнической принадлежности погребений остается дискуссионным [Нестеров, 1990. С. 63–67].
Для выяснения закономерностей , харак терных для погребального обряда любой общности , определяющее значение имеют вопросы хронологии . Датировка конкрет ных памятников может прояснить ряд про блем , связанных с появлением , развитием и возможностью заимствования отдельных элементов обряда . На сегодня наиболее раз работанной является хронология погребаль ных памятников тюркской культуры Горно го Алтая [ Горбунов , Тишкин , 2003; Тишкин , Горбунов , 2002; 2005. С . 161–163]. Важной особенностью обозначенной территории является то , что влияние на обрядность дру гих культур , традиций кочевников было сведено к минимуму . Это особенно заметно при сравнении с политической историей Тувы и Минусинской котловины в раннем средневековье . Кроме того , Горный Алтай , по всей видимости , являлся местом форми рования тюркского этноса и культуры [ Горбунов , Тишкин , 2002; Тишкин , 2007. С . 192–194]. Важным обстоятельством явля ется тот факт , что именно на этой террито рии исследовано наибольшее количество памятников раннесредневековых кочевни ков . Все перечисленные обстоятельства по зволяют предполагать , что в Горном Алтае может быть зафиксирован погребальный обряд кочевников тюркской культуры в наиболее « чистом » виде . Разработанность хронологии , в свою очередь , позволит при близиться к разрешению вопросов , которые обозначились в ходе изучения особенностей ритуала номадов .
В первую очередь нас интересует выявление зависимости во времени существования «северного направления» в обряде кочевников, так как очевидно, что традиция ориентации умерших на восток присутствовала на всех этапах развития культуры. Имеющиеся материалы не позволяют говорить о прямой связи между рассматриваемыми показателями. Случаи меридионального направления человека и животного в курганах тюркской культуры Горного Алтая появляются на кудыргинском этапе и существуют до конца I тыс. н. э. Не выявлено явных закономерностей и в их географической локализации, хотя несколько больше подобных объектов в юго-восточной части рассматриваемого региона.
В то же время нельзя однозначно рас пространять сделанные выводы и на все остальные территории распространения тюркской культуры . В данном случае не обходимо учитывать специфику каждой об ласти в плане наличия этнокультурных кон тактов во второй половине I тыс . н . э . В частности , неоднозначной представляется ситуация с погребениями тюркской культу ры Тувы . Дело в том , что эта территория , по мнению многих исследователей , была под вержена наиболее сильному влиянию уй гурской культуры . Данное обстоятельство могло определенным образом повлиять и на обрядность тюрок . Осложняет ситуацию то , что на сегодня нет единой точки зрения по поводу выделения погребений обозначен ной общности [ Кызласов , 1969; 1981; Гав рилова , 1974; Худяков , Цэвендорж , 1982; Варламов , 1987]. Можно утверждать , что многие проблемы в этом отношении будут решены при уточнении периодизационной схемы развития тюркской культуры на тер ритории Тувы .
Не менее важным мероприятием пред ставляется разработка хронологии для по гребений раннесредневековых кочевников Минусинской котловины . Наиболее спор ными в данном случае являются вопросы о времени проникновения носителей обряда погребения человека с лошадью на Средний Енисей во второй половине I тыс . н . э ., а также об их этнической принадлежности . Не останавливаясь на рассмотрении иссле довательских позиций [ Худяков , 2004. С . 6–14], отметим , что большинство специа листов видят в появлении тюрок в Мину синской котловине результат завоеватель ной операции или миграции . Поэтому весьма актуальным можно считать выделе ние наиболее ранних погребений тюрок на Среднем Енисее для того , чтобы прояснить особенности формирования варианта куль туры на обозначенной территории .
Безусловно, сложнейшим вопросом является интерпретация элементов погребального ритуала с точки зрения специфики мировоззренческих представлений ранне- средневековых кочевников. На наш взгляд, невозможно предложить исчерпывающего объяснения для всех объектов, что обусловлено влиянием целого ряда факторов: различные традиции отдельных групп населения, влияние конкретной ситуации на особенность обряда, сложность этнокультурной и политической истории Саяно-Алтая в рассматриваемый период и многие иные. В данном случае мы можем говорить лишь о наличии определенных тенденций и рассматривать преобладающие традиции в погребальной обрядности раннесредневековых кочевников. При этом важно отметить, что попытки интерпретации должны быть основаны не только на анализе археологического материала – необходимо также привлечение данных этнографии, письменных источников, фольклорных произведений и др.
По всей видимости , следует согласиться с теми исследователями , которые считают , что конь в погребальном обряде раннесред невековых кочевников Центральной Азии выполнял функции по доставке хозяина в загробный мир ( см .: [ Липец , 1982; Овчин никова , 1983; Нестеров , 1990; Дубровский , Юрченко , 2000] и др .). В таком случае , ори ентировка лошади совпадала с направлени ем , в котором этот мир , по представлениям номадов , располагался . При исследовании погребальных памятников тюркской куль туры на территории Саяно - Алтая преобла дало направление животных на запад , за фиксирована также северная ориентировка . По этнографическим сведениям именно эти стороны горизонта в мировоззрении тюрк ских народов Саяно - Алтая ассоциировались с миром мертвых [ Львова и др ., 1988]. Кос венно подтверждают данное утверждение и сведения письменных источников , что не раз отмечалось специалистами [ Дубровский , 2005].
Отметим, что, согласно данным, полученным нами в ходе анализа погребальных памятников по методу В. В. и В. Ф. Генин-гов [1985], кочевники тюркской культуры при совершении похорон могли ориентироваться не по восходу, а по заходу солнца. В данном случае не исключено, что определяющей являлась ориентация лошади, однако, возможно, значение имело направление человека ногами на запад, что символизировало готовность к отправлению в загробный мир [Подосинов, 1999. С. 582–583]. Следует признать, что последние предположения отличаются наибольшей гипотетичностью, так как комплекс мировоззренческих представлений раннесредневековых кочевников, несмотря на наличие письменных материалов и опыт интерпретации археологических памятников, остается практически не изученным.
Рассмотрение основных элементов ри туала населения тюркской культуры Саяно - Алтая позволяет сделать ряд предваритель ных выводов . При этом необходимо учиты вать , что приведенные цифры могут впоследствии быть скорректированы с при влечением новых материалов , недоступных прежде источников и др ., однако выявлен ные тенденции , судя по всему , сохранят ак туальность .
Так представляется возможным обозна чить две группы памятников , различающих ся по ряду показателей , причем выявлена их территориальная обособленность . Для пер вой группы характерна ориентация человека в восточный сектор горизонта , противопо ложное направление лошади ( овцы ) и рас положение животного слева от погребенно го . Подобный набор признаков можно считать стандартом погребального ритуала 2 для тюрок Горного Алтая (53 %) и Тувы (60,78 %). К первой группе также относится большинство памятников , исследованных на территории Монголии . Вторая группа отличается тем , что человек и животное ориентированы на запад с отклонениями , причем лошадь ( овца ) находится справа от погребенного . Подобная ситуация является характерной для кочевников Минусинской котловины (49,25 %). Обратим внимание на то , что выявленные различия в погребаль ном ритуале являются важным положением для обоснования « минусинского » локально го варианта тюркской культуры [ Серегин , 2009 б ].
Помимо преобладающей восточной ( в Ту ве и Горном Алтае ) и западной ( в Минусин ской котловине ) ориентации погребенных выделяется северное направление , которое условно можно считать самостоятельной традицией .
В ходе исследования не выявлено прямой зависимости между хронологической пози цией погребения и ориентировкой человека и животного . Однако нельзя исключать , что впоследствии возможно обозначение неко торых закономерностей , причем наиболь шие перспективы представляет изучение памятников Тувы . Различные отклонения в ориентации и положении человека и жи вотного , учитывая сложную этническую и политическую ситуацию в Южной Сибири в раннем средневековье , могут быть связа ны с особенностями этнокультурных кон тактов .
Некоторые специфичные элементы ри туала раннесредневековых кочевников мо гут быть связаны с традициями , отмечен ными в ходе исследования погребений булан - кобинской культуры населения Гор ного Алтая « гунно - сарматского » времени . Основные показатели обрядности , харак терные для населения тюркской культуры , сформировались уже на раннем этапе ее существования .
Погребения людей без сопроводительно го захоронения животного не могут быть объяснены только лишь разницей в соци альном статусе кочевников . В то же время количество лошадей являлось одним из по казателей социального и имущественного статуса умершего .
Традиция совершения сопроводительно го захоронения лошади в погребальном обряде кочевников тюркской культуры тре бует дальнейшего рассмотрения и интер претации . Нами отражены только некоторые аспекты , связанные с этим компонентом ритуала номадов . Необходимо добавить , что захоронение лошади является этносоциаль ным маркером обряда раннесредневековых кочевников .
В связи с этим весьма перспективно изу чение одиночных погребений тюрок Саяно - Алтая , уже упомянутых в данной работе . В настоящее время обозначенная особен ность ритуала номадов не получила долж ного объяснения и исследована явно недо статочно . Большинством специалистов одиночные погребения в культуре кочевни ков раннего средневековья связываются с обрядовой практикой , характерной для на селения предшествующего времени , сохра нившего традиции , не характерные для « ал тайских тюрок » [ Кызласов , 1969. С . 22–23; Длужневская , Овчинникова , 1980. С . 83;
Нестеров , 1990. С . 50]. На наш взгляд , ответ на данный вопрос не столь очевиден . Это требует целенаправленного рассмотрения с учетом новых материалов и принятия во внимание специфики развития населения конкретной территории . Необходимо также специальное изучение вопросов , связанных с рассмотрением проявления половозраст ной дифференциации в ритуале населения тюркской культуры .
FUNERAL RITUAL OF THE TURK CULTURE ′ S NOMADS
OF SAYAN-ALTAY REGION