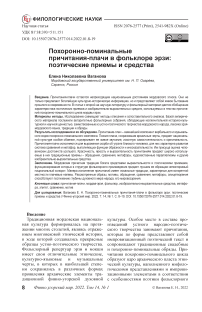Похоронно-поминальные причитания-плачи в фольклоре эрзи: поэтические приемы и средства
Автор: Елена Николаевна Ваганова
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Причитания-плачи остаются непреходящим национальным достоянием мордовского этноса. Они не только предлагают богатейшую культурно-историческую информацию, но и представляют собой живое бытование прошлого в современности. В статье с опорой на научную литературу и фольклорный материал дается обобщенная характеристика поэтических приемов и изобразительно-выразительных средств, используемых в текстах причитаний похоронно-поминального цикла мордвы-эрзи. Материалы методы. Исследование совмещает методы описания и сопоставительного анализа. Базой эмпирического материала послужили авторитетные фольклорные собрания, обладающие исключительной историко-культурной и научной ценностью, заимствованные из устно-поэтического творчества мордовского народа, лексика эрзя-мордовского языка, традиции и обряды. Результаты исследования и их обсуждение. Причитание-плач – важнейший компонент вербального и музыкального кодов похоронно-поминального комплекса. Поэзия плача, сохранившая архаичные черты, придает национальной культуре особое обаяние, подчеркивает ее живое звучание, исконную самостоятельность и оригинальность. Причитания-плачи исполняются для выражения скорби об утрате близкого человека, для них характерна развитая система сравнений и метафор, выполняющих функции образности и иносказательности. Им присуща оценка человеческих достоинств усопшего. Красочность, яркость и выразительность причитаниям придают широко используемые в них традиционные приемы – обращения, сравнения, метафоры, художественные параллелизмы и другие изобразительно-выразительные средства. Заключение. Мордовская причетная традиция богата средствами выразительности и поэтическими приемами, функционирование которых в структуре фольклорного произведения придает лучшим ее образцам неповторимый национальный колорит. Манера исполнения причитаний имеет локальные традиции, характерные для конкретной местности плачевые напевы. Рассмотренные образы, мотивы, обращения, сравнения, метафоры, олицетворения способствуют постижению глубины духовного мира народа, его мировоззрения.
Причитания-плачи, мордва-эрзя, фольклор, изобразительно-выразительные средства, метафора, эпитет, сравнение, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/147235768
IDR: 147235768 | УДК: 81ʼ38:393=511.151 | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.01.8-19
Текст научной статьи Похоронно-поминальные причитания-плачи в фольклоре эрзи: поэтические приемы и средства
Традиционная мордовская национальная культура формировалась на протяжении многих столетий, являясь отражением многовековой этнической истории, в ходе которой создавались прекрасные образцы устно-поэтического творчества. Фольклорный репертуар эрзи и мокши имеет свои отличительные этнические, культурно-языковые и музыкальные черты, в которых в наибольшей степени сохранились в различных формах проявления архаические элементы традиционной финно-угорской духовной культуры. Особое место в составе произведений устного народно-поэтического творчества занимают причитания, которые по форме представляют собой импровизационный поэтический текст и сопровождают традиционные свадебные и похоронно-поминальные обряды. Причитания похоронно-поминального цикла образуют ядро архаического пласта этнической культуры, наполненного мифологическими представлениями и импровизационными элементами в соответствии с особенностями поэтики фольклорного мышления. Истоки жанра причитаний-плачей, ранние формы погребальных обрядов восходят к первобытно-общинной эпохе.
Обзор литературы
Похоронно-поминальные причитания, как и сами обряды, бытующие у мордвы, привлекают внимание лингвистов, фольклористов, культурологов и музыковедов, историков и этнографов. Исследуемый жанр причитаний часто рассматривается в контексте похоронно-поминального комплекса, поскольку поэзия причитаний-плачей генетически восходит к погребальному обряду [11]. Н. Г. Юрченкова сосредоточивается на выявлении сходных общежанровых черт похоронно-поминальных причитаний родственных восточных финно-угорских народов и их национальных особенностей, затрагивает период возникновения причитаний, относя их ко времени существования единой праэтнической общности [16]. Культ поминовения усопших, поверья и суеверия после погребального периода исследует И. И. Потапкин [12]. С. В. Бог-дашкина анализирует изобразительно-выразительные средства мокша-мордовских похоронных причитаний [1]. К поэтике эрзянских поминальных плачей обращаются Е. Н. Мокшина и М. А. Нарватова [9]. Поэтический язык эрзянских причитаний похоронно-поминального цикла, устойчивые мотивы, плачевая культура, лексические средства вербализации плача становились объектом изучения автора статьи [2].
П. С. Шахов, И. В. Зубов исследуют сибирский локус мордвы-эрзи Залесовского Причумышья, анализируют залесовские традиционные похоронно-поминальные причитания с функционально-семантической точки зрения. При этом они отмечают, что «исполнение эрзянских причитаний, духовных стихов вместе с пением православных молитв составляет музыкально-драматургическое оформление похоронно-поминальных ритуалов исследу-
PHILOLOGY емой традиции» [15, 287]. Аналитическое описание погребального фольклорноэтнографического комплекса по полевым записям в эрзя-мордовских селениях Зале-совского района Алтайского края представлено в работе Н. В. Леоновой, П. С. Шахова [7].
Несмотря на обширную научную литературу, посвященную причитаниям-плачам мордвы, существует ограниченное количество работ, сосредоточенных на языке и поэтике данного жанра, на традиционных причетных формулах и приемах. Этим и объясняется актуальность работы. Статья связана с выделением причитания-плача как особого жанра похоронно-поминальной обрядности, а также с изучением семантики текстов, наиболее выразительных поэтических средств, привычного круга поэтических образов и мотивов эрзянских причитаний. Объект исследования – тексты причитаний похороннопоминального цикла. Материалом для анализа послужили произведения устного народного творчества, лексика эрзя-мордовского языка, традиции и обряды эрзи1.
Результаты исследования и их обсуждение
По данным лексикографических источников, эрзянская обрядовая терминология, связанная с похоронными причитаниями, представлена следующими понятиями: лайшема ‘причитание; оплакивание; плач, рыдание’; лайшемс ‘оплакивать, причитать; плакать в голос, рыдать, *гудеть, издавать заунывные звуки’; лайшевтемс ‘оплакивать’; лайшезевемс ‘начать плакать; зарыдать’; авардемс ‘плакать, рыдать’; аварькс ‘горе’; рангома, авардема ‘вопль’; лажамс ‘оплакивать, печалиться, тосковать’; лажамо ‘оплакивание, причитание’; лажакадомс ‘зарыдать, заплакать в голос’; ниреждемс ‘всхлипывать; рыдать’; рангомс ‘кричать; громко плакать’; куломс ‘умереть’; кулозь ‘умерший’; вайгель ‘голос’; лайшема вай-
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ гель ‘голошение’; кандолазт ‘гроб’ или кудо ‘гроб; изба, дом’; экшилицят ‘обмы-вальщики’; матедевемс-удомс ‘заснуть-спать’; ченярдомс-авардян ‘плакать-ры-дать’; шлямс-нардамс ‘обмыть-обтереть’; пурнамс-сэрнямс ‘собрать-снарядить’; ор-шамс-карксамс ‘одеть-опоясать’2.
Интерес представляет лексический ряд разнообразных глагольных форм, при помощи которых плакальщица описывает обрядовое причитание как действие. В традиционной эрзянской культуре принято дифференцировать обрядовую терминологию, различать обозначения для свадебных ( урнемат ) и похоронно-поминальных ( лайшемат ) причитаний.
Яркой особенностью поэтического языка причитаний является его излишняя атрибутивность. Эпитет считается одним из важных элементов стилистики народно-поэтического текста. Стиль фольклорного произведения характеризуется употреблением постоянных эпитетов, которым свойственны стабильность, отточенность веками, что связано с формировавшейся длительное время традицией. Т. П. Слесарева подчеркивает, что в фольклорном эпитете, как правило, сохраняется лингвистическая архаика, в частности историческая семантика, однако лексико-семантическая структура фольклорного эпитета отличается от структуры соответствующего прилагательного в современном литературном языке [14, 121 ].
Языковой материал фольклорного произведения позволяет выделить наиболее распространенные в причитаниях эпитеты: кельме ‘холодный’, который сочетается с именами существительными калмо ‘могила’(с. 138; 140), ки ‘дорога’ (с. 138; 140), ян ‘тропа’ (с. 138; 140), ёжо ‘самочувствие, состояние; настроение’ (с. 55; 58); вечной ‘вечный’ – с существительными тарка ‘место, постель’ (с. 128; 132), кандо-лазт ‘гроб’ (с. 137; 139), удомо ‘сон’ (с. 23; 32); вековечной ‘вечный’ – с существительными таркине ‘местечко’ (с. 149; 159), эря-мо ‘жизнь’ (с. 128; 132), кандолазт ‘гроб’ (с. 137; 139), одежат ‘одежда’ (с. 24; 33); пси ‘горючий’ – с существительным сель- ведть ‘слезы’ (с. 146; 147); лембе ‘теплый’ – с существительным кудо ‘дом’ (с. 128; 132); валдо ‘светлый, чистый’ – с существительными ойме ‘душа’ (с. 112; 118), вальма ‘окно’ (с. 52; 54); раужо ‘черный’ – с существительными кулома ‘смерть’ (с. 112; 118), мода ‘земля’ (с. 57; 59); чевте ‘мягкий’ – с существительным ацамо ‘постель’ (с. 137; 139); паро ‘хороший’ – с существительным вакан ‘миска’ (с. 137; 139); пижень ‘медный’ – с существительным сурсеме ‘гребень’ (с. 137; 139); калмонь ‘могильный’ – с существительным орта ‘ворота’ (с. 138; 140); сиянь ‘серебряный’ – с существительными мукорь ‘чурбан’ (с. 138; 140), вакан ‘миска’, блидя ‘блюдо’ (с. 137; 139); парсеень ‘шелковый’ – с существительным столешникесь ‘столешница’ (с. 138; 140); кепе ‘голый’ – с существительным пильге ‘ноги’ (с. 146; 147); ломанень ‘чужой’ – с существительным сускомо ‘кусок’ (с. 146; 147); мазый ‘красивый’ – с существительным какай ‘дитятко’ (с. 148; 159); чачи ‘родной’ – с существительным мода ‘земля’ (с. 149; 159).
Как демонстрирует приведенный список, круг эпитетов замкнут и четко очерчен традицией, немногими средствами обозначается многое. Колоративы – цветовые эпитеты – вносят особый вклад в символику причитаний-плачей.
С древних времен смерть представлялась переходом в иной мир. По словам С. Е. Никитиной, «значимым – незначимым может быть и плохое, и хорошее. Смерть, например, в большинстве случаев нечто очень плохое и – очень значимое» [10, 147 ]. Богатый материал для понимания представлений о существовании после смерти, о взаимосвязанности земного и потустороннего миров, об отражении этих представлений в архаических ритуалах содержится в причитаниях. Согласно архаичным верованиям мордвы, умершие могли не только общаться со своими живыми сородичами, но и влиять на природные явления, способствовать хорошему урожаю, а также взаимодействовать с добрыми и злыми силами – мифологическими существами3.
По народным представлениям, отраженным в причитаниях, смерть имеет антропоморфные черты. Наиболее устойчивыми сочетаниями для ее наименования являются раужо кулома ‘черная смерть’ , раужо ёмамо ‘черная погибель’. Для обозначения смерти широко используются лексемы оймень саи куломось ‘душегубица-смерть’, ёмамо ‘погибель’ .
Показателен следующий пример, в котором описывается приход смерти в дом: Кода совить, ёмамо, / Тон мазы какам кардайс, / Кода молить, кулома, / Тон пиже какам кенкшензэ лангс, / Кода пан-жик, ёмамо, / Тон мазы какам / Келейстэ керязь кенкшензэ, / Кода совить, кулома, / Тон пиже какам путонь кудос, / Монь тякам ульнесь, ёмамо, / Ацань-вельтянь таркасо, / Сэрейстэ путозь чевте прялкс лангсо. / Тон кода молить, кулома, / Тон сонзэ малас, / Тон кода молить, ёмамо, / Тон сонзэ ваксс, / Тон ваныть-арась, ку-лома, / Монь пиже какам кудонзо? / Тон варштыть-арась, ёмамо, / Пиже какам тяканзо лангс? / Тон варштыть-арась, ку-лома, / Пиже какам саень поланзо лангс? / Сявордык, кулома, / Тон пайстомо сэрен-зэ, / Саик, ёмамо, / Тон валдо оймензэ . «Как вошла ты, погибель, / Во двор любимого дитятко, / Как пришла ты, смерть, / К двери моего любимого сыночка, / Как отворила ты, погибель, / Моего любимого сына / Широко вырубленные двери? / Когда вошла ты, смерть, / В дом любимого дитятко моего, / Мое дитятко лежало, смерть, / На прибранной, постланной кровати, / На высоком мягком изголовье. / Когда подошла ты, смерть, / Поближе к нему, / Когда подкралась ты, погибель, / К нему, / Посмотрела ли ты, смерть, / На дом моего любимого дитятки? / Посмотрела ли ты, погибель, / На моего сына? / Посмотрела ли ты, смерть, / На жену любимого сыночка? / Сгубила ты, смерть, / Моего несчастного, / Отняла ты, погибель, / Его светлую душу!» (с. 149‒150; 160‒161).
Нередко смерть описывается воинственной, вооруженной косой или острой саблей: Косто сакшнось те смертесь? / Веленть кувалт ютакшнось, / Панжа-до ортанок годявкшнось, / Минек орта-ванть совакшнось, / Тон васень стречас понгокшныть, / Пшти саблянзо таргизе, / Пря куншкава эшкинзеть, / Чачи превде маштынзеть. / Пильге ланга эшкинзеть, / Пильге санот керинзе. «Откуда эта смерть явилась? / Вдоль села она прошла, / Наши ворота открытыми оказались, / В наши ворота вошла, / Тебя первого встретила. / Обнажила она острую саблю свою, / По голове тебя ударила, / Лишила тебя разума! / Ударила она тебя по ногам ‒ / Жилы у ног твоих подрезала» (с. 188‒189; 190).
Смерть предстает в антропоморфном облике, безобразной и безжалостной, нагоняющей страх и активно уничтожающей жизнь: Пильгезэть, тетяй, аравлинь, / Обор куломат сон ашти / Пелюманек-саблянек. / Тетяй, се ватось / Пильге санонь керицясь, / Рунгстот санонь печкицясь. / Пек уш, те-тякай, страшной неяви, / Пек уш, тетя-кай, а мазы. / Секс, а смеян, тетякай, / Мон малазот арамон, / Мон малазот ней са-мон. «У ног твоих встала бы я ‒ / Смерть твоя стоит там страшная, / Косами-саблями вооруженная. / Та смерть / Подрезает жилы на ногах, / Во всем теле жилы подрезает. / Очень, батюшка, страшной кажется, / Очень, батюшка, она безобразная. / Потому не смею я, батюшка, / Около тебя встать, / Подойти к тебе поближе (с. 127‒128; 132).
У всех финно-угорских народов, в том числе поволжских финнов, отношение к месту упокоения предков, погребальным и поминальным обрядам всегда было значимым, как и сама смерть. К выбору места погребения мордва относится со всей ответственностью, серьезностью и осторожностью, что можно проследить по произведениям устного народного творчества. Это место должно быть вдали от болотистой местности, ивовых зарослей, оврагов и ям, осины, считающейся у мордвы проклятым деревом: Шкинень-аванень таркине, / Ванынь-корьманень местыне. / Илядо варшта чей пуло, / Иля-до варшта каль куро. / Варштадоя покш поляна лугине, / Пиже парсеень тикши-не. / Полянанть куншкас ёрынкать, / По-лянанть куншкас варштынкать. / Ещё илядо тынь варшта / Лутков-латков таркине, / Ведень чудевкс местыне. / Шкинень авань, монь корьмань, / Мако
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ цецят одежанзо, / Илинзе сае пиже че-керне, / Илинзе вално тюжа илыне. / Еше илязо уль маласо / Пазонь сюдовт пой чувто, / Нишкень проклянянь дерева. / Пиря песэнзэ улезэ / Пазонь вечкема кипарисовой чувтыне, / Пельге песэнзэ улезэ / Нишкень кельгема дерева, / Мазы умарь чувтыне . «Местечко для моей родной матушки, / Уголочек для моей кормилицы. / Не выбирайте вы болотистое, / Не выбирайте ивняк. / Облюбуйте вы большую поляну-лужок, / Где растет трава, как зеленый шелк. / Посреди поляны заметьте, / Посреди поляны присмотрите! / Еще не выбирайте / Место, где овраги-ямы, / Место водой размытое, / Чтоб у моей матушки, моей кормилицы, / Одежда, как маков цвет, / Не покрылась бы плесенью, / Не затянулась бы желтым илом. / Еще, чтобы не было вблизи / Проклятой богом осины, / Проклятого Нишке дерева, / Чтоб в изголовьи было у ней / Богом любимое кипарисовое дерево, / Чтоб у ног ее было / Дерево Нишке любимое, / Красивая яблоня!» (с. 112‒113; 119).
Упомянутые в приведенном фрагменте плача словосочетания чей пуло, каль куро уходят корнями к уральскому языку-основе. Этимологический словарь В. И. Вершинина трактует эрзянскую лексему чей как ‘осока’4. По данным словаря Х. Паасо-нена, чей пуло означает ‘болотистая местность, камышовая заросль’5. Слово пуло встречается также в писцовых книгах в названии бортных ухожаев (угодий) мордвы в виде -бола , компонент -пуло определяется как словообразовательная частица, связанная с собирательностью6. По Этимологическому словарю В. И. Вершинина, каль – ‘ветла, ива’7. Согласно Уральскому этимологическому словарю, лексема kaĺ-kuro означает ‘за́росли ивняка’8.
Этнологами и фольклористами подчеркивается высокая степень аксиологично-сти фольклорных произведений, которая присуща в целом народной культуре и проявляется в потребности приписывать всем элементам окружающего мира как положительные, так и отрицательные свойства [3, 53; 13]. В поэтическом языке причитаний эрзянского похоронно-поминального цикла присутствует оценочное, эстетически ориентированное восприятие деревьев: умарь чувтыне ‘яблоня’ называется красивой (мазы), кипарис чувто ‘кипарисовое дерево’ – любимым (кельге-ма), пой чувто ‘осина’ – проклятой (про-клянянь). Приведенные эпитеты с положительной и отрицательной коннотацией небезосновательно связаны с почитанием деревьев и их культом.
Ива привязана к влаге, поэтому места произрастания ивовых насаждений – берега и поймы рек, болота – не считаются пригодными для захоронений. Осина, по мнению И. Н. Михалкович, символизирует тоску и печаль, что в какой-то степени обусловлено природными свойствами дерева: дрожанием листьев и ветвей, горьким вкусом коры. «Горькая осина со значением печали входит в символические картины-описания, изображающие определенную ситуацию: горечь и переживания плакальщицы и окружающих» [8, 76 ]. Такое представление дублируется в мокшанской загадке: Вирьса сюдов шуфта, / Вармафтома шум-най . «В лесу проклятое дерево / Без ветра шумит»9. В фольклорно-мифологическом восприятии осина преимущественно ан-тропоморфизирована, о чем свидетельствуют мокшанские загадки, в которых она описывается через признаки трясущийся , дрожащий, поющий, пугливый , а шелест листвы приравнивается к человеческому пению: Кивок аф эвфнесы, / А трназь эряй. «Никто не пугает, / А всегда дрожит»; Кивок аф эвфнесы, / А сокоты. «Никто не пугает, / А дрожит»; И либорди, морай, / И лиемс ёрай, / Вастстонза аф срхкави. «И шелестит, и поет, / И летать хочет, / А с места не тронется». В других загадках осина уподобляется девушке: Вальмала стирня, /
Кельмофтомонга сокоты . «Под окном девушка, / Без холода дрожит»10.
Н. А. Криничная считает, что в традиционных воззрениях крестьян всегда присутствует представление о деревьях-людях, деревьях-животных и даже деревьях-лю-дях-животных, а синкретизм различных фито-, зоо-, антропоморфных свойств в единый синтетический образ зиждется на архетипических проявлениях [6, 78 ].
В поэтическом языке плачей лежит иносказательная речь. Различные табу, связанные с обрядами, способствуют метафорическим заменам слов «смерть», «умереть», «умерший(-ая)», «гроб». Например, возникают семантические ассоциации смерти со сном: Матедевить-удовить, / Вечной удомсо тон удат. «Заснула-задремала ты, / Вечным сном спишь!» (с. 23; 32).
В приведенном ниже поэтическом тексте присутствуют мотивы описания ‘вечного дома’: Тонеть вечной кудонь тееме / Роднянь лелятне пурнавсть. / Кодат ней лазтнэнь мон кармавтан? / Ало лазось улезэ пекшень ‒ / Пекшень ёжо ‒ сола-ня, / Пекшень ёжо ‒ валаня. / Седе чевте телантень улезэ. / Бокаватне улест чачи умаринань, / Лангсо лазось – кипарисовой. / Духовой чине улезэ. / Потмось улезэ оложазь, / Лангозо улезэ сёрмадозь! «Для тебя, родимая, вечный дом / Собрались делать родные дядюшки. / Какие доски велю им [строгать]? / Пусть нижняя доска из липы будет ‒ / Липовая [доска] ‒ мягкая, / [Доска] липовая ‒ гладкая, / Мягче будет твоему телу, / Пусть боковые доски будут из живой яблони, / А крыша чтоб была кипарисовая, / Чтоб приятно пахло от них. / Чтоб внутри они были луженые, / А сверху были расписаны!» (с. 26; 35).
Причитания-плачи отражают народные представления о свойствах и характеристиках деревьев, о чем свидетельствует семантика слов, обозначающих оценку, в таких оппозициях, как хороший – плохой, добрый – злой, правильный – неправильный, красивый – безобразный, любимый – нелюбимый. Народная шкала ценностей признает хорошим то дерево, которое отличается обильным цветением красных
PHILOLOGY или белых оттенков, возле которого обитают звери и заливаются сладкоголосые соловьи. В противоположность им отрицательной коннотацией обладают деревья, которые произрастают на болотистой местности, с обвисшими ветвями, пожухлой листвой, прогнившей сердцевиной. В причитаниях упоминаются предпочтительные для изготовления гроба породы деревьев: вечнозеленый кипарис, яблоня, липа, что, безусловно, связано с культом деревьев и мифологической покровительницей леса Вирь-авой [13]. Кипарис считается самым подходящим деревом для этой цели. Благодаря своей мрачной темно-зеленой листве, негниющей древесине он снискал славу «траурного» дерева.
Мотив перечисления деревьев и их пригодности/непригодности – типичное явление эрзянских причитаний-плачей: Вечной стройнятнень путыть. / Эзь тук, авкай, мелезэнь: / Те ведь чувтось, ав-кай, / Покш запойс чачокшнось, / Запой куншкас касокшнось, / Сэрензэ касомс / Кувалманзо ведь чудесь, / Потмакссонзо тина аштесь; / Сэрнень пелев нувараль, / Седеезэ раужоль, / Лопа пелев пужозель. / Кизэ чинень самнестэ / Якстере панч-со эзь панчне, / Ашо тветсэ эзь тветя, / Звернеть эзть яксе алганзо, / Цёковт эзть морсе прясонзо; / А кипарис чувтонь гроб алксот, / А ладынь чувтонь боканзо, / А тёсонь чувтонь лангозо . «Вечный дом рубят. / Не понравился он мне, матушка: / То дерево, моя матушка, / В низине зародилося, / На болоте выросло. / Когда росло оно, / По нему вода текла, / Тиной забивалось нутро его. / Ветви его обвисали, / Сердцевина подгнивала, / Листья его были жухлые! / Когда наступали летние дни, / Красным цветом не распускалось, / Белыми цветами не цвело, / Звери дикие не бегали под ним, / Соловьи не пели на нем! / Не из кипариса дно гроба твоего, / Не из ладанного дерева стены, / Не из теса крыша его!» (с. 44; 48).
В эрзянском плаче по матери причитающая сетует на то, что в ‘вечном жилище’ отсутствуют двери – якамс-пакамс кенкшкезэ , светлые окна – валдо зеркала
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ вальмазо , лавочки – озадо аштемс эзем-зэ , теплая печь – лембе каштом : Шкинень, авкай, авакай, / Шкинень авкай, корьма-кай, / Васькамотне ‒ лелятне / Вечной кудо теть теить, / Вечной стройня теть путыть. / Арась, авкай, якамс-пакамс кен-кшкезэ, / Арась, авкай, валдо зеркала валь-мазо, / Еще арась, авкай, / Озадо аштемс эземзэ, / Еще арась, авкай, / Сэреди рун-гонь эждемс / Лембе каштом (о) лангозо. «Родимая матушка, матушка, / Родимая матушка, кормилица моя, / Любимые мои дядюшки / Вечное жилье строят тебе, / Вечный дом рубят. / Нету, родимая матушка, / Дверей у него входить-выходить, / Нету, кормилица-матушка, / Светлых, как зеркала, окон у него. / Еще нету, матушка, / Для сидения лавок у него, / Еще нету, родимая, / Теплой лежанки, печной, / Чтоб согреть больное тело твое» (с. 43; 47).
В текстах причитаний встречается также образ гроба с окошком. Мордовские гробы повторяли форму колод и делались с окошечком в крышке или же с символическим обозначением окошечка зарубками или надрезами на плоскости гробовой крышки. На стенках гроба топором, ножом или углем наносилось изображение окон, чтобы покойник в них “смотрел”11. Существовала традиция нанесения родовых знаков на могильных крестах, своего рода обозначения границ территории мертвых12.
Как свидетельствует следующий фрагмент, в похоронном обряде мордвы при проводах умершего в иной мир большое внимание уделяется выбору одежды, за которую не придется слышать осуждения или испытывать жгучее чувство стыда, болезненные переживания: Кодат вековечной одежат, / Кодат бесконечной одежат! / Ламо какань оршицят! / Ламо какань пурныцят, / Паро тевень теицят. / Ней вансынь, кодат / Бесконечной одежат, / Кодат вечной пурнавксот, / Иля прима виськс ломань икеле, / Иляст ульть берянь одежат. / А примат, авай, виськс, а примат / Вековечной ялгадот – / Мако лопат одежат, / Ашо шелконь тонь саванот. /
А примат, авай, виськс, а примат . «Какова вековечная одежда твоя, / Как навсегда одели тебя! / Чтоб не стыдно было от людей, / Чтоб не носила одежды плохой! / Не примешь, матушка, стыда, не примешь, / От вековечных подружек своих – / Одежда твоя, как лепестки мака, / Как белый шелк твой саван, / Не примешь, матушка, стыда, не примешь!» (с. 24–25; 34). В народе до сих пор сохраняется устойчивая вера в то, что предстать перед Богом на том свете придется именно в таком одеянии ‒ вековечной одежат . «К смерти достойной, человеческой причислялись обязательные ритуалы обмывания покойника, обряжение его в смертную одежду, отпевание, церковная служба и ряд других» [3, 60 ]. Когда же эти ритуалы не соблюдались, кончина считалась позорной, нехорошей.
Предпочтение отдавалось одежде, сшитой вручную, без швейной машинки, особое значение придавалось времени изготовления одежды, цвету и материалу. Так, Г. А. Корнишина, обращаясь к существующим у финно-угорских народов Урало-Поволжья обычаям готовить «смертную» одежду, отмечает: «Шить ее стараются преимущественно из натуральных материалов: шерсти, ситца, сатина и т. п. Иногда и сейчас пожилые люди изготавливают ее по старинному обычаю: материал не режут ножницами, а рвут; швы прошивают не швейной машинкой, а вручную, при этом стежки направляют только вперед. Считается, что в противном случае умершие будут “возвращаться домой”» [5, 159 ]. В настоящее время такой наряд, декорированный особыми элементами шитья, стал большой редкостью, архаичные приемы шитья уходят в прошлое, а точная семантика и первоначальный смысл такого искусства постепенно утрачиваются.
По мнению исследователей, в традиционной культуре кладбище представляется святыней, осознается неким «местом контактов между мертвыми и живыми… местом общинного общения живых людей» [4, 117]. С древности считалось, что усоп- шие родственники помогают живым при начинании какого-либо семейного или родового дела, содействуют в решении общественных или семейных споров.
Кладбища у мордвы пользовались особым почитанием, в местах захоронений существовал запрет на сенокос, сбор ягод и грибов, рубку деревьев на дрова. Живыми оказывалось почтение умершим предкам в виде ухода за могилой и высаживания ароматических трав, которые наполняли кладбища своеобразной атмосферой. Как видно из приведенного ниже примера, в обращении к умершей матери дочь причитывает о неотложных заботах и предстоящих обязанностях по обустройству могилы. Высаживание благоухающих культур в виде душистого кипариса и чабреца, иначе называемого богородской травой ‒ ця-пор тикше , служит своеобразной демонстрацией дочерней любви, памяти, веры: Мезе ней диринь авань / Калмонзо лангс чачовтан? / Мезе ней касовтан? / Цяпор тикше касозо, / Цяпор тикше духовой. / Ютатано кизэнь чине паксява, / Пувин-деряй варма калма ёндо, / Цяпор тикше чине марятан(о) – / Чарькодтяно, авай, тонезэть. / Пря пезэть, авакай, / Кипарис чувто касовтан, / Кипарис чувто духовой. «На могиле родимой матушки / Что я теперь выращу? / Пусть богородская трава вырастет, / Борогодская трава душистая, / Пойдем в летний день по полю, / Подует ветер с кладбища, / Запахом богородской травы пахнет – / Вспомним, матушка, о тебе! / У изголовья твоего, матушка, / Кипарисовое дерево посажу, / Кипарисовое дерево душистое!» (с. 31–32; 40–41).
В репертуаре причитаний встречаются такие фрагменты, когда трудная жизнь усопшей противопоставляется воображаемой спокойной жизни в загробном мире среди красивых яблонь на зеленеющем лугу: Ков те оймесь теема? / Козонь те рабось путома? / Пингензэ молемс / Бе-рянь эрямо сон эрясь, / Берянь векке сон и печксь. / Адядо путынк / Пиже-зеле-ной луга лангс / Мазы умарень чувто юткс. «Куда нам эту душу деть? / Куда эту рабу определить? / До скончания века своего / Трудную жизнь она прожила, / Трудную пору промаялась. / Давайте положим ее / На луг, зеленеющий кругом, / Среди красивых яблонь» (с. 43; 46‒47).
В приведенных далее фрагментах причитаний представлены такие тропы, как синтаксический параллелизм, повторы, метафоры и образные сравнения, выполняющие оценочную функцию: Вайх, авакай, корьмакай, / Ужо, авакай, простясынь / Ламонь яки пильгинеть, / Сиянь копейкат кенжинеть. / Ещё, авакай, простясынь / Кавто кунды кединеть. / Ещё, авакай, про-стясынь / Дёлямо-балямо кедь куншкат. / Ещё, авкай, простяса / Чевте кенерькун-дынеть; / Ещё, авкай, простяса / Ламонь мари седееть, / Седееть, седей куншки-неть; / Ещё, авкай, простяса / Ламонь корты кургинеть, / Мако лопат турвинеть . «Ох, матушка, родимая моя, / Ужо, матушка, попрощаюсь / С натруженными ногами твоими, / С ноготками ‒ серебряными монетами! / Еще, матушка, попрощаюсь / С заботливыми руками твоими! / Еще, матушка, попрощаюсь / С ладонями, которые баюкали! / Еще, матушка, попрощаюсь / С ласковыми объятьями твоими! / Еще, матушка, попрощаюсь / С многочутким сердцем твоим, / С сердцевиночкой сердца твоего! / Еще, матушка, попрощаюсь, / С многоречивыми устами твоими, / С устами твоими ‒ лепестками мака! (с. 103; 110); Ох, авакай, шкинекай, / Ох, авакай, корь-макай! / Ужо, авакай, тирямонь кис лажа-тан, / Кастомань кис авардтян. / Ванан, авакай, кода пурназят-сэрнязят, / Кода оршазят-карязят. / Ашо коцташкт ‒ пиль-гинеть, / Московский карть ‒ котынеть, / Потмо рисьметь тонь карькскеть, / Мако лопа ‒ пацинеть, / Мако лопа ‒ руцинеть. / Липнезь липни пацинеть . «Ох, матушка, родимая моя, / Ох, матушка, кормилица моя! / Поплачу за то, что воспитала меня, / Попричитаю за то, что вырастила меня! / Посмотрю, матушка, как ты одета-наряже-на, / Как ты одета-обута. / Как скатка холста обмотаны ноги твои, / Словно московские коты, лапти твои, / Словно цепочки, оборы твои, / Словно маков цвет, платочек твой, / Словно цветок мака, платье твое, / Колы-шется-волнуется платочек твой!» (с. 56; 58); Качамнес лисят, авакай, / Валдо гор-ниця кудостот, / Кснавнекс певерят, ава-кай, / Кустема тон певат . «Словно дым,
(^Jl ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ выходишь, родная матушка, / Из светлой горенки – дома своего, / Словно горошина, ты катишься / По крыльцу своему ты на улицу» (с. 44–45; 48); Вейкенек туи дикой степка сон звернекс, / Норовтомо ривесь-кекс. / Вейке кадови пиже лугава ськамон-зо ливтни нармушкакс / Вирь чиресэ килей прясо ськамонзо кукорды кукинекс . «Я одна теперь пойду по дикой степи, словно зверек, / Словно лиса, оказавшаяся без норы, / Я одна теперь останусь над зеленым лугом / Летать одинокой птицею, / Одинокой кукушечкой на березе, / Растущей у опушки!» (с. 191‒192).
Одним из основных выразительных средств языка эрзянских причитаний являются дилексемные комплексы. В приведенных примерах дилексемное слово пурнамс-сэрнямс , согласно Этимологическому словарю В. И. Вершинина, означает ‘собирать наилучшим образом, украшать, наилучшим образом проводить в последний путь’13. Orčams-karams / оршамс-ка-рямс , по словарю Х. Паасонена, связано ‘с тщательным процессом одевания, наряжением’14. Дёлямо-балямо образовано путем сложения двух основ глагольных форм: балямс ‘бить палкой’ / балявтомс ‘ударить’ и дёлямс ‘лелеять, холить’15. Во время игры с ребенком его держат на коленях, время от времени подбрасывают вверх со словами дёли-дёли-дёшке .
Характерной чертой причитаний-плачей является их построение в форме обращений. В причитаниях, исполняющихся при похоронном обряде, причитывающая постоянно обращается к умершему человеку: Ох, эйднемат, левкскемат, / Чарады чинем, цёрынем. «Ох, сыночек, дитятко мое, / Дитятко ‒ солнце восходящее мое» (с. 146‒147); Ох, авакай, корьмакай! / Ох, авакай, тирякай! / Ох, авакай, ванынем, / Авакай ‒ ашо палинем, / Авакай ‒ чевте руцинем, / Авакай ‒ ашо ловсынем, / Корь-макай ‒ тюжа оинем. / Авакай, жальне маряват, / Авакай, мила неяват. «Ох, матушка, кормилица, / Ох, матушка, родимая моя! / Матушка, родительница! / Матушка – рубашка моя белая, / Матушка – ты платье мое красивое, / Матушка – молочко мое белое, / Кормилица – маслице мое желтое! / Матушка, любимой ты мне кажешься, / Матушка, милой ты мне видишься!» (с. 49; 50‒51).
В мифопоэтическом представлении пространства дорога в иной мир оказывается одним из основных мотивов причитаний. Дорога как медиатор двух сфер, жизни и смерти, этого мира и «того», своего и чужого с задействованным для описания тернистого пути пластом лексики ‒ чопода вирьга ‘дремучий лес’ , келей ведень трокс ‘через широкую воду’ , темной вирьга ‘темный лес’ ‒ занимает важное место в поэтических текстах причитаний: Можо тоначив молемстэ, / Чопода вирьга молемстэ, / Ке-лей ведень трокс ютамсто, / Темной вирь-га ютамсто / Кедь пезэть саик палкинекс, / Келей ведень трокс печкемстэ / Пильгал-гат саик сэдинекс . «Может, отправляясь на тот свет, / Шагая по глухим лесам, / Переправляясь через широкую воду, / Проходя темными лесами, / В руки возьми посох, / Пересекая реки, / Как мостик для переправы используй» (с. 117; 123).
Из мотива переправы через реку, хождения души на «том свете» выясняется, что путь в загробный мир оказывается долгим и трудным, связан с преодолением множества препятствий природного происхождения. Путь туда души умершей лежит через темные непроходимые леса, водные просторы, а спасением служит палочка, через которую, как через мостик, можно переправиться на «тот свет». Поэтические тексты причитаний актуализируют идею местонахождения «того света» – тоначи .
Заключение
Причитание-плач – важнейший компонент вербального и музыкального кодов похоронно-поминального комплекса. Эрзянская причетная традиция богата средствами выразительности и поэтическими приемами, функционирование которых в структуре фольклорного произведения придает лучшим ее образцам неповторимый национальный колорит. Манера ис- полнения причитаний имеет локальные традиции, характерные для конкретной местности плачевые напевы. Рассмотренные образы, мотивы, обращения, сравне- ния, метафоры способствуют постижению глубины духовного мира народа, его мировоззрения, а также художественному обогащению жанровой природы причитаний.
Поступила 28.11.2021; одобрена 12.12.2021; принята 13.01.2022.
Список литературы Похоронно-поминальные причитания-плачи в фольклоре эрзи: поэтические приемы и средства
- Богдашкина С. В. Поэтическая лексика мокша-мордовских похоронных причитаний // Гуманитарные науки и образование. 2015. № 3. С. 128‒131.
- Ваганова Е. Н. Поэтический язык эрзянских причитаний похоронно-поминального цикла // Финно-угорский мир. 2017. № 2. С. 111‒122.
- Виноградова Л. Н. Концептуализация понятий «добра» и «зла» в малых фольклорных жанрах (благопожелания и проклятия как аксиологические тексты) // Категория оценки и система ценностей в языке и культуре: сб. ст. М., 2015. С. 53‒80.
- Добровольская В. Е. Кладбище как место встречи живых и мертвых: правила, регулирующие взаимоотношения двух миров в традиционной культуре Центральной России // Slověne. 2013. Т. 2, № 1. С. 111‒122.
- Корнишина Г. А. Знаково-символические функции одежды в похоронно-поминальной обрядности финно-угорских народов Урало-Поволжья // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 4. С. 157‒162. DOI: 10.26105/SSPU.2021.75.6.001.
- Криничная Н. А. Дерево-человек: К проблеме синкретизма и дифференциации фитоантропоморфного образа (по материалам нарративного фольклора Карелии) // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2010. № 4. С. 77‒85.
- Леонова Н. В., Шахов П. С. Похоронный фольклорно-этнографический комплекс как обрядовый текст (на примере локальной эрзя-мордовской традиции сибирского бытования) // Критика и семиотика. 2020. № 2. С. 191–219. DOI: 10.25205/2307-1737-2020-2-191-219.
- Михалкович И. Н. Реминисценция образа дерева в мифологии и фольклоре мордвы // Вестник Мордовского университета. 2000. № 3‒4. С. 72‒77.
- Мокшина Е. Н., Нарватова М. А. Поэтика эрзянских поминальных плачей // XLIX Огарёвские чтения: материалы науч. конф.Ч. 3. Гуманитарные науки. Саранск, 2021. С. 146‒150. URL: https://mrsu.ru/upload/iblock/b30/s8l4315zmq66dal1of38gxmejgwfmqwy/Gumanitarnyy-OCH-20-red.pdf (дата обращения: 25.11.2021).
- Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 187 с.
- Обряды и фольклор мордвы-мокши: теория и практика проблемы (по фольклорно-этнографическим материалам Зубово-Полянского района Республики Мордовия) / В. И. Рогачев, А. Д. Шуляев, С. В. Богдашкина [и др.]. Саранск, 2012. 380 с.
- Потапкин И. И. Поверья и суеверия мордвы в обрядах поминовения усопших // ВестникКалмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2018. Т. 11, № 1. С. 98‒104. DOI: 10.22162/2075-7794-2018-35-1-98-104.
- Рогачев В. И., Ваганова Е. Н., Мингазова Л. И. Функционирование растительного кода в традиционной культуре народов Поволжья (на примере фольклора мордвы-эрзи и мокши) // Ежегодник финно-угорских исследований. 2019. Т. 13, № 3. С. 439‒445. DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-439-445.
- Слесарева Т. П. Семантика фольклорных эпитетов в былинных текстах // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 121‒124.
- Шахов П. С., Зубов И. В. Похоронно-поминальные причитания мордвы-эрзи Залесовского Причумышья: функционально-семантический аспект // Критика и семиотика. 2021. № 2. С. 273‒296. DOI: 10.25205/2307-1737-2021-2-273-296.
- Юрченкова Н. Г. Традиция бытования причитаний у восточных финно-угорских народов // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 3. С. 114‒122.