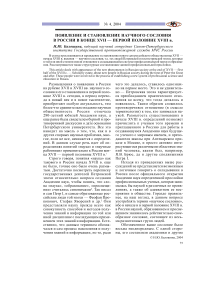Появление и становление научного сословия в России в конце XVII — первой половине XVIII в
Автор: Болошина Н.Ю.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: История образования
Статья в выпуске: 4 (37), 2004 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживаются зарождение и становление нового для российского общества конца XVII — начала XVIII в. явления — научного сословия, т.е. тех людей Петровской и постпетровской эпохи, которые в той или иной степени имели отношение к складывающейся системе профессиональной науки и образования. Рассматриваются также структурные составляющие данной профессиональной прослойки.
Короткий адрес: https://sciup.org/147135969
IDR: 147135969
Текст научной статьи Появление и становление научного сословия в России в конце XVII — первой половине XVIII в
В статье прослеживаются зарождение и становление нового для российского общества конца XVII — начала XVIII в. явления — научного сословия, т.е. тех людей Петровской и постпетровской эпохи, которые в той или иной степени имели отношение к складывающейся системе профессиональной науки и образования. Рассматриваются также структурные составляющие данной профессиональной прослойки.
This article deals with appearance of the new phenomenon in Russian society at the end of XVII — first half of the XVIII c. — Scholarly estate, about new people in Russian society during the time of Peter the Great and after. These people were involved in the process of establishing a new system of professional science and education in Russia.
Размышления о появлении в России на рубеже XVII и XVIII вв. научного сословия и его становлении в первой половине XVIII в. сегодня, в период перехода в новый век и в новое тысячелетие, приобретают особую актуальность, тем более что сравнительно недавно научная общественность России отмечала 280-летний юбилей Академии наук, а еще ранее была свидетелем бурной и противоречивой дискуссии о дате основания Петербургского университета. Все это наводит на мысль о том, что, как и в других спорных научных проблемах, многое, если не все, начинается с определений. В данном случае речь идет об определениях понятий «наука» и «научные работники» применительно к России конца XVII — первой половины XVIII в.1
Строго говоря, понятия «наука» как такового в России начала XVIII в. еще не было, точнее оно было очень размытым. Достаточно посмотреть переписку государственных деятелей Петровской эпохи относительно вопроса создания Академии наук, чтобы понять, что слова «наука», «образование», «просвещение» считались синонимами2. Так писал и сам Петр I, и самые образованные российские люди той эпохи — Феофан Прокопович, Стефан Яворский и др.3 Они представляли науку прежде всего как совокупность способов и методов получения знаний и информации по той или иной дисциплине с последующим применением этих знаний и информации. Естественно, что данным термином обозначался и сам процесс накопления и получения знаний и информации, но то, ради чего это делалось, ставилось однозначно на первое место. Это и не удивительно — Петровская эпоха характеризуется преобладанием практического отношения ко всему, что тогда делалось и появлялось. Таким образом сложилось противоречивое отношение (в смысле терминологии) к тем, кто занимался наукой. Размытость существовавших в начале XVIII в. определений позволяет причислить к ученым того времени и приглашенного в Россию для работы в создававшуюся Академию наук будущего ученого с мировым именем, и преподавателя школы при Аптекарском приказе в Москве, и просто активно интересующегося различными областями знаний человека, каким был, например, Я.В. Брюс, да и другие сподвижники Петра I.
Исходя из приведенных выше рассуждений не представляется возможным и логичным говорить о складывании в России после официального открытия Академии наук определенной прослойки профессиональных ученых, которая занималась бы наукой в различных ее проявлениях, а также об адекватном ее восприятии в обществе. Гораздо правильнее, на наш взгляд, в данном вопросе употреблять термин «научное сословие», ибо в начале и в первой половине XVIII в. в России наукой, образованием и просвещением занималось действительно своеобразное сословие, состоящее из весьма разнотипных групп людей.
Обозначенное выше сословие было весьма неоднородным. С одной стороны, его составляли академики и другие
сотрудники Академии наук, а также ее подразделений. Почти все они (до появления в российской науке М.В. Ломоносова и его научной школы) были выходцами из Европы и практически не ассимилировались в российское образованное общество. В этом не было необходимости — Академия наук представляла собой государственное учреждение под покровительством самой императрицы, на государственном жаловании, со структурой, практически полностью заимствованной из Германии и других европейских стран, с традиционным для того времени научным языком — латинским (и дополнениями в виде французского, голландского и немецкого)4. Иначе говоря, Академия наук была «государством в государстве» со всеми вытекающими отсюда последствиями — вхождением в научное сословие России по касательной.
С другой стороны, весьма весомый вклад в появление и становление научного сословия России первой половины XVIII в. внесли русские просветители из «Ученой дружины» и деятели православной церкви, такие как Василий Никитич Татищев, Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Феофилакт Лопатинский, Димитрий Ростовский и др. Они были наследниками и продолжателями традиций российского образования, блестяще образованными по тому времени людьми, в совершенстве владевшими не только характерными для российского просвещения гуманитарными научными дисциплинами, но и естественно-научными, современной им философией, богословием и многими языками. Кроме того, все они без исключения были крупными для своего времени библиофилами и переводчиками, что позволило некоторым образом приблизить к образованному российскому читателю непонятные ему до тех пор научные труды, прежде всего на латинском языке5. Но данная прослойка общества была слишком малочисленна, чтобы на что-то влиять сама по себе, и поэтому хотя и по касательной, но ее деятельность необходимо сопрягать с деятельностью Академии наук.
И наконец, большую для своего времени роль в становлении научного сосло вия в России играли такие деятели Петровской и постпетровской эпохи, как, например, Якоб Вилимович Брюс и многие другие, ему подобные. Хотя профессионально наукой и образованием они не занимались, а были, говоря современным языком, любителями, просветительная и переводческая деятельность этих людей, разностороннее образование, коллекционирование книг позволяют нам утверждать, что их участие в данном процессе также было очень значительным. К тому же большинство из них являлись государственными деятелями и могли в той или иной степени влиять на многие вопросы, связанные с процессом становления профессиональной науки и образования в России. Но деятельность сподвижников Петра также нельзя рассматривать в отдельности, саму по себе — только в контексте с общими тенденциями, в первую очередь с теми, о которых мы говорили выше. Нельзя хотя бы потому, что основной деятельностью данной прослойки образованного общества России были совсем не наука и образование, а государственная, военная и церковная служба.
Особого внимания к себе требует так называемое неакадемическое научное сословие эпохи Петра I. Применительно к тому времени, на наш взгляд, не приходится говорить о наличии профессионального статуса научного работника, ибо, как мы уже отмечали, в открывшейся Академии наук работали иностранные специалисты, а их положение и официальный статус еще находились в стадии разработки и осознавания. Такая ситуация с официальной наукой в России с некоторыми изменениями просуществовала весь XVIII в. Однако уже в середине XVII в.сложилась вовсе не малочисленная (по тогдашним понятиям) прослойка людей, весьма образованных и имеющих самое непосредственное отношение к образованию, просвещению, и наконец к науке. Нет ничего удивительного в том, что подавляющее большинство в ней составляли люди духовного звания — это характерно для становления системы образования и просвещения вообще, где бы оно ни происходило6. Но были среди указанной прослойки и иные люди — из обрусевших иностранцев, уже не первое поколение работавших в России (как Я.В. Брюс), или из светского сословия, официально занимавшие должности на государственной службе (как А. Кантемир или В.Н. Татищев). Всех их в данной ситуации объединяло одно — деятельность (пусть не всегда осознанная и планомерная) по созданию национальной системы образования, просвещения и в конечном счете научной мысли7. Официально все эти люди не принадлежали к Академии наук или к какой-либо еще научной структуре Петровского и постпетровского времени, хотя могли преподавать в тех или иных учебных заведениях (как Ф. Лопатинский, Ф. Прокопович, В.Н. Татищев) или издавать учебные пособия по различным предметам (как Я.В. Брюс или Ф. Прокопович)8. Но основным родом деятельности для данной прослойки была государственная служба — светская или церковная.
Тем не менее роль государственных и церковных деятелей в становлении российского образования и науки была столь велика, что их с полным правом можно причислить к научному сословию, отличительную особенность которого составляла определенная профессиональная подготовка, направленная на единую цель — утверждение в России системы формирования профессиональных специалистов в различных областях. Наличие подобного разнородного, но объединенного одной общей целью явления в российской культуре и просвещении XVIII в. позволило в дальнейшем заложить те основы, которые привели к возникновению российской научной и преподавательской школы. Предпосылки к такому течению истории имелись еще в XVII в. — достаточно вспомнить Киево-Могилян-скую и Славяно-греко-латинскую академии, а также те научные и преподава тельские силы, которые группировались вокруг данных образовательных учреждений. Основное же отличие ситуаций относительно складывания системы российского образования и науки в середине XVII и середине XVIII в., состояло не только в том, что первый временной отрезок приходился на эпоху до, а второй — после петровских преобразований (что само собой), но и в том, что в первом случае в так называемое научное сословие входили исключительно деятели церкви и ее учреждений, в то время как во втором его составляли уже не только деятели церкви, но и светские просветители, а работали они фактически воедино и на одну общую цель.