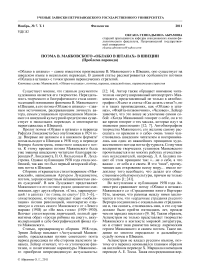Поэма В. Маяковского «Облако в штанах» в Швеции (проблема перевода)
Автор: Абрамова Оксана Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (120) т.1, 2011 года.
Бесплатный доступ
Маяковский, "облако в штанах", поэтика, перевод, шведский язык, переводческая стратегия
Короткий адрес: https://sciup.org/14749999
IDR: 14749999
Текст статьи Поэма В. Маяковского «Облако в штанах» в Швеции (проблема перевода)
Существует мнение, что главным документом художника является его творчество. Нераздельность творческого и биографического стала квинтэссенцией понимания феномена В. Маяковского в Швеции, а его поэма «Облако в штанах» – главным источником, раскрывающим личность автора, самым узнаваемым произведением Маяковского в шведской культурной среде (поэма существует в нескольких переводах и многократно переиздавалась в Швеции).
Пролог поэмы «Облако в штанах» в переводе Рафаэля Линдквиста был опубликован в 1924 году. Впервые же целиком и в книжном формате1 поэма выходит в Швеции в 1958 году в переводе Вернера Аспенстрема, известного шведского поэта. К этому времени поэзия Маяковского была уже знакома шведскому читателю благодаря переводам Р. Линдквиста, Н. О. Нильссона и Й. Лундстрема. Однако публикация 1958 года стала особенной, так как это был первый авторский сборник поэта в Швеции.
Сборник открывается стихотворением «Маяковский», написанным Артуром Лундквистом, поэтом, хорошо известным независимостью своих суждений2. В нем Лундквист представляет Маяковского и его поэзию рядом динамично сменяющих друг друга образов. «Стих, марширующий / в сапогах / по глине, по снегу»3 [13; 5–6], – олицетворение, которое передает идею «мобилизации» поэзии революцией, многократно озвученную в стихах самого Маяковского от «Левого марша» (1918) до «Во весь голос» (1929–1930). Венчает стихотворение лирический, полный драматизма образ «грозди рябины на снегу», аккумулирующий в себе биографический финал пути Маяковского.
Статью, предваряющую сборник 1958 года, Эрвин Лейсер называет «Актуальный Маяковский», предсказывая поэзии советского поэта период ренессанса по обе стороны железного занавеса. Лейсер отмечает, что «и утопические фантазии, и политические карикатуры Маяковского приобрели непредвиденную актуальность»
[12; 14]. Автор также обращает внимание читателя на «не ретушированный автопортрет» Маяковского, представленный не только в автобиографии «Я сам» и статье «Как делать стихи?», но и в таких произведениях, как «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек». Лейсер замечает, что это вовсе не увлечение самим собой: «Когда Маяковский говорит о себе, он в то же время говорит о тех массах, которые идут за знаменем революции» [12; 7]. Автобиографизм творчества Маяковского, его желание самому рассказать «о времени и о себе» очень тонко чувствовались шведским читателем и воспринимались как один из важнейших принципов художественного метода поэта-футуриста. Созвучное восприятие творческих установок Маяковского прочитывается и во многих работах отечественных исследователей, например, Л. А. Булавка пишет об этом принципе так: «…не о себе, а что важно – от себя и о своем. И это “свое”, прозвучавшее как откровение всему миру… имело подоплеку того всеобщего, что делало его общественным событием культуры, причем не только советской» [1; 241].
Во вступлении к публикации 1958 года Ас-пенстрем сравнивает поэму «Облако в штанах» Маяковского со «Страданиями юного Вертера» Гёте, замечая, что разница между ними заключается в том, что «сердечные страдания русского Вертера соединялись с социальными страданиями и, так сказать, отвлекались ими, в его случае должно было пройти пятнадцать лет, прежде чем он зарядил пистолет» [9; 16]. Таким образом, Аспенстрем не только представляет творчество Маяковского в контексте мировой литературы, но и ставит знак равенства между лирическим героем Маяковского и самим поэтом. Такое видение во многом определило и дальнейшую судьбу поэмы в Швеции.
Аспенстрем не владел русским языком, поэтому его перевод основывался главным образом на английском переводе Х. Маршала и немецком переводе А. Е. Тосса. Такая опосредованная вер- сия, как выразился автор, «должно быть, имеет большие недостатки, в особенности если учесть, что переводы, на которые она опирается, между собой достаточно различны и в вопросе выбора образов, и в вопросе построения стиха» [9; 16]. Однако в течение почти 20 лет перевод Аспен-стрема был единственным переводом поэмы на шведский язык в полном ее варианте. Цепочка трансформаций, которым подвергся оригинальный текст в процессе перевода, безусловно, представляет особый научный интерес, однако для нас перевод Аспенстрема важен в первую очередь с точки зрения рецептивной поэтики. Перевод мы рассматриваем как результат и как основу восприятия поэмы В. Маяковского в Швеции.
При внимательном чтении и сравнении переводного и оригинального текстов легко обнаруживаются фрагменты, в которых расхождения в поэтической структуре очевидны. В переводе Аспенстрема заметно стремление к более или менее точной передаче фактуальной информации поэтического текста, однако концептуальная и эстетическая информация4 передается со значительными потерями, что неудивительно при опосредованном переводе. Ряд тропов исчезает, другие трансформируются в варианты, далекие от оригинальных.
Знаменитая первая строфа оригинала5 у Аспен-стрема интерпретируется так:
De sköna idealen, de mjuka hjärnornas idéer: dessa feta lakejer på flottiga kanapéer – jag hånar dem öppet och fräckt klädd i det sönderslitna hjärtats dräkt!
Приятные идеалы, мягких мозгов идеи: эти жирные лакеи на засаленных канапе – я высмеиваю их открыто и дерзко, одетый в изношенного сердца костюм.
Мысль заменяют идеи и идеалы, что прибавляет адресату, публике, которую высмеивает лирический герой, интеллектуальную значимость. Сохранено сатирическое олицетворение (выжи-ревший лакей), но зооморфное представление мысли обывателя (возникающее в контексте образной параллели мысль – бык, которая усили- вает сатирическое остранение героя от публики) в переводе исчезает. Метафора «окровавленный сердца лоскут» Маяковского, обладающая мощным ассоциативным потенциалом – от искусства испанской корриды до революционной символики русской литературы (образ Данко у М. Горького), в переводе трансформируется, по сути, в антиметафору «изношенного сердца костюм», которая снимает и жертвенность, и героику.
Для поэта Аспенстрема фактуальная информация и рифма при переводе оказываются наиболее важными элементами структуры поэтического текста. Ритмический рисунок и графика стиха, являющиеся особым средством художественной выразительности поэзии Маяковского6, в переводе Аспенстрема не получают должного отражения, что объясняется фактом «непрямого» обращения к оригиналу. Главное, на наш взгляд, «прагматика» данного перевода – Аспенстрем представил шведскому читателю поэму «Облако в штанах».
Совершенно иным с точки зрения переводческой стратегии является перевод поэмы «Облако в штанах» Гуннара Хардинга и Бенгта Янгфельд-та, опубликованный в 1976 году в книге «Рыкающий парнас: русский футуризм в поэзии, фотографиях и документах» [10]. Он выполнен с языка оригинала и изначально предполагал более адекватную передачу его особенностей. Версия Хардинга и Янгфельдта уникальна тем, что установка на сохранение схемы рифмовки Маяковского и адекватную передачу содержательной стороны текста позволила донести до читателя и содержание, и звучание стиха Маяковского. Даже при некоторой трансформации тропов, а это при переводе может и не влиять на поэтический потенциал [2], строки во многом звучат «по-маяковски». Для сравнения приведем пример «Звереют улиц выгоны / На шее ссадиной пальцы давки»:
Gatans betesmarker har plötsligt förvildats.
Folkmassans snara om min hals dras till.
Улицы выгоны внезапно озверели.
Толпы удавка вокруг моей шеи затягивается.
Сравним также ритмический рисунок в следующих строках:
|
Кол-во ударных / безударных слогов |
||
|
Проклятая! / Что же и этого не хватит ? |
_ / _ _ / _ _ / _ _ _ / _ |
4 / 9 |
|
Скоро криком издерется рот . |
/ _ / _ _ _ / _ / |
4 / 5 |
|
Слышу: / тихо, / как больной с кровати , |
/ _ / _ _ _ / _ / _ |
4 / 6 |
|
спрыгнул нерв. / И вот , – |
/ _ / _ / |
3 / 2 |
|
сначала прошелся / едва- едва , |
_ / _ _ / _ _ / _ / |
4 / 6 |
|
потом забегал, / взволнованный, / четкий . |
_ / _ / _ _ / _ _ / _ |
4 / 7 |
|
Теперь и он, и новые два |
_ / _ / _ / _ _ / |
4 / 5 |
|
мечутся отчаянной чечеткой . |
/ _ _ _ / _ _ _ / _ |
3 / 7 |
|
Кол-во ударных / безударных слогов |
||
|
Åt h e lvete med henne! / Har jag inte v ä ntat tillr ä ckligt l ä nge ? |
_ / _________/ _ _ / _ / _ |
4 / 14 |
|
Sn a rt slits m u nnen s ö nder i ett tj u t . |
/ _ / _ / _ _ _ / |
4 / 5 |
|
Jag h ö r: / mj u kt / som en sj u kling ur s ä ngen |
_ / / _ _ / _ _ / _ |
4 / 6 |
|
h o ppade en n e rv u t . |
/ _ _ _ / / |
3 / 3 |
|
F ö rst / gick den s a kta s a kta / v a rv efter v a rv |
/ _ _ / _ / _ / _ _ / |
5 / 6 |
|
sen satte den u pp / en o erh ö rd / f a rt. |
____/ _ / _ / / |
4 / 5 |
|
Nu fl ä nger den r u nt med en a nnan n e rv |
_ / _ _ / _ _ / _ / |
4 / 6 |
|
i en u rs i nnig d a ns. |
_ _ / / _ / |
3 / 3 |
Ритмический рисунок оригинала воспроизводится в переводе с помощью соблюдения равного количества ударных слогов7, а также чередованием мужской и женской рифмы в первой части анализируемого отрывка (см. выделение жирным шрифтом: хватит-кровати länge-sängen; рот-вот tjut-ut). Исключение составляет 5-я строчка перевода, в которой мы наблюдаем 5 ударных слогов, что, в свою очередь, можно объяснить смещением положения рифмы. И только рифма чет-кий-чечеткой не находит своего эквивалента в переводе.
В целом для перевода Хардинга и Янгфельдта характерны адекватная передача графики стиха Маяковского и соответствующая схема рифмовки, больше отступлений наблюдается в ритмическом рисунке.
В послесловии к публикации своего перевода поэмы «Облако в штанах» 1979 года Хардинг и Янгфельдт сравнивают ее с произведениями французских авторов – «Зона» Г. Аполлинера (1912) и «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» Б. Сендрара (1913). Обнаруживая сходства трех произведений в тематическом и стилистическом аспектах, в системе образов, а также в стихотворных характеристиках, Хардинг и Янгфельдт обращают внимание читателя на общие литературные корни и типологическое родство творчества этих авторов. Ф. Ницше, У. Уитман, А. Рембо повлияли в той или иной степени на творчество каждого из поэтов. Примечательно, что о типологическом сходстве и буквальных совпадениях Маяковского и Аполлинера, равно как и о влиянии Ницше на европейскую авангардную поэзию начала XX века, писал Вячеслав Вс. Иванов в статье «Маяковский, Ницше и Аполлинер» [3]. Таким образом, Хардинг и Янгфельдт, как и Аспенстрем, представляют «Облако в штанах» в контексте мировой литературы, заключая, что это «первая из крупных значительных поэм Маяковского, которая также является одной из вершин поэзии XX века, передовое произведение, которое по-прежнему пылает жизнью» [11; 84].
Третий из ныне существующих переводов поэмы «Облако в штанах» на шведский язык, выполненный Бенгтом Самуэльсоном и опубликованный в 2002 году, весьма интересен в контексте размышлений о месте переводной литературы и ее национальной привязанности. Художественный перевод – это всегда интерпретация, объединяющая в себе особенности оригинального текста, а следовательно, и дух порождающей культуры, и лингвокультурологическое своеобразие принимающей стороны. Более того, «независимо от субъективных намерений восприятие переводчика входит составной частью в созданное переводное произведение» [6; 659]. Таким образом, мы можем говорить о переводной литературе как о явлении не только переводимой, но и переводящей литературы. Р. Р. Чайковский предложил определить особое место для переводной литературы в контексте мировой. По его мнению, с возникновением художественного перевода начинают существовать три литературы: национальная литература исходного языка, литература принимающего языка и переводная литература, которая предстает в виде «некоей третьей литературы» [7; 9]. Однако вопрос о национальной принадлежности, или более конкретно, о соотношении «своего» и «чужого» в переведенном на другой язык произведении это не снимает. Некоторые переводчики сознательно выбирают такую стратегию перевода, при которой произведение зарубежной литературы читалось бы как «свое» в литературе переводящей.
Вариант поэмы «Облако в штанах» Б. Самуэльсона по сути является попыткой сблизить русский оригинальный текст начала ХХ века с особенностями шведского мировосприятия начала ХХI века. Огромную историческую и социальнокультурную дистанцию переводчик старается нивелировать при помощи адаптирующих замен, сохраняя один из важнейших принципов поэзии Маяковского – опору на живой разговорный язык. Самуэльсон часто использует формы, слова и выражения, помеченные в шведском толковом словаре как «vardagligt» (разговорное). Отличительной чертой версии Самуэльсона можно назвать использование современной разговорной речи, что делает поэму актуальной для современного шведского читателя. Так, например, в строках
«Мир огромив мощью голоса, / иду – красивый, / двадцатидвухлетний» слово «красивый» переводчик интерпретирует как «läcker» (лакомый, вкусный). В современном разговорном шведском языке это слово используется по отношению к людям, чаще особам женского пола, в значении «привлекательный, соблазнительный, сексуальный».
Приведем еще один пример, интересный не только в связи с употреблением стилистически окрашенной лексики, но и ввиду изменений смысловой составляющей. Строки первой части поэмы «а самое страшное / видели – / лицо мое, / когда / я / абсолютно спокоен?» Самуэльсон переводит следующим образом:
har ni skådat den värsta horrören – вы видели самый страшный ужас – mitt ansikte när jag slaggar8?
мое лицо, когда я кемарю?
В интерпретации Самуэльсона состояние «спокойствия» главного героя поэмы заменяется состоянием «сна», что значительно понижает степень напряженности эпизода. «Абсолютное спокойствие» у Маяковского – это состояние невыразимой, запредельной ярости, которая через мгновение может превратиться в «извержение Везувия».
Установка переводчика сделать поэму частью своего национального мира проявляется в следующих примерах. По версии Самуэльсона, в строках «Меньше, чем у нищего копеек / у вас изумрудов безумий» вместо «копеек» появляется «ören» («эре», наименьшая разменная монета шведской кроны). Во второй части поэмы, в строках «только два живут, жирея – / “сволочь” / и еще какое-то, / кажется – “борщ”» Самуэльсон заменяет слово «борщ» на «havregryn» (овсяная крупа), несмотря на то что национальное русское блюдо борщ широко известно в Швеции.
В переводе строк «а я одно видел: / вы – Джио-конда, / которую надо украсть!» Самуэльсон заменяет «Джиоконду» Маяковского на «Mona Lisa», так как в шведской культурной традиции в качестве названия известной картины Леонардо да Винчи закрепилось именно «Мона Лиза», а не «Джоконда».
Менее оправданной (и относящейся к «наднациональному» уровню) является замена «генерал Галифе» на «general Galon» в третьей части поэмы. Появление выдуманного переводчиком генерала Галона снимает прямое указание Маяковского на историческую личность французского кавалерийского генерала, что, соответственно, влияет и на полноту передачи смысловой информации оригинала.
В третьей части поэмы мы обнаруживаем еще одну любопытную замену: вместо имени Мамай появляется Djingis Khan (Чингисхан). С точки зрения русского читателя эта замена искажает смысл оригинальных строк, так как и Чингисхан, и Мамай – фигуры хорошо известные русскому реципиенту. Однако в Швеции Мамай является малоизвестной исторической фигурой: например, в шведской национальной энциклопедии (Nationalencyklopedin), крупнейшем рецензируемом справочном издании Швеции, статьи о нем нет. Чингисхан, в свою очередь, известен в Швеции как один из величайших монгольских правителей, отличавшихся жестокостью и своенравием. В данном случае благодаря замене шведский читатель получает эквивалентный ассоциативный ряд. В примечаниях академического собрания сочинений В. В. Маяковского о строках «Пирует Мамаем, / задом на город насев» В. А Катанян пишет: «Здесь речь идет о победителях, которые пировали, сидя на досках, положенных на тела побежденных. В действительности так пировал не хан Золотой Орды Мамай, а полководцы Чингисхана после битвы на Калке в 1223 году» [5; 442]. Вполне возможно, что переводчик об этом знал, поэтому и прибегнул к замене.
Графика стиха, а также схема рифмовки Маяковского в большинстве случаев сохраняются Самуэльсоном, однако ритмический рисунок, как и в переводе Хардинга и Янгфельдта, значительно отличается от оригинального.
Существование нескольких вариантов перевода одного и того же произведения на один и тот же язык может быть вызвано разными факторами, но оно всегда свидетельствует о том, что произведение «укоренилось» в другой культуре, стало ее непреходящим художественным событием. В данном случае возникновение переводной множественности во многом связано с концепцией и стратегией перевода. Первый вариант поэмы «Облако в штанах» на шведском языке представил известный шведский поэт В. Аспенст-рем (1957), второй перевод был выполнен исследователями творчества В. Маяковского Г. Хардингом и Б. Янгфельдтом (1976), а третий – профессиональным переводчиком с русского языка на шведский Б. Самуэльсоном (2002). Каждый из переводчиков преследовал свою цель, что отразилось и на продукте их творческого труда, это демонстрируют некоторые положения нашего исследования. Напомним также, что впервые на шведском языке вступление к поэме «Облако в штанах» появилось еще в 1924 году в переводе Р. Линдквиста. Временной промежуток между «новыми» обращениями переводчиков к тексту поэмы составляет в среднем 25 лет. Эта цифра принята учеными как средняя единица периодичности смены поколений людей. В связи с этим утверждение Е. С. Шерстневой о том, что «актуализация оригинала в виде нового перевода осуществляется, как правило, в иной культурно-исторической эпохе» [8; 5], находит свое подтверждение и на материале шведских переводов поэмы В. Маяковского «Облако в штанах».
Судьба поэмы «Облако в штанах» в Швеции уникальна. Это произведение не только привлекало к себе внимание разных переводчиков, но и становилось катализатором творческих исканий шведских поэтов и писателей. Так, в 1972 году сюжет поэмы пересказывается Б. Ю. Викхоль-мом в радиопьесе «Владимир Маяковский» как эпизод из жизни главного героя, В. Маяковского. В 1984 году сюжет и образный язык поэмы воспроизводятся в романе Т. Сефве «Я горю». Сквозь призму «Облака в штанах» шведский читатель воспринимает автора поэмы, прочитывая в этом произведении наиболее важные особенности «громады» поэта и человека В. Маяковского.
Список литературы Поэма В. Маяковского «Облако в штанах» в Швеции (проблема перевода)
- Булавка Л. Маяковский: единство понятия и образа советской культуры (определение предпосылок)//Языки культур: образ -понятие -образ. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2009. С. 227-248.
- Гончаренко С. Ф. К вопросу о поэтическом переводе//Тетради переводчика. Вып. 9. М.: Международные отношения, 1972. С. 81-91.
- Иванов В. Вс. Маяковский, Ницше и Аполлинер//Поэзия и живопись. М., 2000. С. 424-425.
- Маяковский В. В. Как делать стихи?//Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т./АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Худож. лит., 1959. Т. 12. С. 81-117.
- Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т./АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Худож. лит., 1959. Т. 1. 463 c.
- Топер П. М. Перевод художественный//Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1962-1978. Т. 5. 1968. Стлб. 656-665.
- Чайковский Р. Р. Реальности поэтического перевода (типологические и социологические аспекты). Магадан: Кор-дис, 1997. 197 c.
- Шерстнева Е. С. Переводная множественность художественной прозы как проблема теории перевода: на материале переводов романа Р. М. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» на английский язык: Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 2009. 25 с.
- Aspenstrom W. Inledning till «Ett moln i byxor»//V. Majakovskij. Ett moln i byxor. Stockholm, 1958. S. 15-16.
- Harding G., Jangfeldt B. Den vralande parnassen: den ryska futurismen i poesi, bild och dokument. Stockholm, 1976. 230 s.
- Harding G., Jangfeldt B. Vladimir Majakovskij och ett moln i byxor//V. V. Majakovskij. Ett moln i byxor: Tetraptyk. Stockholm, 1979. S. 59-84.
- Leiser E. Den aktuelle Majakovskij//V. Majakovskij. Ett moln i byxor. Stockholm, 1958. S. 7-14.
- Lundkvist A. Majakovskij//V. Majakovskij. Ett moln i byxor. Stockholm, 1958. S. 5-6.