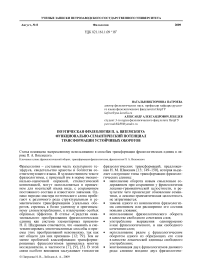Поэтическая фразеология П. А. Вяземского : функционально-семантический потенциал трансформации устойчивых оборотов
Автор: Патроева Наталья Викторовна, Лебедев Александр Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8 (102), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена экспрессивному использованию и способам трансформации фразеологических единиц в лирике П. А. Вяземского.
Фразеологический оборот, трансформация фразеологизма, фразеология п. а. вяземского
Короткий адрес: https://sciup.org/14749624
IDR: 14749624 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Поэтическая фразеология П. А. Вяземского : функционально-семантический потенциал трансформации устойчивых оборотов
Фразеология – составная часть культурного тезауруса, свидетельство красоты и богатства соответствующего языка. В художественном тексте фразеологизмы, с присущей им в норме эмоционально-оценочной окраской, стилистической коннотацией, могут использоваться в привычном для носителей языка виде, с сохранением постоянного состава и известного значения. Однако нередко мастера поэтического слова прибегают к различного рода структуральным и семантическим трансформациям узуальных оборотов, стремясь к более удачному и оригинальному словоупотреблению, к извлечению особых образных эффектов. В статье «Средства окказионального преобразования фразеологических единиц как система элементарных приемов» Н. Л. Шадриным отмечается, что «выявить и систематизировать многочисленные способы и приемы этих преобразований невозможно, так как нет общего для них признака» [12; 79]. Тем не менее проблемой классификации трансформированных фразеологизмов занимались многие исследователи, в частности [7], [9], [5]. В этой связи особого внимания заслуживает типология
фразеологических трансформаций, предложенная Н. М. Шанским [13; 149–150], которая выделяет следующие типы трансформации фразеологических единиц:
-
• наполнение оборота новым смысловым содержанием при сохранении у фразеологизма лексико-грамматической целостности, в результате чего происходит обновление семантики, а лексико-грамматическая целостность не затрагивается;
-
• замена одного из компонентов фразеологизма синонимом или расширение его состава новыми словами;
-
• использование фразеологического оборота в качестве свободного сочетания слов;
-
• употребление выражения одновременно и как фразеологического, и как свободного сочетания слов;
-
• использование рядом с фразеологическим оборотом одного из образующих его слов в качестве лексической единицы свободного употребления;
-
• контаминация двух фразеологизмов двоякого рода: слияние воедино двух фразеологиче-
- ских оборотов, имеющих в качестве компонента одни и те же или омонимичные слова, либо объединение фразеологизмов с их синонимами или антонимами;
-
• использование не фразеологического оборота, а его образа;
-
• образование по аналогии с существующими фразеологизмами новых индивидуальнохудожественных оборотов.
Как отмечает Н. М. Шанский, «фразеологические обороты - яркое стилистическое средство создания речи красочной, образной и убедительной. В умелых руках художников слова - писателей и публицистов - фразеологические обороты становятся одним из наиболее действенных языковых средств для создания того или иного художественного образа, колоритной авторской речи, обрисовки речевого портрета героев и т. д.» [13; 200].
Зачастую трансформированные в структурном или семантическом плане фразеологические обороты используются с определенными выразительными и изобразительными целями в лирике, где возможно построение на устойчивых сочетаниях слов даже целых текстов. Подобного рода использование фразеологизмов было бы интересно рассмотреть на материале поэзии Петра Андреевича Вяземского, поскольку одна из присущих его творчеству черт - склонность к употреблению разного рода фразеологических оборотов, в том числе и трансформированных, в лирических произведениях. Воспитанный на лучших образцах классической русской и зарубежной литературы, получивший блестящее гуманитарное образование, Вяземский соединял в своих поэтических и прозаических произведениях философичность, аналитизм и тонкий юмор, сатиру, высокую архаику, книжный усложненный синтаксис и простонародные словечки, разговорные интонации устной дружеской беседы, намеренно сталкивал разные функциональные речевые сферы, прибегал к стилистическим сбоям, таким образом демократизируя литературный язык с опорой на его лучшие традиции. При этом лингвистическая компетенция Вяземского была поддержана знанием многих иностранных языков - французского, немецкого, польского, итальянского, английского, классических. Не случайно языковая рефлексия поэта, свидетеля и участника споров о языке между сторонниками «старого» и «нового» слога, активно выплескивается, например, на страницы его «Записных книжек»: автор здесь неоднократно высказывает суждения относительно каких-либо языковых явлений, оценивает собственную речь и чужое слово, передает наблюдения над современной ему языковой ситуацией, стремясь осмысленно пользоваться ресурсами языка в соответствии с той или иной коммуникативной и эстетической установкой. Так, Вяземский обосновывает необходимость введения писателями необычных слов и оборотов, «остра- няющих» восприятие и активизирующих деятельность читателя по «расшифровке» художественного контекста: «Сознаюсь, я от некоторых неологизмов в словах и в слоге не прочь. Разнообразие и разнозвучие, в меру и с чутьем, нужны и цену свою имеют» [2; 295]. Придуманные «на ходу» и «на случай» окказионализмы ярко характеризуют поэтический стиль Вяземского. Поэт сам замечает о собственной поэтической манере: «Позволяю себе неологизмы, то есть прибавления к словарю Российской Академии; но по крайней мере вольности мои не произвольны, а вытекают обыкновенно из самого состава и наказа языка» [2; 315]. При этом П. А. Вяземский признается в том, что чувствует некоторую неуверенность в передаче на письме «простонародных» русских выражений: «Ум мой был воспитан и образован во французской школе. <...> Но при всем моем французском отпечатке сохранил или приобрел я много и русского закала. Простонародные слова и выражения попадались мне под перо, и нередко, кажется, довольно удачно. <...> Этот русский ключ, который пробивался во мне из-под французской насыпи, может быть, родовой, наследственный» [2; 315]. «Вяземский часто обыгрывает в стихах какой-либо речевой оборот. Сама повторяемость приема придает ему вид индивидуальной особенности авторской речи и в то же время осмысляется как характерная черта русской фразеологии», -отмечал И. М. Семенко [10; 130].
Так, в более чем 300 стихотворных произведениях П. А. Вяземского, по нашим данным, встречается 58 фразеологизмов (то есть в среднем один оборот на пять стихотворений), в том числе 23 - трансформированных.
Чаще иных путей авторского преобразования оборотов встречается в лирике П. А. Вяземского замена одного из компонентов фра -зеологизма на другую лексему
-
1) Фразеологизм «пустить в оборот» встречается в необычном облике - «стремить в оборот» - в стихотворении «Зимние карикатуры»:
Хозяйство, урожай, плоды земных работ, В народном бюджете вы светлые итоги, Вы капитал земли стремите в оборот , Но жаль, что портите вы зимние дороги. [3; 213]1
Способ трансформации - замена главного компонента фразеологизма на его неточный речевой эквивалент. При этом глагол «стремить» используется, в нарушение современной нормы, как невозвратный.
-
2) Фразеологизм «руки чешутся» претерпевает трансформацию в стихотворении «Зачем глупцов ты задеваешь?»:
Сединам в бороду, навстречу, Знать, завсегда и бес в ребро:
Как скоро глупость где подмечу, Сейчас зачешется перо . (419)
Введение в поэтический текст стилистически сниженной лексики содействует «прозаизации» лирики: трансформация совершается благодаря метонимической замене компонентов (смежность руки и профессионального «орудия» поэта).
-
3) Фразеологизм «от альфы до омеги» употребляется Вяземским в своем привычном составе в стихотворении «Давно плыву житейским морем…»:
Теперь, что с альфы на омегу
Я окончательно попал,
Теперь, что после бурь ко брегу
Несет меня последний вал... (388)
Здесь Вяземский подводит своеобразные итоги определенному отрезку жизненного пути: «альфа» – начало, а «омега» – конец. Фразеологизм происходит от названий первой и последней букв древнегреческого алфавита и восходит к библейскому тексту: «Я есть и альфа и омега, начало и конец».
Тот же узуальный оборот используется и в одном из стихотворений цикла «Заметки» – «По поводу новых приобретений российского языка»:
Без лишнего труда ждет гения победа.
А все мы гении от a и вплоть до z . (406)
Замена обоих компонентов фразеологизма на аналогичные им названия первой и последней букв латинского алфавита не разрушает в этом случае внутренней формы оборота – значение фразеологизма по-прежнему остается эквивалентным фразе «от начала до конца».
В трансформированном виде («от альфы до йоты») находим этот же оборот в стихотворении «Игрок задорный, рок насмешливый и злобный…»:
И человек есть персть, и персть его дела.
Я все испробовал от альфы до йоты ,
Но, беззаботная и праздная пчела,
Спускаясь на цветы, не собирал я соты… (408)
Нужно отметить, что «йота» – буква, расположенная в середине греческого алфавита. Таким образом, внутренняя форма узуального фразеологизма изменяется. Постановка другого компонента фразеологического единства, но из той же лексико-семантической группы, на место прежнего приводит к появлению новой образной ассоциации (как кажется, здесь уместна параллель с дантовским «Земную жизнь пройдя до половины…»).
-
4) Фразеологизм «не по дням, а по часам» встречается в измененном виде – «Не по часам, а по годам» в стихотворении «Год новый встретя с беспристрастьем»:
Я счастью новому не верю;
Нет, счастье не случайный цвет:
Оно есть плод; ценю и мерю
Его я полнотою лет.
Оно растет и созревает
Не по часам, а по годам… (406)
Введение в оборот иного темпорального понятия приводит к изменению значения фразеологизма на ему противоположное.
-
5) Фразеологизм «попасть впросак» употребляется поэтом дважды в непреобразованном виде в стихотворениях «К партизану-поэту» и «Выдержка»:
Ты с лирой, саблей иль стаканом
Равно не попадешь впросак . (70)
Кто не по силам лезет в горку,
Тот может и впросак попасть . (205)
Трансформация фразеологизма заключается в замене глагольного главного компонента, приводящей каждый раз к изменению внутренней формы узуального оборота в новом лексическом окружении:
Какой ни сделает попытки,
А глупость срежет на просак ! (205)
Меня упрятали впросак
Жена, приятель и приказчик! (93)
Просак – станок для кручения веревок. Работающие на этом станке часто попадали в него одеждой, которая быстро втягивалась, и человек оказывался в неудобном положении. По выражению В. И. Даля, «если попадешь туда концом одежи, волосами, то скрутит, и не выдерешься; от этого поговорка» [4; 1326]. Таким образом, к первой половине XIX века термин «просак» еще не вышел окончательно из употребления, и живая внутренняя форма фразеологизма сохранялась в сознании читателей.
-
6) Фразеологизм «курам на смех» окказионально используется Вяземским в стихотворении «К друзьям»:
Но, строгий для других, иль буду к одному
Я снисходителен себе, на смех уму ? (79)
Замена зависимого компонента фразеологизма в целом не приводит к трансформации узуального смысла оборота («глупо, бессмысленно»); однако меняется позиция наблюдателя: субъект оценки – не сторонний взгляд, а сам говорящий. Заметим, что во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А. И. Молоткова в качестве иллюстрации при толковании значения этого оборота приведена цитата из письма П. А. Вяземского А. И. Тургеневу: «Он… казнится моим положением, которое, говоря по совести, точно курам на смех» [11; 217].
-
7) Фразеологизм «умирать со смеху» встречается в измененном виде – «морить со смеху»
в стихотворении «Дом Ивана Ивановича Дмитриева»:
И поучал его, и трогал – как придется,
Иль со смеху морил , а сам не улыбнется . (61)
Замена непереходного глагола ( умирать ) во фразеологизме на переходный ( морить ) позволяет позицию субъекта ( сам ) дополнить объектной словоформой ( его ), что невозможно при использовании оборота в исконном виде.
-
8) Фразеологизм «марать бумагу» претерпевает изменение состава в стихотворении «К В. А. Жуковскому»:
Скорее соглашусь, смиря свою отвагу,
Стихами белыми весь век чернить бумагу … (125)
Способ трансформации – замена глагольного компонента фразеологизма на синонимичный ему в целях создания противопоставительных, антонимичных связей в стихе по ассоциации «белый стих» – «черная бумага». При этом исчезает негативная коннотация, присущая фразеологизму «марать бумагу».
Грамматическая трансформация оборотов
-
9) Редко Вяземский прибегает к изменению грамматической формы оборота, поскольку данный способ трансформации не приводит к сколь-нибудь существенным семантическим и образным эффектам; так фразеологизм «пожинать лавры» трансформируется поэтом в стихотворении «Стол и постели»:
Пусть боец в кровавом деле
Пожинает лавр мечом. (105)
Благодаря замене множественного числа на единственное, возможно, что этот фразеологизм является контаминацией двух других: «пожинать плоды» и «увенчать лаврами» – с сохранением значения фразеологизма «пожинать лавры».
-
10) Оборот «выбиться в жизнь» встречается в виде «выбиться на жизнь» в стихотворении «Сознание», таким образом происходит замена предлога при управляющем глаголе:
Но промысл обмануть хотел я, чтоб украдкой Мне выбиться на жизнь из-под его руки. (327)
Способ трансформации – изменение предложного управления, возможная причина которого – версификационная (соблюдение метра).
-
11) Замена предложного управления в другом обороте («лоб со лбом» вместо «лоб в лоб») в стихотворении «Русские проселки» подчеркивает мотивирующую внутреннюю форму оборота и содействует буквализации его значения:
Я видел сшибку: лоб со лбом они столкнулись. (272)
-
12) Одновременные вставка и элиминация частиц могут способствовать замене в обороте противопоставительных связей соединительными (в сравнении с узуальным «не в бровь, а в глаз») и буквализации фразеологического значения с целью усиления эмоционального воздействия на читателя, как в стихотворении «К Илличевскому»:
И встречных ты и поперечных
Коли и в бровь и прямо в глаз . (208)
В стихотворении «Важное открытие» находим оборот «в бровь, не прямо в глаз»:
Сказал я как-то мимоходом,
И разве в бровь, не прямо в глаз , Что между авторским народом Шпионы завелись у нас… (281)
В результате перестановки и вставки частиц в противопоставительном фразеологизме значение оборота меняется на ему противоположное.
-
13) Фразеологизм «после дождичка в четверг» используется и в трансформированном, и в неизмененном виде в стихотворении «Поскупись, судьба талана»:
Ничего не начинаю
После дождичка в четверг ,
А как раз сажусь в дорогу
Перед дождичком в четверг . (343)
Сочетание общеупотребительного и авторского вариантов фразеологизма создает эффект противопоставления, контраста, что обеспечивается еще и эпифорическим повтором.
-
14) Фразеологизм «в ус не дунуть» демонстрирует словообразовательную трансформацию главного компонента в стихотворении «Москва 29 декабря 1821 года»:
Где б должно дунуть – в ус не дунул ,
А там на Пушкина же плюнул,
Отрекшись от всех дел его. (154)
Вставка суффикса -ну- со значением однократности позволяет подчеркнуть отрицательноироническую оценку лирическим героем своего адресата-оппонента и создает ситуацию совмещения конкретного и абстрактного значений фразы, что поддержано далее в контексте использованием других глаголов.
Распространение и сокращение фразеологизмов
-
15) Фразеологизмы могут распространяться за счет вставки знаменательных слов, существенно расширяя свой состав и более отдаляясь от узнаваемого узуального оборота. Фразеологизм «куда глаза глядят» встречается в измененном виде – «куда глаза глядят и не глядят» в стихотворении «Тропинка»:
Когда рассеянно брожу без цели,
Куда глаза глядят и не глядят . (286)
Продолжение известного оборота с повтором и отрицанием способствует оживлению внутренней формы (исходного значения) оборота и передаче душевного состояния героя, отражению его бессмысленных блужданий.
-
16) Фразеологизм «заморить червячка» демонстрирует структурную трансформацию в стихотворении «Эпизодический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых Вздыхалова»:
Спросить поесть чего-нибудь,
Чтоб жизнь придать натуре тощей
Иль заморить , сказавши проще,
В пустом желудке червяка . (59)
Распространение одного из компонентов фразеологизма, изъятие оценочного суффикса еще более подчеркивают стилистически сниженный характер оборота и усиливают шутливую коннотацию фразы.
-
17) Введение объектного компонента (прямого дополнения) во фразеологизм «пропускать сквозь пальцы» в стихотворении «Коляска» позволяет поэту создать гиперболу и достичь сатирического эффекта, основанного на противопоставлении (слоны – букашки):
И, Геркулес на пустяки,
Слонов сквозь пальцы пропускает ,
А на букашке напирает
Всей силой воли и руки. (196)
-
18) Фразеологизм «задирать нос» встречается в трансформированном виде («вздернуть нос») в стихотворении «Спасителя рожденьем»:
Нос кверху вздернув гордо
И нюхая табак… (67)
Замена одного из компонентов фразеологизма на синонимичный ему приводит к буквализации метафорического значения, к контаминации прямого (свободного) и переносного (связанного) смыслов выражения.
-
19) Фразеологизм «делать из мухи слона» приобретает несколько «странноватый» облик в стихотворении «Выдержка»:
Тот ставит свечку злому духу,
Впрок не пойдет того казна, Кто легкоумье ловит в муху , Чтоб делать из нее слона . (205)
Возможно, здесь наблюдается еще один вид трансформации оборотов –контаминация двух фразеологизмов: «ловить мух» (от фр. beer aux mouche – буквально «разинуть рот на муху» или «разинуть рот в муху») – бездельничать, и «делать из мухи слона» – преувеличивать [8; 455]. Подобные существенные применения «затемняют», «остраняют» привычный контекст и выводят восприятие внешнего адресата стихотворе- ния из автоматизма при «дешифровке» художественного текста.
Сам Вяземский признавал, но не всегда поправлял «шероховатости» своего поэтического слова, стремясь к оригинальности выражения. Принимая упреки в некоторых несообразностях выражения, Вяземский объясняет свои «ошибки» тем, что «никогда не писал прилежно, постоянно; никогда не изучал… систематически языка нашего. Как певцы-самоучки, писал… более по слуху… Знаю, язык мой не всегда правилен; не довольно внимательно и строго покоряюсь законам его. Увлекаюсь не желанием, а скорее бессознательною потребностью сказать иначе, чем сказали бы другие. Это может быть достоинством, но может быть и погрешностью…» [2; 295].
-
20) Фразеологизм «семь пятниц на неделе» используется неоднократно в обычном составе (ему посвящено отдельное стихотворение «Семь пятниц на неделе», где он служит заглавием произведения и рефреном в завершении каждой из строф):
Так завсегда по колесу
Вертятся мысли в пустомеле, Вот что зовется – на часу
Иметь семь пятниц на неделе. (193)
Значение фразеологизма – «быть непостоянным, часто менять свое решение». Пятница некогда была свободным от работы, а потому базарным днем. Долгое время она была и днем исполнения различных торговых обязательств. В пятницу получали деньги и давали обещание привезти на следующей неделе заказанный товар; получали товар и обещали в следующую пятницу отдать за него деньги. О нарушающих эти обещания и говорили, что у них семь пятниц на неделе. Позже этот фразеологизм стали применять к людям, часто меняющим свои решения.
В ряде случаев происходит возвращение этого фразеологизма к исходному прямому темпоральному значению – это отражается в соседстве фразеологизма с временными понятиями:
Мой друг, нейдет попытка в счет:
Бар многих вижу я отселе,
У коих дома круглый год
Твоих семь пятниц на неделе . (193)
Он день отменный, и сравню
Его я с первым днем в апреле:
Кто верит завтрашнему дню,
Тот знай семь пятниц на неделе . (193)
В измененном виде этот фразеологизм встречается в стихотворении «Николаю Аркадьевичу Кочубею»:
Сидишь с глазу на глаз ты с Пятницей вечной, И тошных семь пятниц сочтешь на седмице. (374)
Способ трансформации – замена одного из компонентов фразеологизма (в нашем случае существительного) на дублетный архаизм и вставка элемента «тошный», усиливающего эмоциональное воздействие на читателя и имеющего отрицательную коннотацию. При этом Вяземский использует игру значениями слов пятница (день недели) и Пятница – (Параскева, святая).
-
21) Фразеологизм «ловить на лету» расширяет свой состав в стихотворении «Александрийский стих»:
Аукаться люблю я с нею в темноту,
Нечаянно ловить шалунью на лету . (306)
При этом происходит буквализация фразеологического значения и распространение прямым дополнением – одушевленным личным существительным.
-
22) Фразеологизм «тянуть канитель» видоизменяется Вяземским в стихотворении «Обыкновенная история»:
Простая жизнь его простую быль вмещает:
Тянул он данную природой канитель ,
Жил, не заботившись проведать жизни цель, И умер, не узнав, зачем он умирает . (407)
Вследствие атрибутивного распространения компонента четверостишие приобретает особый оттенок обреченности и фатализма, подчеркивая трагизм человеческого бытия.
-
23) Фразеологизм-пословица «Не в свои сани не садись» подвергается изменению в стихотворении «Масленица на чужой стороне»:
Сани здесь – подобной дряни
Не видал я на веку;
Стыдно сесть в чужие сани
Коренному русаку . (303)
При этом происходит буквализация фразеологического значения, что создает своего рода каламбур – «сани» как конкретный материальный объект и «сани» как некий знак культурноисторической принадлежности, оценки «свое – чужое». Замена местоименного компонента с отрицательной частицей «не свои» на прилагательное «чужие» усиливает коннотативный элемент значения и ярче характеризует патриотический настрой лирического героя.
Таков список трансформированных фразеологизмов, извлеченных из поэтических произведений Петра Андреевича Вяземского. В ходе работы сделаны следующие выводы:
-
• чаще всего подвергаются видоизменениям фразеологические выражения и фразеологические сочетания, поскольку эти типы оборотов более склонны к трансформации, нежели семантически и синтаксически неделимые и немотивированные фразеологические сращения и фразеологические единства.
-
• Выявлены три основных типа трансформации фразеологизмов:
-
1) замена одного из компонентов фразеологизма,
-
2) изменение грамматической или словообразовательной структуры оборота,
-
3) распространение фразеологизма.
Изменение формы оборота обычно ведет к семантической его трансформации, изменению узуального значения либо буквализации метафорического смысла, либо к совмещению (контаминации) прямого и переносного значения. При этом один и тот же фразеологизм может изменяться одновременно в нескольких направлениях.
В результате изменения фразеологизмов поэту удается достичь важных стилистических эффектов – усиления комического начала, создания иронического подтекста, эмоционального воздействия на читателя. Эти контексты Вяземского более выразительны и ярки, а строфы, в которых употребляются трансформированные фразеологизмы, сразу же привлекают к себе внимание читателя.
Большинство используемых Вяземским фразеологических оборотов имеют разговорную коннотацию, однако встречаются и книжные (восходящие к мифам или Библии) выражения, поэтому фразеологизмы, помимо образноэкспрессивных, выполняют и функцию создания аллюзий и реминисценций, обладают богатым интертекстуальным потенциалом.
Большая часть оборотов, используемых выдающимся поэтом пушкинской поры, по происхождению исконные, а не заимствованные. Вяземский стремится избегать гладкости слога, насыщая свою поэзию оборотами-«прозаиз-мами», которые подчеркивают «русский дух» его стихотворной манеры, его желание исключить лишние заимствования, что шло вразрез с общей направленностью языковой политики того времени. Не случайно в одном из стихотворений Вяземский декларирует, с намеком на известную русскую пословицу, что «стыдно сесть в чужие сани коренному русаку».
Уникальная личность Вяземского заключала в себе два противоречие своей эпохи – стремление к сохранению старого и появлению нового. «В поэзии Вяземского стало возможным параллельное существование и пересечение нескольких стилевых тенденций» [6; 7]. Его произведения, с одной стороны, были неразрывно связаны с традициями прошлого, а с другой – ему не были чужды эксперименты в области стихосложения, и особенно на фразеологическом уровне.
Изобилие, по выражению В. Г. Белинского, оригинально-русских, непередаваемых ни на какой язык в мире образов и оборотов, «идиомов, руссизмов, составляющих народную физиологию языка» [1] в стихотворном языке П. А. Вяземского вполне очевидно. Используя богатые фразеологические ресурсы родного языка, поэт наметил новые пути синтеза, гармо- нического сплава традиционно-книжного словоупотребления с живым русским народным выражением, оборотами-«прозаизмами», обогащающими монотонно-гладкий и «сладкий» язык лирики, между тем как эти «простонародные» стихи многими сторонниками «среднего» стиля карамзинской школы подвергались ограничени- ям и даже преследованиям. Чувствовавший прелесть родной речи и стремящийся раздвинуть границы традиционно-поэтического словоупотребления, Вяземский находился всегда в поиске оригинального смысла и формы своих воззрений, отыскивая «в себе собственное, коренное, родовое» [2; 314].
192 с.
Список литературы Поэтическая фразеология П. А. Вяземского : функционально-семантический потенциал трансформации устойчивых оборотов
- Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 3. М.: Худож. лит-ра, 1976. 614 с.
- Вяземский П.А. Записные книжки. М.: Русская книга, 1992. 381 с.
- Вяземский П.А. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1986. 544 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3/Под. ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. Репринт. М.: Терра, 2000. 1782 с.
- Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. М.: Просвещение, 1999. 159 с.
- Коровин В.И. Счастливый Вяземский//Вяземский П. А. Стихотворения. М.: Советская Россия, 1978. 272 с.
- Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. Л.: Наука, 1977. 183 с.
- Русская фразеология: историко-этимологический словарь/Под. ред. В. М. Мокиенко. 3-е изд. М.: Астрель-Аст: Хранитель, 2007. 928 с.
- Санников В.З.Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Просвещение, 1978. 544 с.
- Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. М.: Худож. лит-ра, 1970. 295 с.
- Фразеологический словарь русского языка/Под. ред. А.И. Молоткова. 4-е изд. М.: Русский язык, 1987. 543 с.
- Шадрин К.Л. Средства окказионального преобразования фразеологических единиц как система элементарных приемов//Лингвистические исследования. 1972. Ч. 2. М.: Наука, 1973. 177 с.
- Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1985. 192 с.