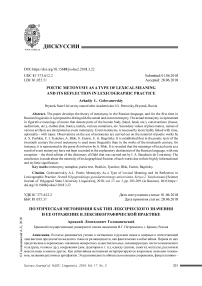Поэтическая метонимия как тип лексического значения и ее отражение в лексикографической практике
Автор: Голованевский Аркадий Леонидович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье развивается учение о метонимии в русском языке и впервые в отечественной лингвистике предлагается выделять такие ее разновидности, как фактическая и событийная. Первая из них представлена в переносных значениях конкретных существительных, номинирующих части человеческого тела (рука, голова и др.), сооружения (дом, аудитория и т. п.), одежду (шляпа, сапоги), металлы, различные вместилища и многое другое. Как событийная метонимия интерпретируются вторичные значения топонимов, названия различных артефактов. Эта разновидность обязательно связана со временем, факультативно - с топосом. Наблюдения над употреблением метонимии осуществлены на материале поэтических произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока, С.А. Есенина, Э.Г. Багрицкого. Установлено, что в поэтических текстах XX в. событийная метонимия реализовалась чаще, чем в произведениях XIX в. Особенно широко она представлена в поэме А.А. Блока «Возмездие». Выявлено, что значения лексических единиц, возникающие как результат событийной метонимии, не фиксируются в толковых словарях русского языка, исключение составляет третье издание словаря В.И. Даля, осуществленное И.А. Бодуэном де Куртенэ. Делается вывод о необходимости лексикографической фиксации таких слов в силу их высокой информационной и стилистической значимости.
Метонимия, метафора, поэтический текст, пушкин, тютчев, блок, есенин, багрицкий
Короткий адрес: https://sciup.org/149129907
IDR: 149129907 | УДК: 81’373.612.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.3.22
Текст научной статьи Поэтическая метонимия как тип лексического значения и ее отражение в лексикографической практике
DOI:
Цитирование. Голованевский А. Л. Поэтическая метонимия как тип лексического значения и ее отражение в лексикографической практике // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 203–209. – DOI:
Дискуссионные вопросы изучения метонимии в отечественном языкознании
Изучение метонимии как одного из типов переносного значения слова связано с целым рядом проблем. Некоторые из них обозначил Д.Н. Шмелев в монографии «Проблемы семантического анализа лексики». Во-первых, он считал, что употребление термина «метонимия» двупланово: собственно лингвистическое и стилистическое. Это приводит зачастую к смешению понятий «значение» и «употребление». Во-вторых, он отмечал необходимость разграничения маркировки метонимических значений и общей возможности их применения. В-третьих, выдвигал требование унифицировать представление в толковых словарях метонимических значений на основе разрешения первых двух обозначенных проблем [Шмелев, 1973, с. 221–228].
В учебном пособии по лексикологии Д.Н. Шмелев несколько снизил дискуссион-ность в понимании метонимических значений и привел довольно объемный и открытый перечень различных типов метонимических переносов, не отказавшись в то же время от основных идей о понимании метонимии, изложенных ранее в научной монографии [Шмелев, 1977, с. 97–101].
В названной монографии исследователь подвергает сомнению взгляды Л.А. Булахов-ского на приводимые им примеры «метонимических изменений значений». К таким изменениям Л.А. Булаховский относил и синекдоху: И слышно было до рассвета, как ликовал француз. Метонимические явления широко распространены в языке и, по наблю- дениям Д.Н. Шмелева, «воспринимаются как специальный стилистический прием» [Шмелев, 1977, с. 223]. Именно на этом основании А.П. Квятковский определяет метонимию как «распространенный поэтический троп, замена слова или понятия другим словом, имеющим причинную связь с первым» [Квятковс-кий, 1966, с. 158–159]. Включение стилистического приема в метонимические изменения создает условия для широкого понимания метонимии, отвергаемое Д.Н. Шмелевым.
Бесспорно, прав Д.Н. Шмелев, заявляя: «Конечно, не с точки зрения метонимических изменений, а только как метонимическое применение слов можно рассматривать и случаи вроде читал Пушкина, слушал Бетховена и т. д.» [Шмелев, 1977, с. 106]. Это явление в языке обусловлено принципом экономии, и поэтому каждое имя автора (а их множество) не может приобрести индивидуального метонимического значения, но может свободно использоваться в формульном метонимическом употреблении. Этой формуле подчиняются и широко известные, и мало известные имена. Например: Мы рифмы старые Раз сорок повторим. Пускать сумеем Гоголя и дым (Есенин, с. 269); Настал наш срок, Давай, Сергей, За Маркса тихо сядем, Чтоб разгадать премудрость скучных строк (Есенин, с. 273); Здесь он стоял... Здесь рвался плащ широкий, Здесь Байрона он нараспев читал... (Багрицкий, с. 291); Его опустошает Демон, Над коим Врубель изнемог (Блок, т. 2, с. 309).
Вклад в изучение метонимии внесли многие лингвисты. Ю.Д. Апресян, рассматривая регулярную многозначность существительных, глаголов, прилагательных, приводит многочисленные примеры метонимического переноса [Апресян, 1995, с. 193–215], тем самым способствует совершенствованию лексикографической практики. Н.Д. Арутюнова в специальном разделе «Метафора и метонимия» сосредоточила основное внимание на употреблении словосочетаний и предложений с метафорическими и метонимическими компонентами и на функциях, выполняемых в предложении метафорой и метонимией.
В словарях семантика слова, возникающая в результате метонимии, как правило, не получает толкования, что сближает прямое и метонимическое значения лексемы, хотя последнее в любом контексте сохраняет свою переносность и метонимия как тип переносного значения сближается с метафорой. При этом «из двух возможных для метафоры функций первичной должна быть признана функция характеризации, а функция идентификации объектов – вторичной. <...> Для метонимии, напротив, типично выполнение идентифицирующей функции по отношению к конкретным предметам» [Арутюнова, 1999, с. 352].
Метонимия, в нашем понимании, создает такие значения слов, которые включаются в языковую систему по тем или иным формулам, но при этом, будучи отражением процесса человеческой или природной деятельности, изменяют, трансформируют свою функцию [Голованевский, 2013, с. 176–177], о которой и говорит Н.Д. Арутюнова. Такие типы значений, представляется, должны фиксироваться словарями как переносные.
Поэтический язык породил особый тип метонимии-метафоры, когда происходит одновременно «сдвиг в значении» и «сдвиг в референции». Из этих наблюдений нами сделан вывод о том, что базой для лексической неоднозначности могут служить не только прямые значения, совмещенные с одним из типов переносных, но и сами переносные значения – метонимия и метафора [Голованевский, 2013, с. 178]. Этот вывод подтверждается поэтической практикой. В языке поэзии образные средства не изолированы, а составляют систему, в то время как метонимия встречается в чистом виде довольно редко, чаще она соседствует с метафорой, нередко совмещается с ней в одной лексеме.
В настоящей статье обобщены наблюдения над метонимией в поэтических произведениях А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока, С.А. Есенина, Э.Г. Багрицкого. За основу метонимической типологии принята классификация, представленная в работах Д.Н. Шмелева и Н.Д. Арутюновой (полной классификации метонимических переносов до настоящего времени не существует). Проблему лексикографирования метонимических значений рассмотрим на примере трех типов метонимии (два из них традиционно выделяются исследователями и относятся, по нашей классификации, к фактической метонимии; третий тип определен автором статьи как событийная метонимия ).
Фактическая метонимия в языке поэзии
Под фактической метонимией мы понимаем такие метонимические значения отдельных слов, которые номинируют человека, животный и растительный мир, артефакты и другие предметы, под событийной – торжества, печальные даты, войны, зрелищные мероприятия и др. (см. подробно: [Голо-ваневский, 2017, с. 65]).
Перенос названия с вместилища ( блюдо, бокал, кубок, амфора ) на его содержимое : И за столом у них гостям Носили блюды по чинам ; Она не ведает, что дружно можно жить С кифарой, с портиком, и с книгой, и с бокалом ; Ты Эпикуров младший брат, Душа твоя в бокале (СЯП, т. 1, с. 142–143); Ни ссоры, ни упреку Не нажил за бокал (Тютчев, с. 60–61); Приди – тебя здесь ждет и кубок круговой ... (Тютчев, с. 47); Вдруг с кубком не слюбился Один из сыновей (Тютчев, с. 61).
В поэтических произведениях обнаруживается совмещение прямого и метонимического значений лексем. Так, в стихотворении Тютчева «Певец» читаем: Он кубок взял и осушил (Тютчев, с. 90). В этом примере существительное кубок употребляется в прямом значении ‘сосуд’ ( взял кубок ) и в метонимическом значении ‘содержимое сосуда’ ( осушил кубок ). Таким образом, в метонимическо-метафорическом поле оказываются у Тютчева существительное и глагол. Ни в
СРЛЯ, ни в СЯП, ни в СОШ метонимическое значение слова кубок не указывается, по-ви-димому, потому, что вместилище для того и служит, чтобы его наполняли содержимым.
В поэтическом тексте возможно совмещение метонимического и метафорического значений. Так, поэтический кубок , или фиал, наполняется не только вином: ... И в кубок ваш все жарче и светлее Так вдохновение лилось (Тютчев, с. 204–205); здесь кубок – поэзия П.А. Вяземского. У Пушкина поэтическое творчество – метонимический поэтический бокал: ... И в поэтический бокал Воды я много подмешал , – пишет он в «Евгении Онегине» (Пушкин, т. 2, с. 343).
В поэтическом тексте возможно также совмещение двух метонимических значений. Так, в названии стихотворения Блока «Сквозь винный хрусталь» (Блок, т. 2, с. 24) одновременно представлены: 1) перенос названия вместилища на его содержимое, 2) перенос названия материала (стекла) на изделие из него.
Перенос названия материала на изделие из него – продуктивный поэтический тип метонимии. Чаще всего в этих значениях выступают существительные, номинирующие различные виды оружия, скульптуры, сооружения. Для Пушкина, Тютчева, Блока характерно употребление в данном метонимическом значении таких лексем, как алмаз, броня, булат, гранит, медь, металл, мрамор, бронза. Например: У русского царя в чертогах есть палата: Она не золотом, не бархатом богата; не в ней алмаз венца хранится за стеклом (СЯП, т. 1, с. 35); В горьком опыта фиале Твой алмаз на дне горит. (Тютчев, с. 62–65) (здесь алмаз – ‘алмазный перстень’); Янтарь на трубках Цареграда, Фарфор и бронза на столе, И чувств изнеженных отрада, Духи в граненном хрустале (СЯП, т. 4, с. 876); Под грозной броней ты не ведаешь ран (СЯП, т. 1, с. 169); ... И с целой армией в бронях и на коне Противу мальчиков воюют? (Тютчев, с. 282); И, задрожав, булат холодный Вонзился в дерзостный язык (СЯП, т. 1, с. 179); Снова ль, Гектор, мчишься в поле брани, Где с булатом в неприступной длани. Мстительный свирепствует Пелид? (Тютчев, с. 59–60); С душою, полной сожалений, и опершися на гранит, Стоял задумчиво Ев- гений (СЯП, т. 1, с. 547); Стояла ты, младая фея, На мшистый опершись гранит ... (Тютчев, с. 136–137) (здесь гранит – ‘развалины гранитных стен замка’); Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе выкованной славы Трясешь ты гордой головой (Есенин, с. 244); Но, обреченный на гоненье, Еще я долго буду петь ... Чтоб и мое степное пенье Сумело бронзой прозвенеть (Есенин, c. 245); В струнах ли мечтаешь укрыться златых? Металл содрогнулся, тобой оживлен (Тютчев, с. 78); Металла голос погребальный порой оплакивает нас (Тютчев, с. 80).
Как метонимические в сочетаниях с существительными могут выступать прилагательные, например, у Тютчева: И звоном меди православной все огласились высоты (Тютчев, с. 254). Медь православная – ‘колокола православных церквей’. В стихотворении «17-е апреля 1818», в день 55-летия императора Александра II, поэт вспоминает: На первой дней моих заре ... Я в келье был, И тихой и смиренной, Там жил тогда Жуковский незабвенный. Я ждал его, и в ожиданье ... Следил за медной бурей , поднявшейся в безоблачном лазуре И вдруг смененной пушечной пальбой (Тютчев, с. 276). Метонимически-метафорическое словосочетание медная буря в значении ‘частый и сильный колокольный звон’ базируется на метонимической семантике существительного медь и метафоре бури.
Метафоро-метонимическое сочетание существительного и прилагательного использует и Блок, например, в стихотворении «Пожар»: Впереди скакун с трубой Над испуганной толпой. Скок по камню тяжко звонок. Голос хриплой меди тонок (Блок, т. 1, с. 304).
Как видно из приведенных поэтических строк, метонимический перенос усиливает образность стиха, сочетаясь с метафорой (прилагательным, глаголом, существительным), и таким образом создается обогащенное образное поэтическое поле.
Этот тип метонимического значения в словарях отражается непоследовательно. В СОШ приводятся метонимические значения (без указания на их образность) лексем: хрусталь – 2. ‘Посуда и другие изделия из этого стекла’ (СОШ, с. 870); бронза – 2. ‘Художе- ственное изделие из такого сплава’ (СОШ, с. 60); булат – 2. ‘Стальной клинок, меч’ (СОШ, с. 63); золото – 2. ‘Монеты или изделия из этого металла’ (СОШ, с. 232) и некоторых других. При этом они не отмечаются у лексем алмаз, янтарь, медь и многих других. Мы считаем, что в авторской лексикографии эти метонимические значения должны быть зафиксированы, возможно, и без указания на их переносность. Такой подход, позволяющий отразить особенности употребления лексем гранит, медный, алмаз и других, реализован в «Поэтическом словаре Ф.И. Тютчева» (Голо-ваневский, 2009).
Событийная метонимияв языке поэзии
Весьма распространенной в поэзии является оценочная характеристика события, отраженная в событийной метонимии, когда само событие не называется, а как бы шифруется указанием на время, в которое оно происходило, упоминанием его участников, топонимов, связанных с важными моментами данного события и другими факторами, имеющими непосредственное отношение к описываемым событиям. Как правило, в языке художественной литературы такой метонимический прием используется по «горячим следам» прошедших событий, поэтому он не вызывает затруднений в «расшифровке» темпоральных лексем, топонимов или антропонимов. При этом со временем, если эти номинации не закрепились в литературном языке в качестве словарных дефиниций в толковых словарях или не сохранились в памяти народа, то необходимы дополнительные разъяснения для точного понимания называемых дат и имен. Обратимся к поэтическим контекстам:
Снежные Балканы, Три Плевны, Шипка и Дубняк, Незаживающие раны, И хитрый и неслабый враг ... (Блок, т. 2, с. 279); Раскинулась необозримо Уже кровавая заря, Грозя Артуром и Цусимой, Грозя Девятым января (Блок, т. 2, с. 301); Как тяжкий бык, копытом бьющий травы, Крутоголовый, полный страшных сил, Здесь пятый год, великий и кровавый, Чудовищную ношу протащил (Багрицкий, с. 289); Отдам всю душу октябрю и маю, Но только лиры милой не отдам (Есенин, с. 251). Прочтешь не в буквах, а в другом, Что в той стране, где власть Советов, Не пишут старым языком.... Лишь потому так неумело шептал бумаге карандаш (Есенин, с. 252).
Из названных здесь имен и дат в словари различных типов вошли Шипка, Октябрь, май . И.А. Бодуэн де Куртенэ в третьем издании словаря В.И. Даля сопроводил словарную статью «Шипка» такой иллюстрацией: «На Шипке все спокойно... Эти слова вошли в поговорку для обозначения, что мнимо все хорошо, а на самом деле скверно» (Даль, т. 3, с. 1436). Октябрь – 2. ‘Великая Октябрьская социалистическая революция’ (СРЛЯ, т. 8, с. 829–830). Май – Перен. ‘О счастливой поре жизни и молодости’ (СРЛЯ, т. 6, с. 499). Отметим, что результаты событийной метонимии имен собственных входят в лексическую систему языка, например, Ватерлоо , Седан стали нарицательным именами и служат для ‘обозначения поражений, крушения завоевательной политики, старого режима какого-либо государства’ (Голованевский, 1995, с. 23, 95). Такими именами стали Порт-Артур, Цусима и др. Употреблялись они в основном в публицистике, откуда и вошли в поэзию и различные словари.
Выводы
Учение о метонимии привело нас к пониманию того, что можно выделить два ее типа: фактическую и событийную. Первая из них свойственна переносным значениям конкретных существительных, обозначающих части человеческого тела (рука, голова и т. п.), сооружения (дом, аудитория и т. п.), одежду (шляпа, сапоги), металлы, различные вместилища и много другое.
К событийной метонимии отнесем вторичные значения топонимов, названия различных артефактов. История государств, отдельных городов, артефактов порождает событийную метонимию, обязательно связанную со временем, факультативно – с топосом. Событий вне времени не бывает.
Событийную метонимию широко использовали Блок, Есенин, Багрицкий. У Тютчева названия городов, государств обычно употребляются в фактическом значении с обозначе- нием их жителей. В результате употребления слов в метонимических значениях в языке поэзии образуются сложные метафоро-метонимические конструкции, совмещение прямого и переносного значений лексем.
В статье мы кратко рассмотрели лишь три типа метонимических значений, используемых в русской поэзии, в том числе и не выделяемую исследователями событийную метонимию. Понятно, что такими переносами она не ограничивается. Весьма продуктивными типами являются: ‘Населенный пункт –жители’; ‘Часть – целое’ и обратное; ‘Человек, животное – артефакт, который используется ими’; ‘Учреждение – люди, работающие или находящиеся там’ и др. Каждый из этих метонимических типов может стать предметом специального исследования. Только дальнейшее изучение использования метонимии в языке вообще и отдельного автора в частности может способствовать лучшему пониманию природы этого образного средства и возможности его лексикографической маркировки.
Список литературы Поэтическая метонимия как тип лексического значения и ее отражение в лексикографической практике
- Апресян Ю. Д., 1995. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: «Языки русской культуры». 472 с.
- Арутюнова Н. Д., 1999. Язык и мир человека. М.: «Языки русской культуры», 1999. 896 с.
- Голованевский А. Л., 2013. Тютчев - русская языковая поэтическая личность: монография. Брянск: «Курсив». 292 с.
- Голованевский А. Л., 2017. Концепт ФАКТ в мире языка // Вопросы когнитивной лингвистики. Вып. 3. С. 63-75.
- Квятковский А. П., 1966. Поэтический словарь. М.: «Советская энциклопедия». 375 с.
- Шмелев Д. Н., 1973. Проблемы семантического анализа лексики. М.: «Наука». 280 с.
- Шмелев Д. Н., 1977. Современный русский язык. Лексика. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по специальности «Рус. яз. и литература». М.: «Просвещение». 335 с.