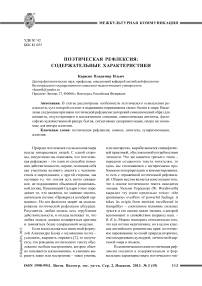Поэтическая рефлексия: содержательные характеристики
Автор: Карасик Владимир Ильич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 3 (19), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности поэтического осмысления реальности, суть которой состоит в выражении переживания своего бытия в мире. Выделены следующие признаки поэтической рефлексии: авторский символический образ для концепта, отсутствующего в коллективном сознании, символическая антитеза, философско-художественный ракурс бытия, ситуативная суперимпозиция, опора на значимые для автора аллюзии.
Поэтическая рефлексия, символ, антитеза, суперимпозиция, аллюзия
Короткий адрес: https://sciup.org/14969725
IDR: 14969725 | УДК: 8142
Текст научной статьи Поэтическая рефлексия: содержательные характеристики
Природа поэтического осмысления мира всегда интересовала людей. С одной стороны, интуитивно мы понимаем, что поэтическая рефлексия – это один из способов познания действительности, вернее, познания себя как участника великого диалога с человечеством и мирозданием, с другой стороны, мы осознаем то, что поэзия есть нечто священное, не поддающееся обыденной рациональной логике. Пушкинский Сальери точно определяет то, что является, по мнению многих, антиподом поэзии: «Проверил я алгеброй гармонию». Но для филолога запрет на моделирование поэтической рефлексии абсурден. Разумеется, любая модель есть огрубление действительности, и отсюда вытекает то, что любая модель должна подвергаться критике и заменяться более совершенной моделью.
Если воспользоваться известной формулой Александра Блока о назначении поэта – услышать, выразить, передать [2], то получается, что рождение поэтического текста обусловлено особым настроением, которое обычно называется вдохновением, и умением выразить идею или настроение – такое умение, или мастерство, вырабатывается специфической практикой, обусловленной потребностями личности. Что же касается третьего этапа – передачи созданного текста читателям, то здесь мы сталкиваемся с интересными проблемами интерпретации и комментирования, то есть с отраженной поэтической рефлексией. Общим местом является констатация того, что в основе поэтического текста находится эмоция. Уильям Уордсворт (W. Wordsworth) выразил эту идею предельно точно: «the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility» – спонтанное излияние сильных чувств: в его основе лежит эмоция, о которой вспоминают в спокойствии (перевод наш. – В. К.)». Можно поспорить относительно того, что вся поэзия медитативна, но в целом классик английского романтизма прав: поэтическое переживание по своей природе вторично, оно опосредовано культурой, личностной картиной мира и языком.
В семиотическом плане поэтическая рефлексия сводится к содержательным и формальным характеристикам поэтического тек- ста. Первые – это поэтические смыслы, то есть особые приращения к тем квантам переживаемого знания, которые позволяют нам отнести текст к поэзии, а не к обиходному, научному, юридическому или какому-либо другому дискурсу. Вторые – это ритмические повторы, придающие, как отмечает А.П. Квят-ковский [5], тексту определенную стройность. Необходимо отметить, что содержание и форма поэтического текста тесно взаимосвязаны: М.Л. Гаспаров [3] приводит убедительные доказательства того, что определенным размерам в русской поэзии присуща определенная гамма смыслов.
Важнейшей характеристикой поэтического текста является его фасцинативность: настоящая поэзия завораживает, такие тексты хочется перечитывать. Есть два вида фасци-нативности: в одном случае читатель попадает под власть того или иного текста, в другом – сам автор становится объектом фасци-нации своего творения. Подчеркивается священный характер вдохновения ( Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. – А.С. Пушкин), неподконтрольность творчества ( Хоть рифма, точно плаха, меня сама берет. – А.А. Тарковский), сгорание в творческом огне ( О, знал бы я, что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что строчки с кровью – убивают, / Нахлынут горлом и убьют! – Б.Л. Пастернак). Переживание того, что поэт является медиумом между миром поэтического смысла и воплощением этого смысла в слова, обобщенно выражено в известном высказывании М. Хайдеггера «Die Sprache spricht» – «Язык говорит». Такое понимание способности выражать свой сокровенный мир посредством слов наиболее отчетливо проявляется именно в поэтической речи, и поэтому И. Бродский назвал поэзию видовой целью человечества.
Основное содержательное отличие поэтического текста от обиходного состоит в том, что первому присуща высокая концентрация смысла, облеченного в образную форму и превращенного в символ – знак с бесконечной интерпретативной глубиной, по С.С. Аверинцеву [1, с. 607]. Способы символического смысло-порождения – языковая техника уплотнения содержания текста – сводятся к определенным приемам (разрыхление семантики слов, их нестандартная сочетаемость, построение множественных аллюзий, актуализация смысловых разрывов, фонетические ассоциации) [4]. Разумеется, список не является исчерпывающим. Но еще более важно то, что поэтический текст в значительной мере обусловлен каноном той или иной лингвокультуры. Современная англоязычная поэзия в большинстве случаев принципиально отказывается от рифмы. Уплотнение поэтического смысла достигается за счет сугубо содержательных приемов.
Типичным поэтическим приемом уплотнения смысла является создание нового символического образа для концепта, которого еще нет в коллективном сознании. Это – один из основных способов построения авторской картины мира. Обратим внимание на то, как эта авторская метафора разворачивается в коротком стихотворении современной американской поэтессы Луизы Глюк (Louise Glück).
Gratitude
Do not think I am not grateful for your small kindness to me.
I like small kindnesses.
In fact I actually prefer them to the more substantial kindness, that is always eying you, like a large animal on a rug, until your whole life reduces to nothing but waking up morning after morning cramped, and the bright sun shining on its tusks.
Подстрочный перевод:
Не думай, что я неблагодарна тебе за твою малую доброту ко мне. Мне нравится малая доброта. На самом деле, я предпочитаю ее более основательной доброте, которая всегда пристально смотрит на тебя, как большое животное на коврике, пока вся твоя жизнь не съежится в ничто, в судороги, с которыми просыпаешься каждое утро, а на его клыках сияют яркие солнечные лучи.
Ситуация, о которой говорится в этом тексте, весьма своеобразна: благодарность, которую испытывает человек за какое-то большое благодеяние, становится невыносимым бременем для этого человека. Такой текст, как представляется, мог возникнуть в сознании человека с предельно обостренным чувством независимости и болезненной рани- мостью. Благодарность действительно относится к числу тех чувств, которые могут в определенных ситуациях сковывать того, кому хотели помочь, даже если эта помощь оказана искренне и бескорыстно. Но после такого доброго дела человек оказывается в долгу перед кем-то. Не случайно исследователи вежливости П. Браун и С. Левинсон обозначили такой тип коммуникативных действий словосочетанием «face threatening act» (в лингвистической литературе распространен тяжеловесный перевод «ликоущемляющий акт»). Известно, что в определенных культурах не принято благодарить близких людей, иначе возникает мысль, что близкие могли бы и не помочь, а это оскорбительно для них. В англоязычном мире с этой этикетно-этической проблемой справляются легко: в благодарность вкладывается прежде всего выражение доброго отношения к человеку и только потом выражение долга перед этим человеком.
В приведенной поэтической метафоре большая благодарность становится полуфан-тастическим животным. На кого смотрит такой зверь? Если это дикое животное, то перед нами прототипная ситуация зоопарка, но посетитель и зверь меняются местами (не случайно используется стилистически маркированный глагол to eye «глазеть, пристально смотреть»). В результате единственное чувство, которое остается у облагодетельствованного человека, сводится к спазмам, к судорогам. Важным компонентом этого символического образа являются солнечные лучи на клыках – идея торжества победителя. Сфера эмоций – весьма сложная и не до конца концептуализированная в языке область. Наряду с радостью, печалью и страхом человек может испытывать весьма сложные чувства, такие как злорадство или то, что по-русски обозначается как «белая зависть». Луиза Глюк поэтически обозначает тот концепт, который еще не сложился в англоязычном сознании.
Поэтическое уплотнение смысла выражается в выборе образа, который обладает символическим потенциалом, при этом идея должна включать некоторую антитезу: добро и зло, красота и уродство, любовь и безразличие и т. д. Речь идет о поэтической антитезе как приеме художественного осмысления
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ мира. Американский поэт Чарльз Симик (Charles Simic) осмысливает один из ключевых многомерных символов противоборства человека с судьбой следующим образом.
The Supreme Moment
As an ant is powerless Against a raised boot, And only has an instant To have a bright idea or two. The black boot so polished, He can see himself
Reflected in it, distorted,
Perhaps made larger
Into a huge monster ant
Shaking his arms and legs
Threateningly?
The boot may be hesitating,
Demurring, having misgivings,
Gathering cobwebs, Dew?
Yes, and apparently no.
Подстрочный перевод:
Высший момент
Как муравей бессилен против занесенного над ним ботинка и у него есть лишь миг на одну-две яркие идеи. Черный ботинок так начищен, он видит свое отражение в нем, искаженное, возможно, увеличенное – огромного муравья-монстра, с угрозой потрясающего руками и ногами? Ботинок может застыть в нерешительности, колебаться, давать осечки, собирая паутину и капли росы? Да, и, несомненно, нет.
Образ судьбы в виде огромного ботинка над головой беззащитного существа – еще один пример вечной темы противоборства человека с тем, что Шекспир назвал «морем бед». Человек обречен, но у него есть право на сохранение лица. Возможность бегства или более деятельного сопротивления не рассматривается. Первый вариант – увидеть себя как достойного бойца в неравной схватке с врагом. Ключевое слово в этом образе – distorted «искаженный». В стихотворении намеренно смешиваются детали реального и художественного миров: глядя на занесенный ботинок снизу вверх, нельзя увидеть своего отражения, над головой только подошва, и у муравья нет рук и ног, все его шесть лапок одинаковы. Второй вариант – принижение противника: идея нерешительности передается двумя синонимами со значением «колебаться» – to hesitate и to demur – различие между которыми состоит в нюансах нерешительности (в первом случае акцентируется отсутствие действий, во втором – наличие внутренних возражений). Противник может показаться не только нерешительным, но и неэффективным – он может промахнуться. Наконец, он выглядит непривлекательным – в паутине и грязи от пыли, перемешанной с каплями росы.
Итак, первая антитеза (человек и судьба) дополняется второй антитезой (самовоз-вышение и принижение врага). Обратим внимание на то, что муравей – живое существо, а ботинок – вещь. Поэт не акцентирует идею о том, что вещь находится под чьим-то контролем, а ботинок – на чьей-то ноге. Наконец, появляется третья антитеза, которая выражена в виде диалога: существует ли вариант сохранения лица ( bright idea )? Ч. Симик дает двойной ответ: да и нет, хотя отрицательный ответ представляется более сильным из-за модального наречия apparently «несомненно». Общий вывод этого ироничного текста пессимистичен: значим заголовок « Высший момент », экзистенциальная пограничная ситуация встречи с высшей сущностью, или судьбой, или смертью. Интересен синтаксис этого поэтического текста. Первое высказывание (тезис) представляется незавершенным в структурном плане. Второе и третье предложения (антитезис) заканчиваются вопросительными знаками, хотя построены как утвердительные высказывания. Финальная фраза (синтез) оставляет выбор читателю.
Одним из приемов концентрации смысла в поэтическом тексте является философско-художественное осмысление мироздания. Поэт отвечает на главный вопрос – в чем смысл его творчества. Американский поэт Марк Стрэнд (Mark Strand) приглашает читателя оглядеться и задуматься над тем, кто мы и в чем наше назначение. Такая традиция в американской поэзии идет от Уолта Уитмена.
Keeping Things Whole
In a field
I am the absence of field.
This is always the case.
Wherever I am
I am what is missing.
When I walk
I part the air and always the air moves in to fill the spaces where my body’s been. We all have reasons for moving.
I move to keep things whole.
Подстрочный перевод:
Поддерживая целостность
В поле я – отсутствие поля. Так всегда происходит. Где бы я ни был, я то, что отсутствует. Когда я иду, я разделяю воздух, и всегда воздух вливается в те места, где было мое тело. У всех нас есть причины для движения. Я двигаюсь, чтобы поддерживать целостность.
Этот предельно простой по лексическому составу философско-поэтический текст объясняет важнейший принцип мироздания – гармонию. Внешне стихотворение построено как парадокс: наличие есть отсутствие, и, наоборот, отсутствие есть основание для наличия. Образ человека, идущего в бескрайнем поле и обдуваемого ветром, становится символом бытия. Как символ, открытый для бесконечной интерпретации, этот образ порождает множественные отклики.
Прежним оставить былое
Во поле я есть отсутствие поля.
И так происходит всегда.
Где бы я ни был, я есть то, чего нет.
Проходя мимо, я воздух покидаю, но воздух всегда возвращается заполнить тот вакуум, где мой призрак бывал.
На то есть причины у всех – чтоб уйти.
Я ухожу, чтобы прежним оставить былое.
(Перевод Александра Вейцмана)
Переводчик внес существенное личное дополнение в оригинальный текст: подчеркнуты идеи ухода и движения по кругу. С этим прочтением можно соглашаться или не соглашаться.
Сильным способом концентрации смысла является ситуативная суперимпозиция (наслаивание): некая ситуация наслаивается на предыдущую, и мы начинаем воспринимать то или иное положение дел принципиально в другом аспекте. При этом сохраняется прежнее видение ситуации. Рассмотрим стихотворение в прозе современного американского поэта Расселла Эдсона (Russell Edson).
The Fall
There was a man who found two leaves and came indoors holding them out saying to his parents that he was a tree.
To which they said then go into the yard and do not grow in the living room as your roots may ruin the carpet.
He said I was fooling I am not a tree and he dropped his leaves.
But his parents said look it is fall.
Подстрочный перевод:
Осень
Жил-был человек, который нашел пару листьев и пришел домой, держа их перед собой, и сказал родителям, что он – дерево.
На что они сказали: «Тогда иди во двор, не расти в гостиной, потому что твои корни могут порвать ковер».
Он сказал: «Я пошутил, я не дерево», и уронил листья на пол.
Но его родители сказали: «Смотрите, осень».
Перед нами аллегория, переходящая в символ. Мальчик играет и понимает, что он играет. Но его родители резко меняют свое отношение к происходящему: сначала они поддерживают игру, а затем принимают ее как реальность. Сценическое действо становится реальной жизнью. Или, может быть, родители начинают играть в свою игру, зеркально меняясь со своим сыном в оценке реальности происходящего. Обратим внимание на очень практическую причину совета родителей мальчику: дерево своими корнями может порвать ковер. В этот момент и взрослые и ребенок понимают, что они участвуют в игре.
Однако затем происходит суперимпозиция новых ролевых отношений: мальчик вернулся в прежнюю реальность, а родители перешли в новую. Такая ситуация становится символом невозвратимости прежней жизни. Нечто подобное происходит в известной пантомиме Марселя Марсо, когда персонаж примеряет маски, снимает их и в какой-то момент не может снять очередную маску – она приросла к лицу. В приведенном оригинальном тексте используется распространенный графический прием – отсутствие знаков препинания. Остаются только знаки начала и конца высказывания (заглавная буква и точка). Отсутствие знаков препинания создает иллюзию иной текстовой реальности. Вместе с тем в качестве сюжета стихотворения в прозе взят вполне обычный эпизод обиходной жизни.
Уплотнение смысла в поэтическом тексте достигается благодаря опоре этого текста на те тексты, которые значимы для автора и для той культуры, в которой находится автор. Речь идет об интертекстуальных связях поэтического произведения. Американский поэт Уильям Стэнли Мервин (W.S. Merwin) перекликается с британским классиком Джоном Китсом.
A Thing of Beauty
Sometimes where you get it they wrap it up in a clock and you take it home with you and since you want to see it it takes you the rest of your life to unwrap it trying harder and harder to be quick which only makes the bells ring more often.
Подстрочный перевод:
Предмет красоты
Иногда там, где вы это получаете, они заворачивают это в часы, и вы уносите это домой, и поскольку вы хотите это увидеть, вам требуется вся оставшаяся жизнь, чтобы развернуть это, и вы пытаетесь изо всех сил снимать оболочки быстрее, в результате чего колокольчики лишь звенят все чаще.
В начале хрестоматийного стихотворения Дж. Китса сказано:
A thing of beauty is a joy for ever: Its loveliness increases; it will never Pass into nothingness; but still will keep A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
Прекрасное пленяет навсегда.
К нему не остываешь. Никогда
Не впасть ему в ничтожество. Все снова Нас будет влечь к испытанному крову С готовым ложем и здоровым сном.
(Перевод Бориса Пастернака)
У.С. Мервин использует в качестве про-тотипной ситуации покупку некой дорогой и хрупкой вещи, которая тщательно обернута в несколько слоев бумаги. Действительно, ценность шедевра с годами увеличивается. Но на этом сходство двух ситуаций – прецедентной и данной – заканчивается. Для Дж. Китса прикосновение к предмету красоты вполне реально и сопряжено с гармонией и покоем, а для У.С. Мервина – с тщетным желанием увидеть драгоценную вещь. В качестве оберточного материала в тексте нашего современника фигурирует время, причем в конкретном воплощении – в виде часов со звоночками. Этот сюрреалистический образ позволяет выразить главную идею – красота недостижима. Таким образом, текст приобретает ироническое звучание.
Подведем основные итоги.
Поэтическая рефлексия представляет собой художественное осмысление реальности, в основе которого лежит потребность выразить эмоциональное переживание своего бытия в мире. Существенными признаками поэтической рефлексии являются в содержательном плане высокая концентрация смысла, выраженного в образной форме и превращенного в символ, а в формальном отношении – закрепленные художественным каноном и культурными традициями способы вербализации этого смысла. К числу приемов содержательной концентрации поэтического смысла можно отнести следующие: 1) новый символический образ для концепта, отсутствующего в коллективном сознании; 2) символическая антитеза; 3) философско-художественный ракурс бытия; 4) ситуативная суперимпозиция; 5) опора на значимые для автора аллюзии.
Список литературы Поэтическая рефлексия: содержательные характеристики
- Аверинцев, С. С. Символ/С. С. Аверинцев//Философский энциклопедический словарь. -М.: Сов. энцикл., 1983. -С. 607-608.
- Блок, А. А. О назначении поэта. Стихия и культура/А. А. Блок. -М.: УРСС, 2011. -184 с.
- Гаспаров, М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти/М. Л. Гаспаров. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1999. -289 с.
- Карасик, В. И. Языковая матрица культуры/В. И. Карасик. -Волгоград: Парадигма, 2012. -448 с.
- Квятковский, А. П. Поэтический словарь/А. П. Квятковский. -М.: Сов. энцикл., 1966. -376 с.