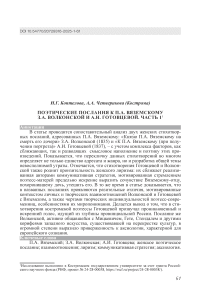Поэтические послания к П. А. Вяземскому З. А. Волконской и А. И. Готовцевой. Часть 1
Автор: Коптелова Н.Г., Четверикова А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится сопоставительный анализ двух женских стихотворных посланий, адресованных П.А. Вяземскому: «Князю П.А. Вяземскому на смерть его дочери» З.А. Волконской (1835) и «К П.А. Вяземскому (при получении портрета)» А.И. Готовцевой (1837), - с учетом комплекса факторов, как сближающих, так и разводящих смысловое наполнение и поэтику этих произведений. Показывается, что перекличку данных стихотворений во многом определяет не только единство адресата и жанра, но и разработка общей темы невосполнимой утраты. Отмечается, что стихотворения Готовцевой и Волконской также роднит пронзительность женского лиризма: их сближает реализованная авторами коммуникативная стратегия, мотивированная стремлением поэтесс матерей предельно искренне выразить сочувствие Вяземскому отцу, похоронившему дочь, утешить его. В то же время в статье доказывается, что в названных посланиях проявляются разительные отличия, мотивированные контекстом личных и творческих взаимоотношений Волконской и Готовцевой с Вяземским, а также чертами творческих индивидуальностей поэтесс современниц, особенностями их миропонимания. Делается вывод о том, что в стихотворении костромской поэтессы Готовцевой прозвучал проникновенный и искренний голос, идущий из глубины провинциальной России. Послание же Волконской, активно общавшейся с Мицкевичем, Гете, Стендалем и другими корифеями западного искусства, существовавшей на перекрестке культур, в огромной степени выразило приверженность к аксиологии, характерной для европейского сознания.
П.а. вяземский, з.а. волконская, а.и. готовцева, женское поэтическое послание, взаимоотношения, лиризм, коммуникативная стратегия, аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/149147796
IDR: 149147796 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-61
Текст научной статьи Поэтические послания к П. А. Вяземскому З. А. Волконской и А. И. Готовцевой. Часть 1
P.A. Vyazemsky; Z.A. Volkonskaya; A.I. Gotovtseva women’s poetic messages; relationships; lyricism; communication strategy; axiology.
В историю русской литературы П.А. Вяземский вошел как многогранная творческая личность: он проявил себя как поэт, литературный критик, публицист, переводчик. Вяземский также обладал редкой способностью объединять разных художников слова, играл роль своеобразного организатора литературного процесса. Он магнетически притягивал к себе многих писателей-современников. Ближайший друг Пушкина, Вяземский был знаком с самыми выдающимися людьми своего времени. Кажется, нет ни одного литератора первой половины ХIХ в., чьи произведения Вяземский не читал, с кем бы лично не общался. Он активно контактировал и с женщинами-писательницами, как хозяйками столичных литературных салонов, так и авторами, живущими в провинции. Среди его знакомых, адресатов писем и стихов – такие яркие представительницы женской литературы ХIХ столетия, как А.О. Ишимова, Е.П. Ростопчина, К.К. Павлова, Е.А. Тимашева, А.В. Зражевская, З.А. Волконская, А.И. Готовцева. Характеризуя в истории русской литературы период первой половины ХIХ в., М.Ш. Файнштейн справедливо отмечает: «Отношение официальной России к литературной деятельности женщин в целом было негативным. И все же “женская литература” находила известное понимание в передовых кругах русского общества» [Файнштейн 1989, 161–162]. К такому кругу людей, несомненно, относился и Вяземский, выполнивший миссию наставника и покровителя для некоторых писательниц-современниц. Так или иначе он был причастен к началу их творческой самореализации. Перечисленные нами имена авторов-женщин стали известны читателям во многом именно благодаря поддержке Вяземского. Его деятельность, направленная на стимулирование женского литературного творчества, подкреплялась и живым интересом к философскому вопросу о специфике и природе феномена художественного феминизма, над которым он одним из первых в начале ХIХ в. начал размышлять в своей критике и публицистике [Прохорова 2009]. Не будет преувеличением сказать, что Вяземский стоит у истоков гендерной проблематики, ставшей весьма актуальной в гуманитарных исследованиях ХХ–ХХI вв. [Прохорова 2009]. Действуя непоследовательно и противоречиво, часто прикрываясь иронией и шутливым тоном в письмах и публичных высказываниях, он тем не менее не только способствовал осознанию ценности феномена феминности в общественной жизни России, но и активно стремился ввести его в состав русской художественной культуры.
Любопытно, что почти одновременно Вяземский оказался адресатом стихотворных посланий, созданных З.А. Волконской и А.И. Готовцевой. Речь идет о таких произведениях, как «Князю П.А. Вяземскому на смерть его дочери» Волконской (1835) и «К П.А. Вяземскому (при получении портрета)» Готовцевой (1837). В предложенной статье будет проведен сопоставительный анализ этих женских поэтических посланий Вяземскому с учетом комплекса факторов, как сближающих, так и разводящих их смысловое наполнение и поэтику.
В судьбах и Волконской, и Готовцевой Вяземский сыграл роль своеобразного проводника в мир писательства. Несмотря на то что Волконская и Готовцева во многом представляют собой полюсы женской литературы первой половины ХIХ в., репрезентируя типы столичного и провинциального художественного сознания, в траектории их творческого развития, закономерно приведшего обеих поэтесс к общению с Вяземским, можно выявить определенные параллели. Если Волконская прославилась как хозяйка литературно-музыкальных салонов, созданных ею в Москве и в Риме, то дом Готовцевой в провинциальной Костроме также стал культурным центром губернского города. Костромская поэтесса, отличавшаяся удивительной скромностью, так же, как и ее знаменитая современница, тесно общавшаяся с императором Александром I и названная А.С. Пушкиным «Царицей муз и красоты», страстно любила музыку и живопись.
Примечательно, что Готовцева, подобно Волконской, прекрасно знала французский язык и французскую литературу. Как отмечает Б.А. Арутюно-ва-Манусевич, «еще в ранней юности Зинаида Волконская начала писать стихи по-французски» [Арутюнова-Манусевич 2017, 19]. В свою очередь, одной из первых публикаций юной Готовцевой стал перевод элегии А. де Ламартина «Одиночество» в журнале «Сын Отечества» за 1826 г. [Готовцева 1826b].
Отдавая дань времени, Волконская очень интересовалась творчеством Жермены де Сталь. В юности она отправила французской романистке свою поэму «Возвращая Коринну мадам де Сталь» [Арутюнова-Манусевич 2017, 19], а затем переписывалась с ней [Арутюнова-Манусевич 2017, 44–52]. Известно, что, желая подчеркнуть органическую связь Волконской с Италией, современники называли ее «Северной Коринной». В свою очередь, во втором стихотворном послании к Ю.Н. Бартеневу (1850) Готовцева, используя фразу из романа де Сталь в качестве эпиграфа, опосредованно отождествила свое лирическое «я» с образом Коринны, которая не могла существовать без того, чтобы выражать свои мысли и чувства в музыке и в поэзии [Коптелова 2024, 53–55].
Обе поэтессы в 1826 г. печатались в журнале «Московский телеграф», издаваемом Н.А. Полевым. Так, Волконская опубликовала в нем лирические эпитафии, адресованные Александру I (Московский телеграф. 1826. Ч. 7. № 1) и его жене, императрице Елизавете Алексеевне (Московский телеграф. 1826. Ч. 9. № 9). В 1826 г. в журнале «Московский телеграф» впервые была напечатана и элегия Готовцевой «К NN, нарисовавшей букет поблекших цветов» [Готовцева 1826а]. По предположению Б.Л. Модзалевского, данное стихотворение Готовцевой могло быть передано Полевому Вяземским [Модзалевский 1928, 315].
Наконец, их писательские судьбы роднятся в том, что и для Готовцевой, и для Волконской Вяземский стал посредником в установлении (в той или иной форме) творческого контакта с А.С. Пушкиным.
Своеобразие стихотворных посланий Вяземскому, написанных Волконской и Готовцевой, разумеется, отчасти мотивировано не только чертами их творческой индивидуальности, но и характером взаимоотношений адресата с авторами. Очертим общую картину этих взаимоотношений, ставших для обеих поэтесс стимулом к созданию указанных стихотворений.
Контакты Вяземского и Готовцевой были спорадическими. Так случилось, что Вяземский какое-то время играл для костромской поэтессы роль творческого покровителя. Он не раз посещал Костромскую губернию, где владел имением в селе Красное-на-Волге. Известно, что Готовцеву познакомил с Вяземским ее близкий друг и наставник Ю.Н. Бартенев, директор училищ Костромской губернии и Костромской гимназии. Судя по всему, активное участие в творческой судьбе Готовцевой Вяземский принимал отчасти и из симпатии к «земляку» Бартеневу, идя навстречу его просьбе. Об этом свидетельствует посвящение Вяземского, сопровождающее его стихотворение «Хотите ль Вы в душе проведать думы…» («Леса»), записанное в альбом Бартеневу 31 августа 1830 г.: «Любезному костромичу Юрию Никитичу Бартеневу от земляка» [Модзалевский 1910, 214]. Мотив землячества как особого духовного родства звучит и в письме Вяземского Бартеневу от 29 марта 1832 г.: «Нет нам, батюшка Юрий Никитич, костромичам счастья» [Письма князя П.А. Вяземского… 1897, 283]. Он присутствует и в письме Вяземского к Пушкину из Остафьева от 18 сентября 1828 г., в котором сообщается о том, что Готовцева – «костро-митянка» [Пушкин 1941, 27].
К тому же Вяземского и Бартенева сближали природное остроумие, широта духовных и интеллектуальных интересов, парадоксальное мышление. Оба они совпали также в своем горячем и искреннем стремлении выполнять в русском культурном пространстве особую миссию: всеми силами вдохновлять и поддерживать талантливых женщин-писательниц, способствуя их творческому самоутверждению. Подобно Вяземскому, свой заметный след Бартенев оставил не только в судьбе Готовцевой, но и в духовно-нравственных и художественных исканиях таких разных женщин-писательниц ХIХ столетия, как А.П. Хвостова, Е.П. Ростопчина, А.П. Глинка, Ю.В. Жадовская. Собственно говоря, Готовцева и оказалась одной из первых представительниц русской женской литературы, выведенных совместно Вяземским и Бартеневым в мир профессионального творчества.
Поистине «звездный час» для творческого самоопределения Готовцевой наступил в конце 1828 г. И состоялся он, несомненно, благодаря Вяземскому, который, по сути, открыл литературному миру новую поэтическую индивидуальность – Анну Готовцеву. Причем Вяземский весьма тщательно продумал саму форму знакомства читателя с молодой поэтессой: в альманахе «Северные цветы на 1829 год» он фактически выстроил некое «ансамблевое единство» [Тюпа 2002, 52], включающее в себя, в частности, послание Готовцевой «К Ю.Н. Бартеневу» и свои «Стансы», ей посвященные. В них Вяземский не просто сделал адресату приятный комплимент, как полагается в мадригале, но и определил, что феномен Готовцевой заключается в гармоническом слиянии ее женского обаяния и поэтического таланта:
Благоуханием души
И прелестью подобно розе, И без поэзии, и в прозе, Вы достоверно хороши.
Но мало было вам тревожить В нас вдохновительные сны: Вы захотели их умножить Дарами счастливой весны [Северные цветы… 1828, 178].
В то же время Вяземский проницательно выявил диалогическую природу поэзии Готовцевой, реализующейся обычно как отклик на чье-то «вдохновение», как ответ на творческий опыт другого человека. Он писал: «Вы захотели примирить / Существенность с воображеньем; / За вдохновенье вдохновеньем, / За песни песнями платить» [Северные цветы… 1828, 179]. Автор «Стансов» был восхищен неподдельной искренностью лирических признаний начинающей поэтессы: «С улыбкой вашею созвучен / И стих ваш, сердца чистый звук» [Северные цветы… 1828, 179].
Вяземский игриво, но достаточно конкретно очертил модель задуманного поэтического единства в том же письме к Пушкину:
Сделай милость, батюшка Александр Сергеевич, потрудись скомпоновать мадригалец в ответ, не посрами своего сводника. Нельзя ли напечатать эти стихи в Северных Цветах: надобно побаловать женский пол, тем более, что и он нас балует, а еще тем более, что весело избаловать молодую девицу. Вот и мои к ней стихи: мы так и напечатали бы эту Сузану между двумя старыми прелюбодеями [Пушкин 1941, 27].
Композиционным центром этого циклического лирического образования, созданного по замыслу Вяземского, конечно, стал стихотворный диалог Готовцевой и Пушкина. Он сложился из послания поэтессы Пушкину («А. С. П.») и пушкинского «Ответа», адресованного Готовцевой [Северные цветы… 1828, 180–182]. Стратегический расчет Вяземского, шутливо названный им в письме к Пушкину литературным «сводничеством», оправдался: диалогическое сцепление послания Готовцевой с пушкинским «Ответом», несомненно, усилило резонанс, вызванный публикацией произведений костромской поэтессы.
Поэтический диалог Готовцевой с Пушкиным демонстрировал появление женщины-поэта в пушкинском окружении и сигнализировал об уверенном утверждении в литературном процессе Золотого века «женской лиры». Кроме того, творческий успех Готовцевой в «Северных цветах» знаменовал выход литературного процесса в России на новый уровень, характеризующийся возникновением культурных центров в провинциальных городах. Он свидетельствовал о появлении в среде периферийной читающей публики авторов, достаточно самостоятельных, владеющих современным литературным языком, свободно ориентирующихся в общеевропейском эстетическом движении и при этом способных существовать в региональном культурном поле.
Однако необходимо осознать, что катализатором не только полемичности, но и смысловой потаенности, определенной «недосказанности» поэтического диалога, произошедшего между Готовцевой и Пушкиным, стал тот же Вяземский. Отечественные литературоведы солидаризируются во мнении, что в своем послании Готовцева намекала Пушкину на нелицеприятные суждения о женщинах, высказанные им анонимно в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», напечатанных в «Северных цветах на 1828 год» [Романова 2020, 68–69]. Стоит отметить, что В.Э. Вацуро делает небезосновательное предположение, что дешифровать пушкинское авторство «Отрывков», общаясь с Готовцевой, вполне мог Вяземский [Вацуро 2004, 108]. И этот поступок в его интерпретации выглядел как творческая провокация, способная завязать комплиментарный и одновременно полемический диалог между начинающей поэтессой и гениальным Пушкиным. Вяземский, неслучайно получивший в «Арзамасе» прозвище «Асмодей», то есть демон-искуситель, смог блестяще воплотить в жизнь свой тайный художественный план, несмотря на определенное сопротивление Пушкина. Трудно не согласиться с выводом Вацуро: «Его [Вяземского. – Н.К. ) усилиями скромная костромская поэтесса была вызвана на страницы “Северных цветов” – и он же еще раз заставил ее имя прозвучать в русской литературе» [Вацуро 2004, 109].
Участие Вяземского в творческой судьбе Готовцевой продолжилось и далее. Благодаря его содействию в журнале «Галатея» за 1829 г., издаваемом С.Е. Раичем, были опубликованы следующие стихотворения костромской поэтессы: «Е.Н. Кашкаровой (В ее альбом)» (ч. 1), «Надежда» (ч. 2), «К перу, подаренному мне князем Вяземским» (ч. 4), «На смерть А.И. Ж … й» (ч. 7), «Осень» (ч. 8).
Показательно, что письмо, отправленное Готовцевой Вяземским в 1829 г. и частично опубликованное в альманахе «Денница» в 1830 г., выходит за рамки личной переписки. Из наставления опытного литературного мэтра начинающей поэтессе оно перерастает в эстетическую программу будущей женской поэзии и русской поэзии вообще, поскольку в нем очерчиваются аксиологические творческие ориентиры, весьма важные для Вяземского:
Смею даже советовать вам упражняться постоянно и прилежно: пишите более и передавайте стихам своим как можно вернее и полнее впечатления, чувства и мысли свои. Пишите о том, что у вас в глазах, на уме и на сердце. Не пишите стихов на общие задачи. Это дело поэтов-ремесленников. Пускай написанное вами будет разрешением собственных, сокровенных задач. Тогда стихи ваши будут иметь жизнь, образ, теплоту, свежесть. В женских исповедях есть особенная прелесть. Свой взгляд, свое вы- ражение придают печать оригинальности и новости предметам самым обыкновенным [Вяземский 1830, 122–123].
Советы Готовцевой Вяземский сопрягает с критическим анализом современного литературного процесса. Он отмечает:
Почему так мало истинно хороших стихов пишется в наше время, хотя число стихотворцев нарочито умножилось? Потому что многие поют фальшиво, не своим голосом, а подделываясь под чужие голоса. <…> В большей части наших поэтов современных, мы не видим лиц, а видим маску, которую они отлили себе, соображаясь с духом времени и корча господствующее лицо. Ради бога не надевайте маски:
Не увлекайтеся заразой повсеместной, Вы сердца слушайтесь, не моды, не молвы: И чтоб наверно быть прелестной,
Вы будьте истинны, вы будьте просто вы [Вяземский 1830, 123–124].
Однако, безусловно, с Волконской биографически Вяземский был связан гораздо теснее, нежели с Готовцевой, с которой он встречался всего несколько раз. Вяземский и Волконская были людьми примерно одного возраста. Они вращались в одних и тех же социальных кругах. Их связывала многолетняя дружба.
Имя Волконской начинает упоминаться в переписке Вяземского с А.И. Тургеневым с сентября 1817 г. [Остафьевский архив… 1899–1913, I, 87]. Контакты Вяземского с Волконской укрепились, когда они сблизились в Варшаве в 1819 г. Об этом как раз свидетельствует эпистолярное общение Вяземского и Тургенева. Так, в письме Тургеневу от 30 сентября 1819 г. Вяземский восторженно отзывается о певческом таланте и мастерстве Волконской: «Княгиня Зенеида пела прекрасно; метода ее напоминает Боргондио» [Остафьевский архив… 1899–1913, I, 318]. В письме от 4 октября 1819 г. он шутливо и в то же время искренне восхищается уже многогранной одаренностью Волконской: ее интеллектом, пением и, конечно, женским обаянием. Вяземский, в частности, сообщает: «Сейчас отдал я княгине Зенеиде книгу Сопикова (речь идет о фундаментальном труде В.С. Сопикова «Опыт российской библиографии» [Саитов 1899, 646]. – Н.К.): она собирается писать что-то о русской словесности. Велик русский Бог! Она мила и русская: не сомневаюсь в успехе или лучше сказать, в удаче. Он очень любезна и поет, как ангел» [Остафьевский архив… 1899– 1913, I, 322–323]. Примечательно, что в этом письме Вяземский оценивает и первый прозаический опыт Волконской – «Quatres nouvelles» («Четыре повести»), вышедшие в Москве в 1819 г. Причем создается впечатление, что за его сдержанным одобрением скрывается дипломатическое стремление избежать резких выражений в адрес Волконской-писательницы и, соответственно, в некотором смысле – «позлатить пилюлю». Отвечая Тургеневу, откровенно признававшемуся, что чтение автором рукописи «Четырех повестей» не оставило у него «задорного впечатления» [Остафьевский архив… 1899–1913, I, 319], Вяземский все же находит в первом опыте начинающего прозаика некоторые достоинства. Он отмечает, что в первой повести Волконской «Лора» (наиболее автобиографичной из всех четырех произведений Волконской) «есть тонкие наблюдения и счастливые выражения» [Остафьевский архив… 1899–1913, I, 323].
То, что Вяземский считал главной сферой творческой реализации Волконской музыку, пение, подтверждает и его письмо к А.И. Тургеневу от 6 февраля 1833 г. Восхищение музыкальностью своей близкой знакомой поэт выразил яркими метафорами, окрашенными тонким лиризмом. Фрагмент письма Вяземского, описывающий атмосферу в доме Волконской, напоминает отрывок из стихотворения в прозе:
Там музыка входила всеми порами (on était saturé d’harmonie). Дом ее был волшебным замком музыкальной феи, ногою ступишь за порог, раздаются созвучия. До чего ни дотронешься, тысячи слов гармонически откликнутся. Там стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движение, все было пение [Остафьевский архив… 1899–1913, III, 223].
Впоследствии Вяземский, как и другие его современники, высоко оценил роль Волконской, создавшей художественный салон в Москве, ставший уникальным творческим пространством, местом встречи не только многих людей, причастных к искусству, но и диалога русской и европейской культур. Характеризуя московский литературный салон Волконской, Н.В. Сайкина справедливо указывает:
Одной из ключевых фигур салона Волконской является давний ее знакомый (не позднее, чем с 1819 г.) кн. П.А. Вяземский, в лице которого Волконская обретает дружественного представителя круга московских младших карамзинистов [Сайкина 2002, 8].
Вяземский неизменно восхищался творческой атмосферой салона Волконской, куда он старался завлечь Пушкина.
Разумеется, Волконская всеми силами поддерживала столь характерный для Вяземского талант «литературного сводничества». Так, в письме, написанном в промежуток с 20 сентября 1826 г. по 17 мая 1827 г., она откровенно зазывает в свой салон и Вяземского, и Пушкина:
Дорогой князь, приходите в воскресенье обедать ко мне, непременно; я кое-что прочту, что Вам, надеюсь, понравится. – Если мотылек Пушкин уловим, приведите его ко мне. Быть может, он думает, что найдет у меня многочисленное общество, как в последний раз, когда он был. Он ошибается, скажите ему это, и приведите его обедать. То, что я буду читать, ему тоже понравится [Волконская 1952, 52].
В конечном счете Пушкин, подобно своему другу, подчинился эстетическим «чарам» Волконской [Теребенина 1975]. Об этом Вяземский впоследствии рассказал в статье «Мицкевич о Пушкине» (1873) [Вяземский 1998, 132]. В названной работе он весьма точно определил миссию Волконской в русской культуре, по сути, охарактеризовав ее как организатора и координатора главных творческих сил Москвы:
В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли [Вяземский 1998, 131–132].
Симптоматично, что Пушкин был солидарен с Вяземским в высокой оценке той «эстетической соборности» и магической власти над умами и душами современников, которую Волконская смогла достичь в своем московском салоне, выполнявшем функцию настоящего оазиса русской культуры. В известном послании Волконской («Княгине З.А. Волконской при посылке ей поэмы “Цыганы”», 1827) он представил ее яркий духовно-творческий портрет, в котором присутствует переосмысленная, хотя и весьма устойчивая в пушкинской поэтике, символика, почерпнутая из древнегреческой мифологии: «Среди рассеянной Москвы, / При толках виста и бостона, при бальном лепете молвы, / Ты любишь игры Аполлона. / Царица муз и красоты, / Рукою нежной держишь ты / Волшебный скипетр вдохновений, / И над задумчивым челом, / Двойным увенчанным венком, / И вьется и пылает гений» [Пушкин 1977, 12]. Показательно, что в стихотворении Пушкина характеристика адресата опирается на образные ассоциации, восходящие к теме пифийских игр, посвященных богу Аполлону, покровителю искусств [Античная культура… 1995, 123–124]. В своем послании Пушкин изображает Волконскую увенчанной «двойным венком», символизирующим ее достижения в области как поэзии, так и музыки. Но, обращаясь к мотиву «игр Аполлона», он в то же время тонко намекает на то, что главной сферой ее творческой деятельности является музыка, доминирующая на дельфийских состязаниях [Античная культура… 1995, 123–124]. Неслучайно в финале послания поэт проецирует на личность Волконской именно образ Анджелики Каталани, выдающейся итальянской певицы, с восхищением слушавшей в России пение цыганки Степаниды: «Внемли с улыбкой голос мой, / Как мимоездом Каталани / Цыганке кочевой» [Пушкин 1977, 12]. В таком восприятии творческого облика Волконской Пушкин вполне совпадает с Вяземским.
При этом стоит отметить, что, в отличие от стихотворения «Ответ», адресованного Готовцевой и написанного отчасти под дружеским нажимом Вяземского, свое послание Волконской Пушкин создал на волне безоглядного восхищения, вызванного общением с нею в ее московском салоне. А вот парадокс Вяземского состоит в том, что, посвятив полузнакомой Готовцевой проникновенные «Стансы», он не адресовал подобного по глубине и лирической пронзительности стихотворного послания лично близкой ему Волконской. Правда, Вяземский участвовал в сочинении шутливых «Куплетов на день рождения княгини Зинаиды Волконской в понедельник 3-го декабря 1828 года» [Сочинения княгини Зинаиды Волконской… 1865, 155–157], написанных совместно с Е.А. Баратынским, С.П. Шевыревым, Н.Ф. Павловым, И.В. Киреевским. Они были созданы в форме поздравлений-комплиментов и преподнесены виновнице торжества накануне ее отъезда из России в Италию, а опубликованы впервые сыном Волконской только после смерти княгини в 1865 г.