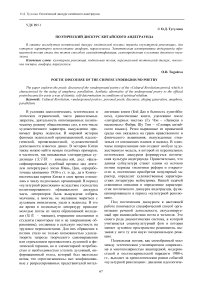Поэтический дискурс китайского андеграунда
Автор: Тугулова Ольга Доржиевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется поэтический дискурс «подпольной поэзии» периода «культурной революции», для которого характерно использование анафоры, параллелизма. Эстетическая альтернатива андеграунда официальной поэзии стала для поэтов способом самоидентификации, самоопределения в условиях духовного нигилизма.
Культурная революция, подпольная поэзия, персональный поэтический дискурс, поколение чжицин, анафора, параллелизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148182583
IDR: 148182583 | УДК: 895.1
Текст научной статьи Поэтический дискурс китайского андеграунда
В условиях идеологических, эстетических и этических ограничений, часто равносильных запретам, деятельность оппозиционных политическому режиму общественных сил, в том числе художественного характера, вынужденно принимает форму подполья. В мировой истории феномен подпольной организационной, идеологической, пропагандистской, художественной деятельности известен давно. В истории Китая также можно найти немало подобных примеров, в частности, так называемые «литературные судилища» (文字狱 – вэньцзы юй, досл. «фальсифицированный судебный процесс над деятелем литературы») эпохи Юань, Цин, «проработочные кампании» 1950-х гг. и др., да и Коммунистическая партия Китая в свое время относилась к числу подпольных организаций. В период «культурной революции» вследствие господства политизированного официального дискурса часть литераторов была вынуждена избрать молчание, а многие, не желавшие мириться с духовным нигилизмом, ушли в подполье. В это же время в подпольную литературу приходят молодые поэты из числа образованной молодежи (知青 – чжицин), вчерашние школьники и студенты (некоторые так и не завершившие образование), сосланные в сельскую местность на трудовое перевоспитание. Для них обращение к поэзии стало не только возможностью удовлетворить запросы творческого самовыражения или стремлением противостоять духовной и физической тирании, но и элементарной потребностью и необходимостью утолить духовный, информационный голод, который был настолько велик, что «проглатывалось» все: конфискованные у репрессированных представителей интел- лигенции книги (Бэй Дао в бытность хунвэйбином), единственные книги, уцелевшие после «литературных чисток» (Гу Чэн – «Записки о насекомых» Фабра; Шу Тин – «Словарь китайского языка»). Резко вырванные из привычной среды они оказались на грани нравственного и физического выживания, вынужденные отказаться от юношеских планов и надежд. В одночасье повзрослевшие они создают особую художественную модель, в которой из персональных поэтических дискурсов формируется поэтическая культура андеграунда. Примечательно, что данная субкультура станет одним из истоков поэзии периода «политики реформ и открытости» и, постепенно приобретая популярный характер, определит художественные характеристики литературы мейнстрима. Нашей задачей становится описание и определение характеристик поэтического дискурса андеграунда, функционировавшего в период «культурной революции».
Под поэтическим дискурсом в настоящей работе понимается специфический способ организации речевой деятельности, актуализируемый при взаимодействии поэта и читателя. Это своего рода диалектическая система, в которой учитывается социокультурный фон и которая меняет духовное пространство реципиента, вызывая у него ту или иную эмоциональную реакцию.
Подпольная поэзия, как своеобразный мост между эстетическим утилитаризмом соцреализма и многополярностью авангардной, модернистской и постмодернистской парадигм 1980-х гг., выходит за хронологические рамки событий «культурной революции»: давление идеологиче- ского пресса ощущалось задолго до начала означенных событий, да и в эпоху правления Дэн Сяопина существовали жесткие рамки цензуры. Процесс формирования подпольной поэзии связан с творчеством небольших групп представителей интеллигенции, распространявших свои произведения исключительно в узком кругу самых близких друзей. В редких случаях стихотворения фиксировались в дневниках, посланиях, однако чаще всего жизненный цикл произведения включал лишь два этапа: создание и чтение в кругу единомышленников. В период «культурной революции» в подпольную литераТУРУ приходят молодые люди поколения чжи-цин, многие из них впоследствии станут профессиональными поэтами и внесут вклад в развитие поэзии «нового периода».
В условиях господства идеологического дискурса официальной поэзии, наполняющего восторженные песнопения во славу вождя, существовала острая потребность в эстетической альтернативе. Одним из первых попытки создания новой художественной системы предпринял Хуан Сян ( 黄翔 ) (родился в 1941 г., начало публикационной активности относят к 1950-м гг.), первые признаки чего, в частности, находим в опубликованном в 1962 г. стихотворении «Соло» (« 独唱 »). Прежде всего метаморфозы претерпел лирический герой произведения. Лирическое «Я» отныне больше не глашатай определенной эпохи, не представитель какого-либо класса, не воплощение революционного борца пролетариата, за спиной которого стоит мощная армия из таких как он, а певец, у которого нет слушателей, одиночка, сторонящийся общества, у него независимый характер, он возвышается над толпой. В стихотворении слышен голос, который противостоит устоявшейся эстетической системе, входит с ней в явный диссонанс:
Кто я?
Я бесприютная душа из водопада.
Вечного отшельника одно стихотворение.
Мои скитания и песни – лишь сновидения след.
Мой единственный слушатель
– одиночество.
В не менее известном стихотворении «Дикий зверь» (« 野兽 ») отразились размышления поэта над эпохой, его критический дух и стремление к справедливости.
Я – затравленный дикий зверь.
Я – пойманный только что дикий зверь.
Я – затоптанный зверями дикий зверь.
Я – топчущий зверей дикий зверь.
Весьма продуктивным в данном стихотворении стало использование анафоры, подкрепленной лексическим и синтаксическим параллелизмом, которые пронизывают все строки приведенной строфы. Структуру текста составляет тема «Я – дикий зверь», при горизонтальном ее раскрытии добавляется определение, выраженное отглагольным прилагательным, причастием, с использованием активного и пассивного залога, выполняющего функцию ремы, т.е. актуали-затора в читательском восприятии. Для традиционной поэтики подобные художественные структуры, простые внешне, явление достаточно частое, т.к. корнями они уходят в народное песенно-поэтическое творчество, признаваемое одним из истоков китайской поэзии (достаточно вспомнить «Шицзин» или песни юэфу с их зачинами и рефренами). Новаторство Хуан Сяна проявилось в использовании традиционных приемов в их новым функционале, а именно для разрушения стереотипов сознания читателя, усыпленного привычным дискурсом официальной поэзии с лозунговостью и шаблонностью его структуры, для актуализации его восприятия отстраненной и нарочито-монотонной структурой. От строки к строке происходит эмоциональное нарастание, градация, затравленный, пойманный, затоптанный дикий зверь в последней строке занимает активную позицию - он сам топчет зверей . В заключительной строке парадоксальным образом проявилась гуманистическая идея о сущности человека: превращусь ли я в такого зверя, как диктует создавшаяся ситуация, и в то же время, я как личность, противостоящая ударам судьбы, конформизму, не приемлю пассивного залога, не допущу своей духовной смерти: [эпоха] загрызет меня до последней косточки / пусть от меня останется единственная кость / но она застрянет в глотке ненавистной эпохи .
Анафора часто выступает структурным элементом поэтического дискурса Ши Чжи ( 食指 ) (псевдоним Го Лушэна ( 郭路生 ), родился в 1948 г. в семье пекинского кадрового работника), в 1960-х гг. принимавшего участие в деятельности подпольных литературных салонов, с конца 1960-х гг. подпольно распространявшего поэтические произведения, за что был назван «первым поэтом новой поэзии периода культрева» [4, с. 87]. Наибольший отклик вызвало стихотворение Го Лушэна «Верь в будущее» (« 相信未来 »), возродившее надежду и ставшее своего рода жизненным девизом всего поколения молодых людей, сосланных на трудовое перевоспитание:
Когда нищетою дышит жилище, Когда паутиной заткнута дверь, Я разгребаю отчаянья пепел, Пишу снежинками:
«Верь в будущее, верь!»
[Пер. И. Ли. Азиатская медь, 2007, с. 64]
Произведение написано в духе романтизма, переплетающегося с чистотой душевных порывов юности. «В то время как сотни тысяч молодых людей залегли в укромных местечках и тайком зализывали раны; когда восторженность прошлых лет была вдребезги разбита ледяной реальностью; когда молодые люди уныло пытались найти выход из тупика, эта детская немыслимая вера проникла в каждого и воодушевляла на продолжение борьбы» [4, с. 89]. Стихотворение состоит из семи строф, каждая из которых тематически строится на антитезе – противопоставлении жизненных невзгод ( Когда мой цветок обрывает зверь, / Я на земле, пустой и бесплодной , Мы в прах рассыплемся. / Сомненья, / Блуждания мысли, душевная боль / Останутся людям ) и необходимости веры в будущее, жизнь, себя ( Я верю в будущее - / В грядущие поколенья , Я жду. Я хочу, чтобы нас оценили , Я верю, что юность сильнее смерти. / Поверьте в упорство своих усилий ). Использование автором анафоры, а также параллелизма в каждой из строф позволяет усилить эмоциональный накал произведения, передать напряжение, моральное, физическое, которое пришлось пережить поколению автора.
В последней строфе содержится универсальный бином: жизнь и смерть, столь характерный для мифопоэтического мышления, однако в индивидуально-авторской интерпретации Ши Чжи приобретающий дисбаланс в сторону одного из компонентов оппозиционной, но равновесной пары - жизни: «Верь в юность, смерть побеждающую, / Верь в будущее, жизнь люби».
Все строфы стихотворения равнозначны по количеству строк, и строки содержат примерно одинаковое количество иероглифов, что характерно для большинства произведений Ши Чжи, но отнюдь не для китайской поэзии ХХ в., основные характеристики которой сложились в 1920-е гг., «когда соответствующей требованиям времени поэтической формой стал свободный стих на разговорном языке «байхуа» с заимствованными на Западе и ставшими впоследствии характерными чертами китайской поэзии XX в. принципом разбивки стихов на строки, отсутствием рифмы, произвольным количеством иероглифов в строке, свободным строфическим построением» [2, с. 186]. С одной стороны, в этом проявляется индивидуальный почерк Ши Чжи, с другой, его стремление установить связь с клас- сической поэзией с ее строгими правилами стихосложения, возможно, как подспудный протест против отрицания пропагандистами «культрева» национального наследия, традиций классической литературы.
При очевидной скупости изобразительных средств произведения андеграунда обладают высокой степенью интенсивности воздействия и выразительной энергией, поскольку являют собой результат особой, обусловленной специфичной исторической эпохой, взволнованности авторов. Словарь подпольной лирики прост и обыден, в нем отсутствует поэтическая возвышенность, красивость, вычурность. Содержательность ее достигается не только лексическими средствами, но и элементами сюжетности, которые, например, присутствуют в стихотворении Ши Чжи «Это Пекин в шестнадцать ноль восемь минут» (« 这是四点零八分的北京 ») и, накладываясь на лирическую основу, добавляют тексту реалистичности, убедительности, достоверности, а значит, увеличивают его воздействующую силу. В основе произведения – событие 20 декабря 1968 г., всколыхнувшее всю страну и кардинально изменившее судьбу целого поколения, – ссылка образованной молодежи «в горы и деревни» на трудовое перевоспитание. «Сюжет» стихотворения, отразившего чувства молодых людей и их родственников, обрамлен большим кольцом, куда включается и название произведения. Таким образом, в поэтической истории обозначена точка отсчета «новой» жизни многих будущих поэтов Китая, их личностного и творческого становления (а значит, данное стихотворение в определенном смысле можно считать началом подпольной субкультуры). Пекин представлен в тексте как символ малой родины, которую против своей воли с большой болью оставляли тысячи представителей поколения чжицин :
Вдруг кольнуло в груди.
Я знаю:
Это мамина нитка прошила сердце.
И оно, как воздушный змей, куда-то поплыло.
Ну а нитка осталась в руках у мамы.
[Пер. И. Ли. Азиатская медь, 2007, с. 66]
Личное отношение Ши Чжик к происходящему позволяет не только познать историю драматических событий, но и прочувствовать атмосферу горечи расставания с родными, привычным укладом жизни, разочарование не-сбывшихся надежд и разрушенных идеалов: Вой протяжный уши дерет - / закачался огромный вокзал. Поэт дает обобщенную картину трагедии, разыгравшейся в период «культурной революции», и Пекин уже предстает как символ все- го Китая, погруженного в политический, духовный хаос. Автор переходит от субъективного восприятия лично пережитого к объективным масштабам пережитого всем китайским народом: Не пущу, не отдам! / Это ведь мой Пекин. / Это мой последний Пекин.
Первая строфа стихотворения, в которой использована анафора и присутствует рифма, задает темп всему повествованию, интенсивному и эмоциональному, аффективному:
Это Пекин в шестнадцать ноль восемь минут ЙМИ^#Л^Й^Ж, волны рук поднимает перрон. 片手的海洋翻动;
Однако необходимо отметить, что явление рифмы скорее спорадично, нежели регулярно, тем более что на протяжении всего текста ее больше нет, но свою роль для первой строфы она сыграла.
Вопрос, который поэт задает во второй строфе (Я в окно поглядел, чуть разинув рот: / Что случилось - кто бы сказал?) и на который находит ответ в четвертой (И сейчас, вот в самую эту минуту, / я все понял. Сейчас я все понял), отражает ту растерянность и даже потерю самоидентификации, которую испытали многие: в одночасье жизненные константы и ориентиры опровергнуты, жизнь, которую сосланные на трудовое перевоспитание будут наблюдать в деревне, как оказалось, сильно отличается от содержания лозунговых речей партийных руководителей. Использование в приведенных строках параллелизма (不知发生了什么事情–我才明白发生了什么事情) зрительно и интонационно выделяет важную для понимания этой потери «главу» в произведении Ши Чжи. Именно как возможность самосознания и самоопределения, поисков духовных ориентиров возникла поэзия андеграунда. Стихотворение Ши Чжи, созданное в день описанных событий, моментально распространилось в кругах молодежи и вместе с риском для автора принесло ему славу первого поэта «культрева». «Го Лушэна называют первым поэтом "культурной революции", должен отметить, что это очень точная его характеристика. С него в поэзии начинаются изменения: от классовой, партийной поэзии совершается переход к индивидуальной поэзии, возрождается внимание к достоинству человека, возрождается авторитет поэзии. Стихотворения Го Лушэна были горячо встречены молодежью, отправленной на перевоспитание. Его произведения стремительно разлета- лись среди молодых людей, переписывавших их от руки, многократно декламировались. Так был приподнят угол тяжелого занавеса, и открылись новые горизонты» [3, 1994].
Поэзию андеграунда наполняет идея поиска (лексема 寻找 – «искать») жизненных ориентиров, гуманистических идеалов, самопознания. Так, строки Ушли так далеко / Мы ищем лампы свет , служащие зачином и концовкой стихотворения Гу Чэна «Мы ищем лампы свет» ( 顾城 » 我们去寻找一盏灯 »), кроме того, перемежают три строфы произведения, подчеркивая сущность поэзии «потерянного» поколения чжицин , находящегося в неустанном поиске и познании. В стихотворении Бэй Дао ( 北岛 , псевдоним Чжао Чжэнькая 赵振开 ) «Пойдем» (« 走吧 ») также реализуется идея поиска: Пойдем, / Мы не теряли память, / Мы идем искать озеро жизни . Примечательно, что и в данном произведении присутствует единоначатие каждой строфы – пойдем , отражающее призыв и задающее ритм стихотворению.
Анафора и параллелизм определяют ритмичность, эмоциональность, философскую метафоричность и лаконизм и другого стихотворения Бэй Дао «Все» («— W »): все это - судьба / все это - облачная дымка / все это - начало без конца / все это - мимолетные поиски . Произведение составляют четырнадцать таких создающих штрихи к эпохе строк, самостоятельных, но предельно точно описывающих атмосферу тех лет, состояние безверия, опустошения, в котором пребывали многие поэты. И даже очевидное целеполагание поиска (в четвертой строке) как будто обречено на провал. Несмотря на отсутствие визуального деления стихотворения на строфы, каждые две строки лексически и синтаксически параллельны друг другу и структурно могли бы быть объединены строфически, например: вся радость эта без улыбки / все страдания эти без слез», « вся любовь в сердце / все былое в снах . Однако сплошная подача поэтического текста, равно как и отсутствие знаков препинания, определяют специфику персонального дискурса поэта, оставляющего читателю интерпретационное право на паузы, смещение логического ударения. Внешне монотонное произведение эмоционально сгущенно и предельно насыщенно. Интенсивность эмоциональной окраски, обусловленная пережитым опытом, достигается также приемом противопоставления, в частности, присутствующим в заключительной паре строк: все взрывы имеют миг тишины / все смерти имеют протяжное эхо .
Д.Б. Цыбикова Грамматическое выражение категории аспектуальности в типе речи «повествование» (на материале китайского языка)
Для поэтического дискурса андеграунда периода «культурной революции» не характерно увеличение используемых тропов, а имеющиеся сгущены и постоянно повторяемы, поскольку достигают своей цели: раскрывают индивидуально-авторское видение действительности и в то же время служат созданию исторически достоверной и эмоционально аффективной художественной действительности. С точки зрения макроструктур, «подпольная поэзия», возникшая как реакция на специфичные исторические условия, представляет собой художественную модель, зеркально отражающую реальный мир, авторский вымысел присутствует только при создании отдельных образов, призванных усилить эмоциональную нагрузку текста. Вместе с тем авторские дискурсы индивидуализированы и, выражая право поэта на творческую самореализацию, потребность самому осваивать окру- жающий мир, создают предпосылки для дальнейшего развития поэзии.
Список литературы Поэтический дискурс китайского андеграунда
- Азиатская медь: антология современной китайской поэзии/сост. Лю Вэньфэй. -СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. -256 с.
- Тугулова О.Д. Китайская поэзия 1980-1990-х гг.: смена художественных парадигм//Вестник Бурятского государственного университета. -Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2009. -С. 186-190.
- 宋海泉.白洋淀琐忆//诗探索.1994年第4期. Сун Хайцюань. Воспоминания о Байяндяне // Поэтический поиск. - 1994. - № 4.
- 杨健.墓地与摇篮-文化大革命中的地下文学.-北京:朝华出版社,1993. Ян Цзянь. Могила и колыбель: подпольная литература периода Великой культурной революции. -Пекин: Чаохуа, 1993.