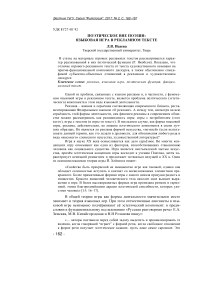Поэтическое вне поэзии: языковая игра в рекламном тексте
Автор: Исаева Людмила Вадимовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале игровых рекламных текстов рассматривается характер реализованной в них поэтической функции (Р. Якобсон). Показано, что отличие игрового рекламного текста от текста художественного основано на прагма-функциональной компоненте дискурса, а также обусловлено спецификой субъектно-объектных отношений в рекламном и художественном дискурсе.
Реклама, языковая игра, поэтическая функция, фикциональный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/146122029
IDR: 146122029 | УДК: 81''27+81’42
Текст научной статьи Поэтическое вне поэзии: языковая игра в рекламном тексте
Одной из проблем, связанных с языком рекламы и, в частности, с феноменом языковой игры в рекламном тексте, является проблема поэтического (эстетического) компонента в этом виде языковой деятельности.
Реклама – важная и серьёзная составляющая современного бизнеса, регламентированная Федеральным законом «О рекламе». А между тем, несмотря на всю серьёзность этой формы деятельности, сам феномен рекламы в современном обществе можно рассматривать как разновидность игры: игры с потребителем («кто кого»), игры с текстом (и игры «в текст»). В последнем случае, как форма языковой игры, реклама, действительно, не лишена эстетического компонента в своих лучших образцах. Но является ли реклама формой искусства, «поэзией» (если использовать данный термин, как это делали в древности, для обозначения любого рода и вида «высокого» словесного искусства, художественной литературы)?
Игра в науке XX века осмысливается как дело серьёзное. Во многих концепциях игру описывают как один из факторов, способствовавших становлению человека как социального существа. Игра является неотъемлемой частью искусства, причём эстетическая концепция игры восходит к учению Платона, затем характеризует немецкий романтизм и продолжает оставаться ведущей в ХХ в. Один из основоположников теории игры Й. Хейзинга пишет:
« Свойство быть прекрасной не имманентно игре как таковой, однако она обладает склонностью вступать в контакт со всевозможными элементами прекрасного. Более примитивным формам игры с самого начала присущи радость и изящество. Красота движений человеческого тела находит свое высшее выражение в игре. В более высокоразвитых формах игра пронизана ритмом и гармонией, этими благороднейшими дарами эстетической способности, которых удостоен человек» [15: 16–17].
В общей теории игры как формы деятельности значительное место занимает и теория языковых игр. При этом отечественные лингвисты в языковой игре неизменно подчёркивают её эстетический компонент: в предисловии к фундаментальному исследованию «Русская разговорная речь» Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и Н.Н Розанова пишут:
«… авторы поставили перед собой задачу выделить и проанализировать те явления, когда говорящий “играет” с формой речи, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное. Это может быть и незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и каламбур, и разные виды тропов (сравнения, метафоры, перифразы и т.п.)» [13: 3]. Языковая игра – это «... игра с формой речи, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное...» [цит. раб.: 172].
На творчески-эстетический характер языковой игры обращает внимание и Т.А. Гридина, которая видит в ней проявление «...адогматического речевого поведения, основанного на преднамеренном нарушении языкового канона и обнаруживающего творческий потенциал личности в реализации системно заданных возможностей» [5: 239]. Акцентирует эстетически-творческий, созидательный потенциал языковой игры и Б.Ю. Норман: «ЯИ в самом широком смысле слова – это использование языка для достижения надъязыкового, эстетического, художественного эффекта...» [12: 79]. Самые современные исследования языковой игры также определяют её «как намеренный творческий эксперимент, который проводится с целью привлечения внимания и создания экспрессивного эффекта» [2: 3].
Вместе с тем, специалисты по языку рекламы понимают, что языковая игра в рекламе и в художественном творчестве принципиально отличаются друг от друга: две данные формы языковой игры различаются прежде всего своей прагматикой. Современный исследователь маркетинговых стратегий пишет:
«… при всех возможных точках соприкосновения у художественного творения в отличие от маркетингового есть следующие признаки: художественное произведение самодостаточно, маркетинговое подчинено прагматической цели; художественное произведение уникально, и, следовательно, вечно, а жизненный цикл маркетингового произведения зависит от тиражирования» [6: 31].
В то же время дифференциация поэтического (эстетического) начала в рекламе и художественном творчестве нуждается в более глубокой проработке. Ведь художественное произведение и тиражируется, и характеризуется определённой прагматикой – как не вспомнить здесь пушкинское: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать…»? А некоторые рекламные проекты, оторвавшись от своей рыночной прагматики, воспринимаются нами как художественные произведения, единичные и уникальные.
Дело, очевидно, кроется в более глубоких различиях между языковой игрой в рекламе и искусством как игрой с языком и игрой в язык. Но сначала – о том общем, что объединяет языковую игру в рекламном тексте и художественное творчество как игру с языком. Это – поэтическая функция языка, которую Р.О. Якобсон считал в словесном искусстве «… центральной определяющей…, тогда как во всех прочих видах речевой деятельности она выступает как вторичный, дополнительный компонент» [16: 202]. Напомним специфику поэтической функции – как её описывает классик отечественной и мировой лингвистики: это «… направленность (Einstellung) на сообщение , как таковое, сосредоточенность внимания на сообщении ради него самого – это поэтическая функция языка» [цит. раб.: 202].
Если оставить за пределами обсуждения некоторые принципиальные вопросы художественного текстопостроения – вопросы сочетания и соотноше- ния поэтического и художественного, поэтического и эстетического (эти вопросы детально обсуждаются в специальной литературе), то, по сути, Р.О. Якобсон описывает то, что мы обнаруживаем в «игровой» рекламе. Обращённость на само сообщение, творческая трансформация языковых конструкций -не в этом ли суть языковой игры в рекламе?
Но, прежде чем перейти к примерам, сделаем теоретическое уточнение. С нашей точки зрения, простое нарушение языковых правил не является языковой игрой. Простое нарушение правил ведёт к семантическим потерям, языковую же игру справедливо считают способом приобретения, умножения (информации, смыслов и так далее). Поэтому нарушение правил обязано сопровождаться компенсацией понесённых потерь. Таковое происходит потому, что всякий игровой текст, с нашей точки зрения, есть поликодовое образование, где семантические «потери», понесённые на одном уровне текста, компенсируются на иных уровнях [7]. При этом наличие нескольких кодов мы обнаруживаем даже там, где, на первый взгляд, существует только один код. Приведём примеры.
-
(1) «Чтобы быть в тонусе, надо, чтобы “Тонус” был в тебе» (реклама сока «Тонус»). На первый взгляд, перед нами монокодовая конструкция, где элемент языковой игры, каламбур, основан на актуализации лексической полисемии, объединяющей номинации тонуса как особой компоненты психофизиологического состояния, с одной стороны, и популярного сока, с другой. Но следует обратить внимание на параграфемное оформление второй части каламбура, который и есть реализация второго, графического кода (наличие кавычек и заглавной буквы); оно то и обеспечивает игровые эффекты. Это становится ясно, если отказаться от параграфемного выделения во второй части рекламного слогана: (2) «Чтобы быть в тонусе, надо, чтобы тонус был в тебе». Игровой эффект исчезает, поскольку поликодо-вую конструкцию мы насильственно превратили в монокодовую.
-
(3) «Mennen Speed Stick. Нанеси и отрывайся». Здесь, несмотря на то, что этот известный рекламный слоган зафиксирован только вербально, мы также имеем дело с примером поликодового текста, поскольку рекламист известного дезодоранта пользуется двумя разными вербальными кодами - кириллицей и латиницей, у которых, кстати, очень серьезно различается «графическая семантика» [4].
Данные примеры подтверждают изложенный выше тезис об определяющем характере поэтической функции в игровом рекламной тексте. Но это - поэтическое без поэзии. И, чтобы разобраться в различиях между рекламным и художественным текстом, рекламным и художественным дискурсом, включающим языковую игру, следует рассмотреть их основные, онтологические характеристики и, прежде всего, прагма -семантический уровень [4].
В словесном искусстве языковая игра есть эстетическая деятельность, форма реализации творческих способностей художника, которая по данному ещё И. Кантом определению, «незаинтересованна». Так, великий немецкий философ особо подчёркивал в «Критике способности суждения»: «Красота - это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нём без представления о цели» [8: 240]. «Сущностная незаинте-- 164 - ресованность поэтического акта» [11: URL], по мнению Жака Маритена, выдающегося современного французского философа и теоретика искусств, есть его ведущее качество. «Играя», художник не заботится о собственной выгоде (выгоде в том смысле, в каком о ней говорят люди бизнеса). Но, с другой стороны, он всё равно преследует определённые прагматические цели, и его «выгода» (прагматика фикционального речевого акта) – в успешной реализации своих творчески-познавательных способностей, в ощущении всевластия над стихией языка. Если это всевластие и приносит материальные блага, то – не в первую очередь.
В рекламной же деятельности языковая игра есть способ реализации маркетинговых стратегий, целью которых является, в конечном итоге, также получение максимальной прибыли, но – физической, а не «метафизической». И если креатор рекламного текста, а также стоящие за ним маркетолог и предприниматель эту прибыль получают, то прибыль потребителя рекламы – вещь довольно сомнительная.
Принципиальный вопрос: вопрос референциальной специфики литературно-художественного и рекламного тестов. В художественной литературе господствует фикциональный тип референции (фикциональность, вымысел как родовой признак искусства [3: 41–42]). Эстетический объект – результат реализации этого типа референции. В рекламном дискурсе может доминировать «фиктивная» референция – когда рекламист заранее знает, что обманывает потребителя рекламируемого товара. Но даже в этом случае маркетолог и рекламист любыми доступными им средствами стремятся дать потребителю понять, что рекламируемый ими объект вполне реален. Странно было бы предположить обратное, а именно – рекламиста, который убеждает потребителя в том, что рекламируемый им товар или услуга – фикция.
Это определяет и специфику субъектно-объектных отношений в художественном, с одной стороны, и рекламном дискурсе. Если в игровом искусстве «игроки» (создатель текста и его читатель) – равноправные партнёры, в рекламе же один управляет игрой, другой, ставший объектом манипулятивных стратегий текстопостроения, – подчиняется.
Отношения субъектов рекламного процесса (создателя и потребителя рекламы) напоминают отношения участников литературного процесса в рамках так называемой массовой, коммерческой литературы. В «серьёзной» литературе (классика) его участники – читатель и писатель – равноправны в своем отношении к тексту как суверенные субъекты творческого процесса; «серьёзная» литература есть, как пишут теоретики литературы, «интерсубъективная жизнь Сознания в формах художественного Письма» [14: 6.]. В массовой, коммерческой литературе интерсубъектные (субъектносубъектные) отношения сменяются субъектно-объектными. Как полагает современный исследователь коммерческой литературы, в ней
«... идеология вытесняется коммерческим интересом, но суть субъектнообъектных отношений – даже с учётом этого нюанса – не меняется: коммерческий писатель, как и идеологически ангажированный составитель политизированных текстов, видит в читателе не полноценного субъекта культурного диалога, а объект воздействия. Цели этого воздействия хорошо известны, и реализуются эти цели в круглых суммах на счетах коммерческих издательств, издаю- щих “красно-черную” и “розовую” литературу – боевики, детективы, любовные романы» [9: 8–9].
Попутно отметим: в современном лингво-рекламоведении, обращенном к феномену языковой игры, описание субъектно-объектных отношений в рамках рекламного процесса описано довольно неполно. Исследователи рекламы только отмечают тот факт, что в рекламном дискурсе субъектнообъектные отношения выстраиваются, в том числе, и по вектору субъект / субъект коммуникации, и это правило выводится только для так называемой «внушающей» рекламы [10: 17]
Л.П. Амири следующим образом описывает субъектно-объектную структуру рекламного процесса: «Российской и американской рекламе присущи сходные признаки: наличие участников коммуникативного акта – адресанта и адресата; наличие объекта» [1: 8].
На наш взгляд, субъектно-объектная структура данного коммуникативного акта много сложнее. По сути, следует говорить не о равноправных субъектах (данное неравноправие не акцентировано в приведённой выше квалификации участников рекламного коммуникативного акта – адресат и адресант ) и объекте, под которым понимается рекламируемый товар, а о двух объектах, одним из которых, как объект воздействия со стороны субъекта-рекламиста, может быть признан адресат, и о двух субъектах, один из которых, тот же адресат, становится квазисубъектом: формально имея возможность полностью реализовывать свою субъективность, он, по сути, лишается её, когда становится объектом персуазивных стратегий рекламиста.
Таковы принципиальные различия рекламного и литературнохудожественного дискурса, которые проясняют специфику игровых языковых стратегий в этих двух видах дискурса. Поэтическая функция, реализуемая в языке рекламы, не ведёт к созданию «поэзии» как результата «незаинтересованного» творческого акта. Рекламист заинтересован, ангажирован на получении прибыли, а потому его творчество, каким бы искусным оно не было, искусством не становится – это «поэтическое вне поэзии».
Список литературы Поэтическое вне поэзии: языковая игра в рекламном тексте
- Амири Л.П. Языковая игра в российской и американской рекламе: автореф. дис. … канд. филол. наук/Л.П. Амири; Южный федеральный ун-т. Ростов-на-Дону, 2007. 26 с.
- Викторова О.А. Особенности поликодовых демотивационных постеров с включением языковой игры: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19/О.А. Викторова; Твер. гос. ун-т. Тверь, 2016. 18 с.
- Вымысел художественный//Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Изд-во Кулагиной «Intrada», 2008. С. 41-42.
- Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. М.: Изд-во студии Артемия Лебедева. 2006. 384 с.
- Гридина Т.А. Принципы языковой игры и ассоциативный контекст слова в художественном тексте//Семантика языковых единиц: доклады VI междунар. конф. М., 1998. Т.2. С. 239-241.
- Должикова С.Н. Организация информации в предметной области «Маркетинг»: интерпретационный и системообразующий аспекты: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Краснодар, 2009. 51 с.
- Исаева Л.В. Языковая игра в поликодовом рекламном тексте: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19/Л.В. Исаева. Твер. гос. ун-т. Тверь, 2011. 16 с.
- Кант Иммануил. Сочинения: В 6 ти т. М.: «Мысль», 1966. (Философ. наследие). Т. 5. 564 с.
- Крижовецкая О.М. Нарратология современной беллетристики (на материале прозы М. Веллера и Л. Улицкой): автореф. дис. … канд. филол. наук/О.М. Крижовецкая; Твер. гос. ун-т. Тверь, 2008. 24 с.
- Лившиц Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. Таганрог: Изд-во Таганрог.гос. пед.ин-та, 1999. 212 с.
- Маритен Ж. Ответственность художника . URL: http://lib.ru/FILOSOF/MARITEN/hudozhnik.txt (дата обращения: 19.03.2017).
- Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб.: Изд-во С.-Петербург. yн-та, 1994. 228 с.
- Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис/отв. ред. Е.А. Земская. М.: Русский язык, 1981. 224 с.
- Тюпа В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии ХХ века. Самара: 1998. 156 с.
- Хейзинга Й. Homo ludens в тени завтрашнего дня. М., 1992. 458 с.
- Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против». сб. ст. М.: Издательство «Прогресс», 1975. С. 193-230.