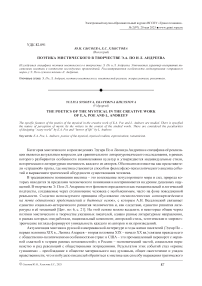Поэтика мистического в творчестве Э.А. По и Л. Андреева
Автор: Сысоева Ю.Н., Хлыстова Е.С.
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 (97), 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследуется специфика поэтики мистического в творчестве Э. По и Л. Андреева. Уточняется характер восприятия писателями мистики в контексте исследуемых произведений. Рассматриваются особенности моделирования «страшного мира» у Э. По и «ужаса жизни» Л. Андреева.
Э. По, Л. Андреев, поэтика мистического, мистический реализм, экспрессионизм, романтизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148330747
IDR: 148330747 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Поэтика мистического в творчестве Э.А. По и Л. Андреева
№ 2(97). 20 мая 2025 ■
Категория мистического в произведениях Эдгара По и Леонида Андреева и специфика её реализации является актуальным вопросом для сравнительного литературоведческого исследования, в рамках которого разбираются особенности взаимовлияния культур и утверждаются индивидуальные стили, историческая и литературная значимость каждого из авторов. Оба писателя известны как представители «страшной» прозы, где мистика становится способом философско-психологического анализа событий и выражением трагической абсурдности существования человека.
В традиционном понимании мистика - это воплощение потустороннего мира и сил, природа которых находится за пределами человеческого понимания и воспринимается на уровне душевных ощущений. В творчестве Э. По и Л. Андреева этот феномен определяется как эмоциональный и логический подтексты, создаваемые через столкновение человека с необъяснимым, часто на фоне повседневной реальности. Сходство используемого принципа обусловлено «психологическим самозарождением на почве одинаковых представлений и бытовых основ» , с которым А.Н. Веселовский связывает единство социально-исторического развития человечества и, как следствие, единство развития литературы и её тенденций [Цит. по: 6, с. 21]. На этой основе можно выделить и некоторые общие черты поэтики мистического в творчестве указанных писателей, однако разные литературные направления, в рамках которых они работали, национальный компонент, авторский стиль, эстетические и мировоззренческие взгляды формируют уникальность каждого из авторов и их произведений.
Актуализация мистики в русской и американской литературе в годы жизни писателей (Эдгар По – первая половина XIX в., Леонид Андреев – вторая половина XIX – начало XX вв.) связана прежде всего с общественно-политическими особенностями стран: в США - это промышленный переворот с неравной схваткой в «стране равных возможностей»; в России - экономический застой, социальное неравенство и ряд революций с общественными потрясениями. Результатом этих событий стал «кризис гуманизма» – преобладание в обществе материального над духовным, общее ожесточение и упадок нравственности, что и побудило писателей обратиться к мистике как способу выражения трагического мироощущения и инструменту давления на формируемое явление бесчеловечности и психологической уязвимости. Об этом же писал литературовед Ю.В. Ковалёв, который отмечал, что стремление Э. По проанализировать и пробудить человека своего времени было продиктовано страхом перед новыми тенденциями развития общества в сторону бездуховности и скупости; предметом анализа в произведениях становится «…душа человеческая, ужаснувшаяся при столкновении с миром, в котором для нее не оставалось места. Отсюда боль и болезнь души, отсюда ее страх и ужас как объекты внимательного художественно-психологического исследования» [7, с. 176]. Леонид Андреев, размышляя об особенностях развития общества и своих литературных задачах, писал в дневнике следующее: «Я хочу в своей книге подействовать на разум, на чувства, на нервы человека, на всю его животную природу. Я хотел бы, чтобы человек бледнел от ужаса, читая мою книгу, чтобы она действовала на него как дурман, как страшный сон, чтобы она сводила людей с ума, чтобы они ненавидели, проклинали меня, но все-таки читали... и убивали себя» [5, с. 130].
Таким образом, изучение противоречивой сущности человека в кризисную эпоху становится для писателей главной задачей, которая осуществляется ими посредством моделирования тяжёлого психологического пространства, неординарных событий и, как следствие, доведения героя (а также читателей) до наивысшей точки эмоционального напряжения.
У Э. По мистика является основой «страшного мира», который создаётся с помощью свойственных романтизму художественных приёмов и подчиняется закону единства эффекта и впечатления. Характерной чертой творческого метода американского писателя является игра с хронотопом: категория мистического выражается за счет преобладания готических элементов в описании пространства («Лигейя», «Падение дома Ашеров», «Маска Красной Смерти»). В новелле «Лигейя» (1838 г.), в которой мистическая противоречивость финала порождает множество интерпретаций, рассказчик указывает на «фантасмагорический эффект» от убранства аббатства: пятиугольная брачная комната, напоминающая пифагорейский пентакль или гроб, потолок с гротескным орнаментом, увешанные тяжёлой тканью стены, расставленные по углам древние саркофаги из Египта. Примечательна в тексте смена пространства - с условного (указано примерное положение «город близ Рейна» ) и открытого, в котором рассказчик познакомился и прожил со своей возлюбленной, на психологически тяжёлое, закрытое и конкретное (хронотоп замка с пространственным и временным обособлением), но с условностью происходящего из-за подчёркнутых оговорок о влиянии опиума на сознание рассказчика.
Смешение условности событий и детализации убранства с точным описанием преображения мёртвой Ровены в Лигейю порождает картину кошмара, ставшего реальностью, что подкрепляет идею победы воли человека над судьбой и роком, заданной в эпиграфе. Создаётся притчевый план о преобладании духовного над материальным, выражающий в том числе реакцию на современное писателю американское общество, в частности на идеи движения трансценденталистов.
Подобная специфика закрытого пространства наблюдается и в «театральном» рассказе «Маска Красной Смерти» (1842 г.), где обрисовано готическое убранство аббатства и семи его комнат в значении этапов человеческой жизни или семи смертных грехов с соответствующей цветовой символикой. Эбеновые часы - центральная деталь в значении течения времени и его неминуемой конечности в контексте человеческой жизни – помещены в последнюю комнату, символизирующую смерть. Движение минутной стрелки соотносится с танцующими парами, которые замирают в смятении под бой часов, а после продолжают кружиться, пока стрелка делает новый оборот. Кроме того, расположение комнат напоминает лабиринт, при преодолении которого создаётся ощущение вращения и головокружения, что также коррелирует с движениями вальсирующих пар. Хронотоп замка в данном произведении характеризуется пространственным и временным обособлением от реального мира, благодаря чему создаётся дополнительный мистический эффект.
Ещё одной характерной чертой поэтики мистического в творчестве Э. По является обилие сенсорных образов, влияющих на сознание героя и, как следствие, читателя. Психологическое состояние человека подвергается испытанию через воздействие на тактильные, зрительные и иные каналы вос- приятия, в результате чего эмоциональное напряжение доводится до предела: это необходимо для демонстрации критического положения человека и его уязвимости. Например, в рассказе «Маска Красной Смерти» бой часов символизирует появление персонифицированной Смерти, а мотив болезни, бушующей за пределами аббатства, подкрепляется телесными ощущениями и внутри описываемого пространства: красный цвет в последней комнате как визуальный признак болезни (багровые пятна, которые функционируют как клеймо), монотонный и тяжёлый звук из «медных лёгких» часов (метафора нехватки кислорода, при которой в момент вдоха захватывает сердце), возникающее головокружение от устройства помещения, «лихорадочное сердцебиение» в наполненных людьми комнатах и т. д.
В новелле «Чёрный кот» (1843 г.), где акцент сделан на описании аффектов и иррациональной стороны человеческой психики, «звериный вой» замурованного в стену кота сопровождает помутнение сознания рассказчика и символизирует возмездие, настигающее героя за совершенное под влиянием «беса противоречия» преступление.
Необходимо отметить ещё один важный приём в мистических текстах Э. По – это ведение повествования от первого лица: создается эффект непосредственного рассказа о реальном событии с подробным описанием собственного поведения и поведения других героев, а также анализом эмоционального восприятия происходящего, благодаря чему мистические явления воспринимаются как действительно произошедший случай. Например, в новелле «Падение дома Ашеров» после погребения на самом деле ещё живой женщины герой описывает своё состояние: «Я пытался здравыми рассуждениями побороть владевшее мною беспокойство. Я уверял себя, что многие <…> ощущения вызваны на редкость мрачной обстановкой <…>. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильней била меня необоримая дрожь. И наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги» [8, с. 196]. Рассказчик невольно на чувственном уровне воспринимает процесс гибели обитателей дома. Пространство дома в данном случае является ключевым и олицетворяет состояние человека; атмосфера коррелирует с самочувствием Родерика Ашера, появляющиеся на стенах трещины – с постепенным угасанием жизни.
Для создания мистического «страшного мира» используются образы, связанные со смертью (как её предвестники или следствие): это непосредственно персонификация смерти как показатель ее неотвратимости, в частности для тех, кто пытается от неё сбежать («Маска Красной Смерти»), а также образы восставших умерших – зачастую женщин («Падение дома Ашеров», «Лигейя»).
В текстах с подобными образами нередко присутствует и мотив двойничества, связанный с идеей дисгармонии отношений человека с духовным миром и жизнью в целом. Например, в новелле «Вильям Вильсон» (1839 г.) двойственность сознания личности является следствием отказа героя от совести (нравственной смерти), которую воплощал «второй Вильсон». Мотив совести звучит и в эпиграфе, дополняющем идейное содержание текста: «Что скажет совесть, злой призрак на моем пути?» [Там же, с. 200]. В конце произведения смерть двойника знаменует духовную смерть самого героя. Примечательно, что на протяжении всего повествования сохраняется возможность трактовки событий с двух точек зрения: с рациональной (двойник как нравственное начало личности) и иррациональной (двойник как результат психического расстройства).
Мотив двойничества реализуется и в новелле «Чёрный кот»: сознание героя преломляется под влиянием «беса противоречия», что приводит к убийству кота и жены. Двойником в данном случае выступает второй кот (призрак Плутона), появление которого связано с последней возможностью героя раскаяться, но в итоге он же оборачивается символом кары за совершённое преступление и нравственную гибель. Однако в начале произведения также дана возможность развить и рациональную трактовку описываемым событиям – «бес противоречия» может быть следствием обычного алкоголизма.
Таким образом, в произведениях Эдгара По мистика подчинена созданию «тотального эффекта», заключающегося в единстве эмоционально-психологического воздействия на уровне формы и содержания текста. Указанные художественные приёмы характерны для ведущего в первой половине XIX в. американского романтизма, но во многом изменены автором так, что с их помощью ми- стический смысл обретает логическое объяснение. Писатель выводит человека за пределы реальности и исследует состояние психологической и физической уязвимости, которое в действительности является следствием не мистических сил, а безнравственности самих людей.
Леонид Андреев, действуя в рамках мистического реализма, экзистенциализма и экспрессионизма, создаёт достоверную картину «ужаса жизни»: трагические и безобразные истории дополняются бытовой детализацией и повседневным планом, благодаря чему происходит смешение общественноисторических вопросов и онтологических, но с заметным перевесом в сторону вторых. Категория мистического зачастую дополняет экзистенциальный план, раскрывающийся в мотиве ужаса, поскольку многие герои Л. Андреева помещаются в «пограничное» состояние, где мистические (в широком смысле - несвойственные повседневной реальности, таинственные) образы служат сигналом выхода человека за пределы бытия и угрозы исчезновения в Ничто. Ужас у Л. Андреева, как и у одного из ведущих представителей атеистического экзистенциализма М. Хайдеггера, является порождением столкновения с небытием, но также и возможностью осознать свое бытие.
Так, в рассказе «Покой» (1911 г.) герой сталкивается с фактом собственной смерти и необходимостью самостоятельно выбрать дальнейшую участь - или уйти в небытие и обрести покой, или остаться навечно в аду, где распорядок своей рутинностью и скукой напоминает жизнь сановника. Инфернальный образ (чёрт в образе священника), также приземлённый в своих реакциях («вид усталый и недовольный, «оглядывался брезгливо и кисло», «…очень скучных выражениях, тягучим голосом повторяя то, что, видимо, самому ему надоело до последней степени…» [4, с. 8–9]), выполняет функцию идейного манипулятора: указывая и на возможность обрести настоящий покой, чёрт играет на тщедушии «маленького» человека предложением вернуться к привычной жизни в аду, где люди способны устанавливать свои порядки. Неспособность сделать выбор характеризует сановника как человека с несформированной индивидуальностью, в частности поэтому ужас забывается героем в момент попытки ухватиться за знакомый образ жизни; находясь в ситуации, когда выбор должен основываться на своей сущности (экзистенции), сановник оказывается без опоры. Утомлённость чёрта, подчёркиваемая повторяющейся репликой «пустяки» , связана с наблюдением привычной для него картины: собеседник - не первый человек, который не может принять решение и предпочитает обходиться бытовыми заботами (такие же люди придумывают сами себе мученияв аду). Неспособность брать ответственность – причина безволия и неполноценности личности; такие люди, по Л. Андрееву, не могут справиться с противоречивостью бытия и сформировать субъективный смысл существования.
Персонифицированный образ злой силы встречается и в повести «Красный смех» (нап. – 1904, опуб. - в 1905 г.), часто именуемой документом травматического опыта, где через категорию мистического раскрывается картина массового истребления людьми друг друга. Читателю через субъективное восприятие поражённого сознания даётся обобщённый образ войны и её влияния на людей; аллегорическим воплощением ужаса и безумия становится образ Красного смеха, под ногами которого земля выбрасывает множество трупов. Написанное в экспрессионисткой манере произведение наполнено мистическими образами изуродованных людей: на плечах солдат «странные и страшные шары» [3, с. 23], люди пытаются «собрать своё разбрасывающееся тело» [Там же, с. 24], вокруг слышен «сатанинский грохот и визг» [Там же, с. 25], в одно мгновение перед рассказчиком происходит нечто «чудовищное, сверхъестественное» – вместо головы молодого вольноопределяющегося он видит «что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки» [Там же, с. 27] и т. д. Посредством сенсорной образности, намеренной избыточности физиологических деталей, мистических образов и субъективного психологического пространства создаётся картина мирового абсурда, в котором человек становится безвольным материалом в руках Красного смеха, т. е. бесконтрольной войны против всего живого.
В произведениях Л. Андреева мистические события являются также способом раскрытия темы забвения и основой моделирования пограничного состояния между жизнью и смертью. В мистикопсихологической повести «Он. Рассказ неизвестного» (1913 г.) [2, с. 259-294], написанной под впе- чатлением от новеллы Э. По «Падение дома Ашеров», художественное пространство-воспоминание организовано через выстраивание системы лакун, создающих множество интерпретаций сюжета: в искусственном пространстве намеренно уничтожаемого прошлого герой становится свидетелем механической карнавальной жизни г-на Нордена и его семьи. Смех, как и в произведении «Красный смех», несёт в себе значение страшного мира, созданного Норденом, чтобы оградить себя от прошлого и будущего. Герой, стремившийся найти возможность для безбедной жизни, оказывается заключён в пространство смерти, полноценной частью которого его пытаются сделать принуждениями к имитации смеха и танцам. Открытым вопросом остаётся трактовка фигуры, преследующей героя: Он – это образ привидения, ужаса или плод больного сознания? Интерпретация зависит от того, как воспринимать сам текст – как готический рассказ о привидении или модернистское произведение. Во втором случае образ чёрной фигуры можно назвать персонификацией ужаса, страха и впоследствии тоски героя, находящегося в пограничном состоянии; в таком случае побег в мир живых его всё равно не спасает – юноша постепенно умирает, потому что уже испытал влияние забвения.
Одним из ключевых мистических мотивов в произведениях как Э. По, так и Л. Андреева является мотив двойничества, который связан с состоянием раздробленности индивидуального сознания и тщетной попыткой преодолеть привычное мироустройство. Наиболее ярко данный мотив у Л. Андреева реализован в религиозной повести «Иуда Искариот», где амбивалентный образ Иуды сочетает в себе план божественный и инфернальный. Двойственность подчёркнута как во внешности героя («Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом, была живая.<…> На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая» [3, с. 212] ) , так и в действиях («Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы» [Там же, с. 239] ) . Мотив мистического двойничества, подкрепляемый частыми акцентами на непонятной и таинственной сущности Иуды, позволяет возвести предателя на один уровень с Иисусом, благодаря чему появляется возможность называть Иуду также и двойником Христа. Искариот из-за своего творческого типа сознания (плод которого – решение о предательстве) становится участником преобразования мира и создателем ситуации экзистенциального выбора для последователей Иисуса.
Мотив двойничества является сюжетообразующим в произведении «Нас двое» (1899 г.) [1, с. 261–272]: герой перед самоубийством в письме-исповеди к возлюбленной признаётся в том, что борется с другим собой – «ненавистным господином»:«“Я” – нечто достойное, возвышенное; я – человек в чистом виде, без органических примесей. “Он”– тоже человек, но возмутительный, грязный, подлый, скверный; он - органическая примесь к чистому человеку» [Там же, с. 264]. Раздробленность сознания связана с неприятием возвышенной стороной личности стороны приземлённой и порочной; общество же видит причину такого состояния в распущенности или психическом расстройстве. Процесс самоанализа изобилует деталями и чётким описанием поведения и желаний каждой из сторон личности, за счёт чего может создаваться впечатление обособленности и таинственной природы второй, однако в действительности множественность «я» связана с проблемой личности - с дисгармонией в душе человека и неспособностью примириться с приземлёнными потребностями.
Таким образом, писатели использовали мистику для создания образа мира, где главными проблемами являются истребление человеческой души на фоне кризисного характера эпох и вопрос о сущности человека. Э.А. По, работавший в рамках романтизма, через яркие сверхъестественные мотивы создавал образ «страшного мира» и подбирал те художественные приемы, которые способны оказать сильное эмоционально-психологическое воздействие на читателя. Специфика категории мистического в творчестве Леонида Андреева заключается в ее реализации в рамках повседневной реальности, что создает эффект «ужаса жизни». Оба писателя подходили к понятиям мистики, мистического смысла и опыта как эмоциональному и логическому подтекстам, в результате чего многие приёмы и образы, наделённые знаком мистического, несут в себе общественно-исторические и онтологические значения.