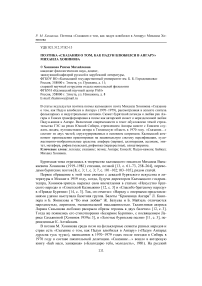Поэтика "Сказания о том, как Падун влюбился в Ангару" Михаила Хонинова
Бесплатный доступ
В статье исследуется поэтика поэмы калмыцкого поэта Михаила Хонинова «Сказание о том, как Падун влюбился в Ангару» (1970-1979), рассмотренная в аспекте синтеза фольклорных и индустриальных мотивов. Сюжет бурятской легенды о любви рек Ангары и Енисея трансформирован в поэме как авторский сюжет о неразделенной любви Падун-камня к Ангаре. Включение современности в текст обусловлено темой строительства ГЭС на реках Южной Сибири, стремлением Ангары вместе с Енисеем служить людям, путешествием автора в Тюменскую область в 1970 году. «Сказание…» состоит из двух частей, структурированных в основном катренами. Калмыцкий компонент произведения ориентирован на национальную систему версификации, художественно-изобразительные средства: анафора (парная), аллитерация, ассонанс, эпитет, метафора, рифма (мужская), рифмовка (перекрестная), олицетворение.
Легенда, сказание, поэма, ангара, енисей, падун-камень, байкал, михаил хонинов
Короткий адрес: https://sciup.org/148317674
IDR: 148317674 | УДК: 821.512.37:82-13
Текст научной статьи Поэтика "Сказания о том, как Падун влюбился в Ангару" Михаила Хонинова
Бурятская тема отразилась в творчестве калмыцкого писателя Михаила Вань-каевича Хонинова (1919–1981) стихами, поэмой [13, с. 61–73, 258–264], переводами бурятских поэтов [8, с. 3; 1, с. 3; 7, с. 101–102;103–105], рядом статей.
Первое обращение к этой теме связано с декадой бурятского искусства и литературы в Москве в 1959 году, когда, будучи директором Калмыцкого госдрам-театра, Хонинов-зритель выразил свои впечатления в статьях «Искусство братского народа» в «Советской Калмыкии» [12, с. 3] и «Спасибо братскому народу» в «Правде Бурятии» [14, с. 3]. Так, он отметил: «Наряду с оперными представлениями удачно выступала балетная группа. Балеты “Красавица Ангара” Л. Книп-пера и Б. Ямпилова и “Во имя любви” Ж. Батуева и Б. Майзель отличаются народностью, лиризмом, эмоциональной насыщенностью. Талантливая актриса Лариса Сахьянова любовно раскрыла образы героинь в двух балетах» [12, с. 3]. Тогда же появились его стихотворения «Балерине Бурятии», с посвящением Ларисе Сахьяновой [Хонинов 1959a: 3], и «Золотые бурятские песни» [11, с. 3], переведенные К. Алтайским.
В поэзии М. Хонинова среди поэм на фольклорные сюжеты разных народов и стран есть «Сказание о том, как Падун влюбился в Ангару» («Падун Ангарад дурлсна туск тууҗ»), написанное в 1970–1979 годах после поездки в Сибирь в 1970 году в составе писательской делегации. «Сказание…» вошло в авторскую книгу «Баһ насн, ханҗанав» («Благодарю тебя, молодость», 1981). На русский язык поэма была переведена Ириной Волобуевой и опубликована в московском сборнике поэта «Орлица» (1981).
Произведение насчитывает 300 стихотворных строк, в основном катрены, за исключением двух восьмистиший. В русском переводе — 166 строк: 24 катрена и 14 квинтетов. Рамка поэмы включает место написания и датировку: «Братск — Усть-Илимск — Элст, 1970–1979 җҗ.» (Братск — Усть-Илимск — Элиста, 1970– 1979 гг.).
В основе произведения — бурятская легенда о реках Ангаре, Енисее и озере Байкал, творчески трансформированная калмыцким поэтом. Влюбившись в Енисея, вырвалась из отцовского плена Ангара, побежала ему навстречу. Старый Байкал, пытаясь остановить непослушную дочь, бросал вслед ей скалы и камни. Один из них, самый большой, получил потом название Шаман-камень. Но Ангара успела соединиться с Енисеем и потекла с ним в Карское море, в Северный Ледовитый океан. Калмыцкий поэт в своем сюжете воспел еще безответную любовь Падуна-камня к красавице Ангаре. Среди девяти ангарских порогов ниже Братска на протяжении трехсот километров были также Падунский и Шаманский пороги. Падунский порог, самый высокий и мощный, был затоплен после строительства Братской ГЭС в 1969 году.
В хониновском сказании нет ни легендарных братьев Ангары, ни жениха Иркута, а главными героями наряду с Ангарой, Байкалом и Енисеем стали два ангарских берега и Падун-камень, преградивший путь течению Ангары. Поэма начинается с описания берегов-соперников, влюбленных в Ангару. «Һолын хойр эрг / һалзу хойр бухшң, / холас ташалдад зогсна, / хооран һаршгоһар бəəнə» [15, с. 61]. В русском переводе: «Два берега встали, уставясь друг в друга, / Как два разъяренных враждою быка. / Меж ними, вскипая волною упругой, / Текла Ангара — голубая река» [13, с. 258].
В оригинале Ангара призывает синеглазого Енисея, бегущего без устали, соединить свои сердца, чтобы быть счастливыми в России: «Көк нүдтə Енисей, / көшлго гүүдг Енисей. / Хойр зүркəн негдүлий, / ханьцад Əрəсəд җирһий» [Хоньна М., 1981, с. 62]. В переводе вместо прямой речи констатация давней любви Ангары к Енисею: «Раздольем своим и сверканьем прекрасна, / Веселую песню все пела она / О Свет Енисеиче, о синеглазом, / В которого с давней поры влюблена» [13, с. 258].
Если у калмыцкого поэта в поэме река обозначена как Енисей, в одном случае Енисеевич, то у русского переводчика — это Свет Енисеич и Енисеич («Чтоб путь продолжать к Енисеичу ей»). В народе эту реку называют Енисей-батюшка, так этот водный ресурс представлен в фольклоре и русской литературе. Гидроним Енисей, по мнению большинства исследователей, свое имя получил от тунгусского Иоандези «большая река», на современном ненецком языке означает «река с прямыми, ровными берегами» [2, с. 294, 301]. Согласно Бурыкину, название реки Ангары является по происхождению эвенкийским [2, с. 302]. Байкал — по-бурятски называют Байгал-далай, по-монгольски «дала» означает океан, великий, тем самым подчеркиваются величина озера и его сакральность. Согласно бурятскому преданию, в месте тектонического разлома появился огонь, который испуганные люди пытались остановить с помощью слов «Бай, галл!» — «Остановись, огонь!».
В «Сказании…» калмыцкого автора драматизм любовной истории связан с двумя берегами-соперниками и камнем Падуном, которому Ангара не ответила взаимностью, она все поет о своей любви к Енисею. «Ангара Падуна дуриг / аңхртан авчахн уга. / Өрчəсн һарсн дууг / өргəд Ангара дуулна» [15, с. 69]. В русском переводе: «От сильной любви он совсем занемог, / Все ждал, что река ему скажет в ответ. / Но сердцем ее завладеть он не смог, / Хоть преданным был Ангаре сотни лет. // К могучести, к чувству его холодна, / Текла Ангара все быстрей, все резвей. / И от Падуна не таила она, / Кто мил сибирячке-красавице ей. // “Прости мне, Падун, / не тебя я люблю, / Не мучься напрасно и знай наперед, / Навечно я преданна богатырю, / Идущему в смелый, великий поход”» [13, с. 261262].
У калмыцкого поэта древняя легенда сопряжена с современностью. Ангара не просто полюбила Енисея, подобного солнцу, дающему свет людям, она мечтает с ним быть полезной людям, отдавая свою энергию, поэтому и убежала из Байкала, в чем признается Падуну. «Гегəн Енисеевич гиһəд / һаңхад модд гекнə. / Олн-əмтн түшəд / олз үүнəс үзнə. // Теңгрин нарншң тер / тенкəн уга нилчтə. / Əрүн түүнə чидлəр / əмтн герлəн кенə. // Түүтə хамдан көдлхəр / тегəд Байкалас һарлав. / Унтад кевтсн һазрар / үүрəн хəəһəд ирлəв…» [13, с. 70]. В русском переводе: «То Свет Енисеич. Все знают о нем. / Своею энергией людям служить / Готов он. / Ведь солнце бывает лишь днем, / А он будет вечно и греть и светить. // Лишь с ним разделить я мечтаю судьбу, / Чтоб людям быть так же полезной, как он. / Отдать всю энергию волн» [13, с. 262].
Характерно, что Падун не в силах понять такую мечту любимой реки. Попытки Падуна завлечь Ангару пением леса, травы и цветов, ветров были напрасны. Светят по берегам реки города, а посередине течения реки стоит по-прежнему Падун. «Буурл һолын амнд / балһсд герлəр асна. / Дольгн дольгад дунд / дүүвр Падун зогсна. // Ангарад седсн дуран / альк чигн насндан, / элəд эс унтлан / эн мартхн уга» [15, с. 73]. В русском переводе: «И думал Падун: “Видно, нету пути / Мне к сердцу реки. Ее бег не унять”. / Хотел было с горя на сушу уйти, / Да так и остался на месте стоять. // Мол, видно, такая судьба у меня: / Всю жизнь любоваться любимой своей / И быть одиноким… / Тоску затая, / Глядит он на звезды прибрежных огней. / Ему к Ангаре, что резва и светла, / Любви своей горькой навек не избыть» [13, с. 263-264].
Название Падун-камня происходит от глагола «падать»; «водопад», «порог», «крутой перекат на реке» — так в Сибири обозначают слово «падун». Свое название Падунский порог получил от русских землепроходцев еще в XVII веке.
Калмыцкий поэт подчеркнул, что вскоре пришли на берега Ангары отважные люди с машинами и тракторами, разбудив реку от вечного сна. «Зуг зершсн эрг-сиг / зөрмг улс ирəд, / маши, трактор көдлгəд / мөңк нөөрəснь хаһцулв» [15, с. 66]. Теперь на оживших берегах раздается радостная песня людей, достояние будущего — электричество Ильичево светит: «Əмлсн эрг деер / əмтнə дун җирһнə. / Иргч цагин зөөр — / Ильичин электричеств асна» [15, с. 67].
Таким образом, индустриальный мотив (создание гидроэлектростанций на реках Енисей и Ангара) акцентирует характерный для советской поэзии мотив освоения природы человеком. Поэма Евгения Евтушенко так и называлась «Братская ГЭС» (1965) с указанием мест написания: Братск — Усть-Илим — Су-ханово — Сенеж — Братск — Москва [Евтушенко 2000]. Но в ней нет обращения к легендам об Ангаре и Енисее. Нет таких легенд и у Александра Твардов- 113
ского в поэме «За далью — даль» (1950–1960) с описанием строительства ГЭС на Ангаре [6]. Падунскому порогу адресованы два стихотворения Твардовского: «Порог Падун» (1957) и «Разговор с Падуном» (1958). Образ мощного Падун-порога, невысокого и широкого, трубящего в «допотопный грозный рог», но затем ушедшего под воду при строительстве Братской ГЭС в первом стихотворении: «На глубине утих порог, / Умолк его могучий рог / Навек. И часть красы земной / Ушла, чтоб место дать иной…» [5, с. 311]. Такой ценой заплачено за создание Братского моря, сетует автор. Но в то же время во втором стихотворении, говоря о том, что «За эту стройку для веков / Тобой заплатим, брат, / Твоею пенной сединой, / Величьем диких гор», поэт выражает веру в том, что «придет иная красота / На эти берега. / Но, видно, людям та́ и та́ / Нужна и дорога́. // Затем и я из слов простых / И откровенных дум / Слагаю мой прощальный стих / Тебе, старик Падун» [5, с. 320-321].
Калмыцкий поэт побывал в 1970 году на Братской, Усть-Илимской, СаяноШушенской ГЭС. Увиденное нашло отражение в его поэзии, в том числе в поэме «Сказание о том, как Падун влюбился в Ангару».
Поэма закончилась гимном Ангаре, дочери Байкала, и богатырю Енисею, которые служат людям: «Байкалын үрн — Ангара / байрта, җирһлтə болв. / Күчтə баатр Енисейтə / күмн-əмтнд церглв» [15, с. 73]. В русском переводе: «А та с Енисеичем счастье нашла / И стала с ним вместе народу служить» [15, с. 264].
В своем «Сказании…» М. Хонинов использовал традиционные для калмыцкой версификации средства: различные виды анафоры, рифмы, рифмовка, а также психологический параллелизм, метафору, сравнение, эпитеты и т. д. Анафора в тексте в основном парная, например: « Һо лын / һ алзу / хо лас / хо оран», с аллитерацией на согласные звуки « Һ» и «Х», единоначатие в третьей и четвертой строках на слог « хо ». Рифмовка чаще перекрестная, например: уснь / болна / чиңнхнь / соңсгдна . Рифма мужская, например: адһа́д / Ангара́/ көһлдүлə́д/урсна́ . Поэт сравнил Падун-камень со степным верблюдом, с черной горой; Ангара краше луны и солнца, шум ее волны подобен грому; берега реки спят, как медведи, или дерутся, как бешеные быки; падающие камни величиной с верблюда. Прием олицетворения в наделении человеческими свойствами (любовь, ревность, соперничество, пение, печаль, плач), речью ангарских берегов, Падун-камня, Ангары, кроме Енисея, которому вначале отведена молчаливая пассивная роль. Метафоры в поэме, например: «Синеглазый Енисей» («Көк нүдтə Енисей»), сибирская дочь Ангара («Сиврин күүкн Ангара»), Ангара — дочь Байкала («Ангара — Байкалын күүкн»). Автор использовал в поэме звукоподражания: падающие камни издают звуки «күрд, хард», которые не отражены в русском переводе. Эпитеты в поэме, например: красивые сосны («шавдһр хар харһас»), шумливые березы («шуугата цаһан хусмс»), серебристое пение жаворонка («цаһан мөңгн дууһан цадтлан торһа дуулна»).
Обращение к инонациональному фольклору позволило калмыцкому автору расширить творческое освоение им легенд, преданий, сказаний народов страны, актуализировав современный аспект — строительство гидроэлектростанций на сибирских реках, воспев созидательный союз человека и природы. Экологические проблемы при этом отошли в поэме на задний план, поскольку эпичность творческого потенциала людей прямо соотносилась автором с жанром сказания. Отсюда исторические анахронизмы поэмы: древние реки мечтают нести электрический свет людям, знают о «лампочке Ильича» (план ГОЭЛРО 1920 года).
Такой авторский эксперимент произведения являет сближение прошлого и настоящего, традиции и новаторство.
Список литературы Поэтика "Сказания о том, как Падун влюбился в Ангару" Михаила Хонинова
- Бадмаев Ц.-Б. Дариман залу; Мана һазр сəəхрнə; Эркн күүкн; Эк // Хальмг үнн. 1966. Июнин 28. С. 3.
- Бурыкин А.А. Енисей и Ангара. К истории и этимологии гидронимов и изучению перспектив формирования географических представлений о бассейнах рек Южной Сибири // Новые исследования Тувы. 2011. № 2-3. С. 279-304.
- «Жэргэмэлнүүд хаанашье адляар дууладаг» // Буряад үнэн. 1980. Июниин 14. Х. 4.
- Евтушенко Е. Стихотворения и поэмы. М.: АСТ, Астрель, Олимп, 2000. 672 с.
- Твардовский А. Т. Книга лирики. М.: Сов. писатель, 1967. 416 с.