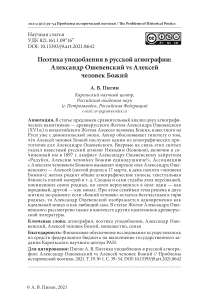Поэтика уподобления в русской агиографии: Александр Ошевенский vs Алексей человек Божий
Автор: Пигин Александр Валерьевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье предложен сравнительный анализ двух агиографических памятников - древнерусского Жития Александра Ошевенского (XVI в.) и византийского Жития Алексея человека Божия, известного на Руси уже с домонгольской эпохи. Автор обосновывает гипотезу о том, что Алексей человек Божий послужил одним из агиографических прототипов для Александра Ошевенского. Впервые на связь этих святых указал известный русский агиолог Никодим (Кононов), включив в сочиненный им в 1897 г. акафист Александру Ошевенскому хайретизм «Радуйся, Алексию человѣку Божию единодушниче!». Ассоциацию с Алексеем человеком Божиим вызывает мирское имя Александра Ошевенского - Алексей (святой родился 17 марта, в день памяти «человека Божия»); жития роднят общие агиографические топосы, текстуальная близость плачей матерей и т. д. Сходны и сами судьбы этих персонажей, покинувших своих родных, но затем вернувшихся к ним: один - как юродивый, другой - как монах. При этом семейная тема решена в двух житиях по-разному: если «Божий человек» остается безучастным к горю родных, то Александр Ошевенский изображается одновременно как идеальный монах и как любящий сын. В статье Житие Александра Ошевенского рассмотрено также в контексте других памятников древнерусской литературы.
Агиография, поэтика уподобления, александр ошевенский, алексей человек божий, монашество, семья
Короткий адрес: https://sciup.org/147227240
IDR: 147227240 | УДК: 821.161.1.09“16” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.8642
Текст научной статьи Поэтика уподобления в русской агиографии: Александр Ошевенский vs Алексей человек Божий
А лександр Ошевенский, в миру Алексей (17.03.1427 —
20.04.1479) — основатель Никольского-Успенского Алек-сандро-Ошевенского монастыря, находившегося на левом берегу реки Чурьеги в 42 верстах к северу от Каргополя, самый почитаемый каргопольский святой. Как писал архимандрит Никодим (Кононов), для Каргополья Александр Ошевенский «является тем же, чем были для южной России преп. Антоний и Феодосий Печерские, для московской — преп. Сергий Радонежский и для северной — Зосима и Савватий, соловецкие чудотворцы, и преп. Александр Свирский» [Никодим (Кононов): 14]. Местное празднование Александру Ошевенскому было установлено по благословению вологодского епископа Варлаама между 1576 и 1581 гг. Около 1634 г. память преподобного была включена в Устав московского Успенского собора [Шаляпин, Романенко: 531]. Его имя вошло и в Святцы 1646 г., изданные на московском Печатном дворе [Карбасова, 2011: 284], но к общецерковному почитанию в древнерусский период св. Александр канонизирован не был1.
Судьба и нравственный облик преподобного Александра во многом типичны для севернорусского монашества. Являясь пострижеником Кирилло-Белозерского монастыря, Александр в полной мере унаследовал духовные традиции этой монашеской школы: любовь к безмолвию, нестяжательность, послушание. Даже служба в «пекарне и поварне», которую он проходил в монастыре, есть отблеск такого же испытания «жестокого жития» преподобного Кирилла. Но тесные связи Александра со своим родом, сохраненные им до конца жизни, выделяют святого среди других русских преподобных.
Житие Александра Ошевенского было написано пострижеником Александро-Ошевенского монастыря иеромонахом Феодосием в 1567 г., спустя 88 лет после смерти святого. Феодосий не был «самовидцем» Александра, сведения о его жизни и подвигах он собирал от «древних инокъ и сродникъ святаго от рода его» [Пигин, 2017: 299]2. В результате агиогра-фу удалось написать «обширное и превосходное по содержанию житие» [Ключевский: 298]. Памятник сохранился в большом числе списков XVI–XIX вв. (сегодня известно около 90) и в нескольких редакциях, наиболее ранними из которых являются Пространная (первоначальная, 1567 г.) и более краткая Основная (по-видимому, рубеж 1570–1580-х гг.)3. Известны также церковные службы святому, похвальные слова (в том числе старообрядческие) в его честь, молитвы и акафист.
Важная задача в изучении Жития Александра Ошевенско-го, как и любого другого средневекового жития, состоит в установлении «агиологических образцов», которым агиограф уподоблял святого. Поэтика уподобления в агиографии «заключается в том, что при изображении каждого нового святого агиограф (автор жития, похвального слова или канона) находит соответствующий “агиологический образец” среди великих подвижников древности, по подобию которого и изображает прославляемого им святого» [Панченко: 491]. Уподобление осуществлялось как путем прямой ссылки на агиоло-гический образец (эксплицитно), так и с помощью заимствования фрагментов текста, посвященного древнему святому (имплицитно). Каждый святой есть «отблеск», «эхо» другого святого — и весь ряд уподоблений восходит в конечном итоге к первообразу Спасителя (imitatio Christi).
Источники Жития Александра Ошевенского были определены уже одним из первых его исследователей — И. Яхонтовым, который пришел к выводу о компилятивном характере памятника. Согласно его наблюдениям, Житие составлено на основе житий Александра Свирского (из него сделаны наиболее пространные выписки), Кирилла Белозерского, Зо-симы и Савватия Соловецких, Антония Римлянина, Сергия Радонежского [Яхонтов: 88–110]. Основной ряд святых, которым имплицитно Феодосий уподоблял Александра Ошевен-ского, составляют, таким образом, русские преподобные, основатели известных обителей. Однако этими именами круг «агиологических образцов» для Александра Ошевенского не ограничивается.
***
В 1897 г. упомянутый выше иеромонах Никодим (Кононов), впоследствии епископ Белгородский, прославленный в 2000 г. в лике священномучеников, составил акафист Александру Ошевенскому, в третьем икосе которого читается такой хай-ретизм: «Радуйся, Алексию человѣку Божию единодушниче!»4.
Никодим (Кононов) уподобляет Александра Ошевенского византийскому святому Алексею человеку Божиему, называя их «единодушниками». На чем основано это уподобление, находит ли оно подтверждение в тексте Жития Александра Ошевенского?
Агиографическая легенда об Алексее, жившем по преданию во времена римских императоров Аркадия и Гонория (конец IV — начало V вв.), была известна всем христианским литературам. Сын богатых родителей, римского синклитика Ев-фимиана и его жены Аглаиды, Алексей тайно ушел из дома в ночь после свадьбы. 17 лет он провел в притворе храма Богородицы в Эдессе, прося подаяние, а затем вернулся в Рим в образе нищего и еще 17 лет прожил, неузнанный, в сенях родительского дома, ежедневно подвергаясь унижениям и побоям. Своим близким, безуспешно искавшим его все эти годы, он открылся лишь в предсмертной исповеди, записав ее на хартии. По авторитетному мнению В. П. Адриановой-Перетц, «ни один из подвижников русской земли не вызывал к себе такого интереса, не пробудил такого сочувствия к своей жизни, как Алексей человек Божий. Мы разумеем <…> то теплое чувство преклонения перед его страдальческой жизнью, которое создало и поддерживает в народной памяти у нас и многочисленные жития, и духовный стих, воспевающий чужого по происхождению, но ставшего родным по настроению Алексея Божиего человека» [Адрианова: 127]. Житие Алексея было известно на Руси уже в домонгольский период, оно сохранилось во множестве списков и в нескольких редакциях, легло в основу духовных стихов, ранней драмы и похвальных слов, в том числе Симеона Полоцкого. Житие оказало влияние на целый ряд памятников древнерусской агиографии — Сказание о Борисе и Глебе, Житие Александра Невского, Житие Константина Муромского, Повесть о Меркурии Смоленском (см.: [Адрианова: 145–148])5. Представляется, что в этот перечень можно включить и Житие Александра Ошевенского.
Будущий основатель Ошевенской обители родился 17 марта — в день памяти Алексея человека Божия — и был наречен в его честь. Имя в средние века определяло судьбу человека, а в агиографии служило основанием для уподобления персонажа древнему тезоименитому святому. Так, Меркурий Смоленский уподоблен великомученику Меркурию, Антоний Печерский — Антонию Великому, Максим Грек — Максиму Исповеднику и т. д., «причем само имя святого нередко является “ключом” к пониманию “делания” святого, его духовной предназначенности» [Панченко: 495, 508].
Подобно своему небесному покровителю, Александр Оше-венский появляется на свет после долгих молитв его матери, в юном возрасте благодаря успешному книжному учению постигает божественную премудрость, кротко сносит оскорбления, скрывается от человеческой славы, принимает милостыню от своих «сродников» и т. д. Конечно, эти мотивы известны и по другим произведениям византийской и русской агиографии, являются житийными топосами [Руди, 2006]; часть из них была перенесена в Житие Александра Ошевен-ского в составе больших фрагментов из Жития Александра Свирского.
Однако в Житии Александра Ошевенского имеются и следы более тесного соприкосновения двух памятников. В обоих житиях приводятся монологи матерей святых, наполненные любовью и скорбью, упреком и страданием (особенно близкие чтения выделены курсивом): «Увы мнѣ, господи мои! Почто нам сице сътворил еси и печаль души нашеи принесе? Увы мнѣ, чядо любезное моея утробы, свѣте моею очию! Почто ми сице сътворил еси? Како не познанъ бысть толико лѣтъ сый в дому моемь?» (Житие Алексея человека Божия, редакция Великих Миней Четиих, XVI в.) [Адрианова: 489]; «О чадо Алексее! Что се сотворил еси? Утаилъ еси от отца помыслъ свой! Почто ми не повѣда, матери своей? <…> Уже не вижу тя на трапезѣ с нами сѣдяща, ни съ братиями веселящася. Ни слышим от устъ твоих божественых словесъ» (Житие Александра Ошевенского) [Пигин, 2017: 229]. В Житии «человека Божия» эти слова произносятся после смерти Алексея, в Житии св. Александра — после его ухода в монастырь, но это различие в агиографии является призрачным, поскольку монашество есть социальная смерть, «умертвие миру» [Руди, 2006: 497, 498], [Руди, 2016]6. По наблюдениям Т. Р. Руди, плач родителей о сыне как о мертвом — мотив частотный в агиографии, но сами монологи-плачи приводятся в житиях исключительно редко7.
В обоих памятниках, кроме того, горюющие матери уподобляются «ластовице»: «Мати же его… отверзе оконце свое, аки ластовица из лова излѣзши от дверецъ…» (Житие Алексея человека Божия) [Адрианова: 489]; «Сице изглагола плачевную пѣснь доброгласная ластовица…» (Житие Александра Оше-венского) [Пигин, 2017: 229]. При наличии явной стилистической близости материнских плачей в двух житиях это совпадение кажется неслучайным и объясняется, скорее всего, результатом прямого воздействия одного жития на другое8. Общим мотивом двух памятников является и получение родителями горестных известий от своих сыновей из их собственноручных писаний.
Феодосий как агиограф находился в непростой ситуации: с одной стороны, ему нужно было представить Александра Ошевенского идеальным монахом, отказавшимся от всего мирского, оставившим, по Евангелию, отца и мать (ср.: Мф. 10: 37–38), с другой — он не мог обойти молчанием тот факт, что свой монастырь святой основал рядом с родительским домом, на другом берегу реки, и связи с родственниками так и не порвал. Но живя рядом с родными, постоянно общаясь с ними и претерпевая от них обиды, Александр строго соблюдал монашеский обет, оставаясь «уединенъ на мѣсте томъ» [Пигин, 2017: 246]. Алексей человек Божий не принимал монашество, его подвиг принадлежит скорее традиции юродства [Иванов: 83–86]. Тем не менее образ святого идеально подходил в качестве агиографического прототипа для Александра: живя в доме своих родителей, видя их каждый день, святой оставался одновременно как будто вне его, являлся для близких чужим и «незнаемым». В Житии Александра Ошевенского мы не найдем, конечно, описаний того, как слуги избивают святого и выливают на него помои (ср. в Житии Алексея: «Отроцы же… пакости ему творяаху, и ови убо котораахуся с нимъ, друзии же заушахуть, инии же пьхаху его, инии же паки опа-ница помывающе възливааху горѣ на главу его помыя» [Адрианова: 487]). Кенотическое начало здесь выражено не столь отчетливо, но при этом мотив чуждости «дома» присутствует. Александр принимает немалую скорбь от своих близких: один из его братьев, Амбросий, исполненный гнева и ярости, с секирой в руках, намеревается «иссечь» в монастыре двери, чтобы насильно вернуть домой своего сына и племянника, постриженных «злодеем» Александром. Под влиянием еще одного брата, Лукиана, Амбросий осознает свою вину и просит у святого прощения. Но вскоре и сами племянники начинают испытывать «ненависть» к святому, «срамитися его и удалятися от него» [Пигин, 2017: 251] и наконец совсем уходят из монастыря. Духовная жизнь Александра им непонятна и чужда. Описанию «скорби» святого агиограф посвящает целую главу «О скорби преподобнаго о отроцѣхъ» [Пигин, 2017: 252]. Такую реализацию в Житии Александра Ошевенского получает мотив «непознанности» святого его родными.
Таким образом, «единодушие», если воспользоваться словом из акафиста, двух святых устанавливается в самом начале Жития Александра Ошевенского благодаря мирскому имени и дню рождения святого. Совпадение ключевых мотивов (разумеется, не все из них можно объяснить прямой генетической связью двух памятников), стилистическая близость плачей-монологов, лиризм в изображении матерей, сходства в самих судьбах агиографических персонажей, покинувших родительский дом и затем вернувшихся в него (один как юродивый, другой как монах), должны были в ходе дальнейшего повествования поддерживать в сознании читателя эту ассоциацию.
Между тем разработка семейной темы в Житии Александра Ошевенского далеко не так однозначна. К св. Александру совсем неприменимы слова очень тонкого интерпретатора Жития Алексея человека Божия Б. И. Бермана: Алексей — «это “человек Божий”, только Божий, целиком <…>. Страдания его близких не имеют ровным счетом никакого значения в мире жития, пока он с радостью и смирением принимает унижения в доме своем и этим угоден Богу» [Берман: 176]. Слезы и горе родителей не оставляют Александра, в отличие от св. Алексея, равнодушным; он постоянно помнит о них и боится их опечалить. Решив «послужить» некоторое время в Кирилло-Белозерском монастыре, он посылает им письмо: «Господие мои родителие! <…> Не прогнѣвайтеся на мя, да здѣ пребуду, служай во обители сей нѣколико время, и паки к вам возвращуся, угодная вам творя. Вѣсте, господие мои, яко николиже ослушахся васъ, ни прекослових. <…> И аще укоснитъ ми ся здѣ, не възбраните на мя» [Пигин, 2017: 229]. Встретившись со своим отцом после долгой разлуки, но еще до пострига, Александр бросается к его ногам, испускает «жалостныя слезы», умоляет простить его: «О отче! Прости мя, прогнѣвах твою старость и огорчих твою утробу своим замедлениемъ и небрежением. <…> Что велиши рабу своему? <…> И пою Богу моему, дондеже есмь, яко сподобил мя еси Господи видѣти родителя моего. Да наслажуся, видя доброту старости твоея. Да возвеселюся, зря седины твоя. И облобызаю нозѣ твои, имиже потрудися мене ради» и т. д. [Пигин, 2017: 232]. По наблюдениям Т. Р. Руди, «весь эпизод ухода в монастырь в этом памятнике (в Житии Александра Ошевенского. — А. П.) выстроен отлично от традиционной схемы»: «здесь не игумен искушает отрока, предупреждая его о тяготах монашеской жизни, а сам юноша, отвечая на вопрос игумена, хочет ли он постричься, высказывает сомнение в своей духовной зрелости и готовности противостоять неизбежным на иноческом пути дьявольским искушениям» [Руди, 2006: 451]. Сомнение Александра в необходимости пострига связано также с его заботой о родителях: «Аще преслушатися родителей начну, въ скорбь вложу их…» [Пигин, 2017: 235].
Позднее, став монахом, Александр несколько раз просит игумена Кириллова монастыря отпустить его повидаться с родителями и в конце концов уходит, чтобы основать свой монастырь рядом с их домом. Причем выбор места для строительства обители совершается святым по указанию отца: «Чадо Александре! Поиди на обону страну рѣки нашея, и сотвори себѣ ту селитву и еже ти на потребу, и спасение да твориши души своей. И аще Господь восхощетъ, ты же воз-двигнеши храм Божий и потом възградиши монастырь» [Пигин, 2017: 240]. Эта несколько необычная для монаха привязанность к родителям вызывает явное сочувствие у агиографа. «Кто бо вѣсть, какова скорбь родителем о чадѣх бываетъ? — вопрошает он. — Съкрушаетъ же сердце жалость, снѣдаетъ печаль душу» [Пигин, 2017: 229]. Возвращение Александра к родителям объясняется Божиим Промыслом; в подтекст вводится также евангельская притча о блудном сыне: в диалоге с отцом Александр именует себя «овцой заблудшей» и «чадом погибшим» [Пигин, 2017: 232].
Большое внимание, которое Феодосий уделяет в Житии семейной теме, обусловлено, по-видимому, не только обстоятельствами жизни Александра Ошевенского, но и тем значением, которое придавалось семье в Московской Руси XVI в. В системе ценностей этой эпохи семья осмыслялась уже не только в нравственном, но и в государственно-политическом аспекте. По логике «Домостроя» (середина XVI в.) семья («дом») является государством в миниатюре. «Отча клятва иссушитъ, а матерня искоренитъ» — эта максима, использованная и в «До-мострое»9, и в Житии Александра Ошевенского [Пигин, 2017: 235], сигнализирует об общности идей двух памятников. Союз змееборчества и Премудрости — теократический идеал Московского царства — иносказательно изображен в Повести о Петре и Февронии Муромских (конец 1540-х гг.) тоже как семья (см.: [Плюханова: 203–232]). Вполне логичным в этом контексте выглядит прославление государственной власти в Житии Александра Ошевенского: глава «О нѣкоемъ бояринѣ Иванѣ Михайловиче Юриеве» начинается с пространного панегирика в честь Ивана Грозного, «прадедом» которого назван равноапостольный князь Владимир [Пигин, 2017: 277–278]. Мысль об Иване IV как о преемнике Владимира Святославича была актуальна для русской политической доктрины середины XVI в., нашла отражение в Степенной книге [Сиренов: 5 и далее], Сказании о князьях владимирских [Дмитриева: 144–145] и других текстах. Идея преемственной родственной связи в Житии Александра Ошевенского находит, таким образом, соответствия в официальной литературе этой эпохи.
Итак, два агиографических сочинения — византийское и древнерусское — роднит тема семьи. Необычность подвига святого Александра, основавшего монастырь рядом с жилищем своих родственников и не порвавшего связи с ними, находила оправдание благодаря ассоциациям с историей Алексея человека Божиего, также вернувшегося в родительский дом. При этом древнерусский агиограф не был столь последователен в решении семейной темы, как его византийский предшественник10. В Житии св. Александра налицо парадокс: монашество интерпретируется как полный отказ от мира и от семьи, но и семья представлена как безусловная ценность, любое посягательство на которую является нарушением Божиих заповедей. Александр Ошевенский изображается как идеальный монах и как идеальный сын одновременно. «Любовь Божия отрази любовь родителей. Глаголяй же обоя имѣти себе прельсти» [Пигин, 2017: 236, 305] — эти слова из Лестви-цы Иоанна Синайского, процитированные в Житии св. Александра как непререкаемая истина, не находят столь же абсолютного и точного воплощения в истории святого. Попытки Феодосия — весьма непоследовательные и вряд ли до конца им самим ясно осознанные — соединить идеалы монастыря и семьи не имеют, да и не могли иметь, своим результатом их полную гармонизацию. Житие Александра Ошевенского является, таким образом, не только интересным в литературном отношении памятником, но и ценным историческим источником, в котором оказались запечатлены некоторые актуальные для Московской Руси XVI в. культурные и религиозные переживания. К таким выводам подводит сравнительный анализ двух житий, который был предпринят как развернутый комментарий к одному из хайретизмов в акафисте Александру Ошевенскому.
Список литературы Поэтика уподобления в русской агиографии: Александр Ошевенский vs Алексей человек Божий
- Адрианова В. П. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности. Пг.: Тип. Я. Башмаков и К°, 1917. VIII, 518 с.
- Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 188 с.
- Берман Б. И. Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиция его восприятия) // Художественный язык средневековья. М.: Наука, 1982. С. 159-183.
- Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимирских. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 216 с.
- Иванов С. А. Блаженные похабы: культурная история юродства. М.: Языки славянских культур, 2005. 448 с.
- Карбасова Т. Б. О Пространной редакции Жития Александра Оше-венского // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: материалы научной конференции 11-13 ноября 1997 года. Новгород, 1997. С. 93-95.
- Карбасова Т. Б. Святцы 1646 г.: памяти русских святых // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. Т. 2. С. 249-301.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Тип. Грачева и К°, 1871. 466, IV, III с.
- Никодим (Кононов), архим. Олонецкий патерик. Петрозаводск: Олонецкая губ. тип., 1910. 72 с.
- Охотникова В. И. Псковская агиография XIV — XVII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. Т. 2. 771 с.
- Панченко О. В. Поэтика уподоблений: (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // Труды Отдела древнерусской литературы. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 54. С. 491-534.
- Пигин А. В. Житие Александра Ошевенского в редакциях XIX века // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 2013. Вып. 11. С. 27-41 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/ redaktor_pdf71430991268.pdf DOI: 10.15393/j9.art.2013.368 (17.09.2020).
- Пигин А. В. Пространная редакция Жития Александра Ошевенского // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. Т. 3. С. 206-309.
- Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб.: Акрополь, 1995. 334 с.
- Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 431-500.
- Руди Т. Р. «Живые мертвецы» древнерусских житий (из истории агиографической топики) // Текст и традиция: альманах. СПб.: Росток, 2016. Вып. 4. С. 7-18.
- Сиренов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI-XVIII вв. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. 545 с.
- Шаляпин С. О., Романенко Е. В. Александр Ошевенский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. Т. 1. С. 530-532.
- Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань: Тип. Казанского ун-та, 1881. 377 с.
- Pigin A. On Some Sources of the Life of Alexander Oshevensky (The Theme of the Family in the Hagiography) // Scrinium: Journal of Patrology and Critical Hagiography. 2015. Vol. 11. Pp. 281-294.