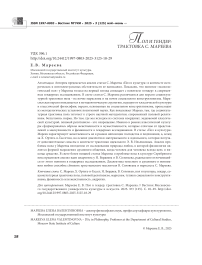Пол и гендер: трактовка С. Мареева
Автор: Мареева Е.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Из истории отечественной философской мысли
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автором предлагается анализ статьи С. Мареева «Пол и культура» в контексте исторических и интеллектуальных обстоятельств ее написания. Показано, что понятие «психологический пол» у Мареева только на первый взгляд совпадает с понятием «гендер» в современных гендерных исследованиях. В свете статьи С. Мареева различаются две версии социокультурной трактовки пола – на почве марксизма и на почве социального конструктивизма. Марксистская версия вписывается в методологическую стратегию, идущую от классической культуры и классической философии; версия, основанная на социальном конструктивизме, происходит из методологических установок позитивной науки. Как показывает Мареев, там, где социокультурная трактовка пола тяготеет к строго научной методологии, современный половой релятивизм, безусловно, норма. Но там, где мы исходим из системы координат, задаваемой классической культурой, половой релятивизм – это извращение. Именно в рамках классической культуры сформировались образы женственности и мужественности, которые отличны от представлений о маскулинности и феминности в гендерных исследованиях. В статье «Пол и культура» Мареев характеризует женственность не в рамках оппозиции господства и подчинения, а, вслед за Х. Ортега-и-Гассетом, на основе диалектики материального и идеального, которая получает дополнительные смыслы в контексте трактовки идеального Э. В. Ильенковым. Анализ проблемы пола у Мареева неотделим от исследования природы любви, в которой физиология является формой выражения духовного общения, когда человек для человека всегда цель и никогда средство. В свете более поздней статьи Мареева о проблеме пола в культуре Серебряного века предложен анализ идеи андрогина у Н. Бердяева и В. Соловьева, радикально отличающийся от этого понятия в гендерных исследованиях. Диалектика телесного и духовного в понимании любви способна сблизить христианского мыслителя В. Соловьева и марксиста С. Мареева.
С. Мареев, Х. Ортега-и-Гассет, Н. Бердяев, В. Соловьев, пол и культура, гендер, социокультурная трактовка пола, половой релятивизм, марксизм, тупики социального конструктивизма, феминность или женственность, андрогин
Короткий адрес: https://sciup.org/144163474
IDR: 144163474 | УДК: 396.1 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-18-29
Текст научной статьи Пол и гендер: трактовка С. Мареева
Статью С. Н. Мареева «Пол и культура» можно анализировать с разных сторон. Во-первых, как исторический документ, отражающий конкретную ситуацию, свою эпоху. Во-вторых, как этап в творчестве самого автора, развивавшего идеи Э. В. Ильенкова. В-третьих, как реплику в споре, в котором сегодня обнаружило себя политическое, социологическое, педагогическое, и, что важно для Мареева, – философско-методологическое содержание.
Статья «Пол и культура» была написана летом 1992 года неслучайно. Помню, что ее спровоцировал спор с Геннадием (Павловичем) Солодковым – другом Мареева из Ростова-на-Дону. Геннадий успешно занимался экономической теорией, и при этом был широк и талантлив во всем. Эдакий Человек Возрождения «ростовского разлива», он серьезно интересовался философией, примыкал к «ильенковцам», но в вопросах пола вдруг (или не вдруг) встал на позиции натурализма, отстаивая биологическую трактовку пола и врожденной склонности к тому, что в статье Мареева культурно и грамотно именуется «половой инверсией». Именно этими жаркими летними спорами определилась общая тональность статьи – противостояние фрейдизму. При этом теоретические аргументы в данной статье, как это всегда было у Маре- ева, погружены и переплетаются с историкофилософскими сюжетами, что, как он считал, соответствует философскому размышлению вообще, которое в качестве рефлексии невозможно без обращения к истокам.
Статья Мареева «Пол и культура» – исторический документ еще и потому, что демонстрирует плюсы и минусы замкнутости советской философии на саму себя, а у ее лучших представителей – на работы Карла Маркса и философскую классику. К 1992 году мы еще не приобщились, кроме тех, кто делал это и раньше, к многообразию современных западных учений, включая «гендерные исследования». А потому в статье «Пол и культура» острие авторской критики направлено на полюс натурализма, но при этом в тени остается противоположный полюс – так называемый «социальный конструктивизм», хотя уже в 1983 году на Западе была опубликована известная книга Б. Андерсона «Воображаемые сообщества» [1].
Сергей Николаевич иронично относился к апелляциям к «философскому сообществу», которое в те годы кого только не объединяло. В наши дни критерием профессионализма в таком «сообществе» стало подробное изложение трактовок данного вопроса у отечественных и западных специалистов. И как раз этого мы не находим в статье Мареева. Его интересует, как и в других случаях, не описание состояния «научного дискурса», а сама проблема, в которой он пытается разобраться в определенном методологическом ключе.
Мареев не боялся быть нетолерантным и не опасался монизма – методологического, прежде всего. В этом вопросе он тоже был марксистом. Потому в статье «Пол и культура» представлен именно марксистский взгляд на проблему пола. Но перед нами то понимание марксизма, которое в позднесоветской философии шло от Э. В. Ильенкова. Мы видим то ильенковское прочтение Маркса, в котором Мареев проставлял свои акценты, что, надеюсь, со временем будет предметом историко-философского исследования.
После 1992 года Сергей Николаевич прожил еще 27 лет и за это время не раз обращался к близким темам, к примеру, писал о природе любви, анализируя, в том числе, «метафизику любви» В. С. Соловьева [12]. В эту последнюю треть жизни углублялось его понимание указанной проблемы – под влиянием западной литературы, в том числе. Но позиция Мареева оставалась всё той же, что в статье «Пол и культура», в которой он взялся за новую для себя тему пола, чем данная статья и интересна.
* * *
Начало статьи «Пол и культура» тоже отражает эпоху, когда не только в СССР, но и в «развитых странах» нормой считалось существование двух полов, а дружба двух мужчин не вызывала никаких подозрений. В этой статье Мареев признает два пола как данность анатомического, физиологического, гормонального порядка, не вникая при этом в медицинские аспекты мультиплицирования полов, которые так взволновали обывателей начала XXI века. В статье «Пол и культура» эта данность определяется им как «биологический пол». Но пол – не только генитальные особенности, но и способ поведения индивида, который не встроен намертво в физиологию, тем более у человека. У животного, отмечает Мареев, пол как биологическая потребность определяет специфический, свойственный только ему, способ поведения. Иначе у человека, у которого есть только порыв, влечение, вначале ни на что конкретное не направленное. Для человека, подчеркивает Мареев, характерен разрыв между физиологическим влечением и способом его удовлетворения, который заполняется культурой.
На этом основании автор статьи разводит «биологический пол» и «психологический пол». С позиции натурализма второе есть фикция или калька с первого. Пол человека здесь определяется не культурой, а натурой. Но от этой, так сказать, медицинской точки зрения, отличается та, где пол определяется как раз культурой. «Отсюда, соот- ветственно, – пишет Мареев, – два подхода к проблеме пола: биолого-натуралистический и социально-психологический. Первый был реализован З. Фрейдом и исповедуется большинством медиков, сексологов и сексопатологов, второй – практически никем» [11, с. 13]. И здесь Мареев в общем-то прав, если иметь в виду отсутствие серьезных исследований проблемы пола в советской психологии, и тем более философии, с культурно-исторической точки зрения.
В свете представлений о социальной сущности человека способ человеческого полового поведения вырабатывается коллективно, а усваивается индивидуально в процессе социализации. Способ полового поведения уже задан обстоятельствами, социальными ролями, символами и даже строением языка. Мареев отмечает, что современный ребенок, «как и первобытный человек, различает дядей и тетей не по гениталиям, – различие последних для него еще не существует, это для него будущее «открытие», – а по мужской и женской одежде, по мужским и женским семейным, социальным и т. д. обязанностям и т. д.» [11, с. 15]. И такого рода формирование полового поведения, подчеркивает он, невозможно без сознания и самосознания, осознания индивидом отличия себя от другого. Если животные, пишет Мареев, различают пол в основном при помощи обоняния или по характерной окраске, то человек отличает один пол от другого «при помощи сознания, которое по своей природе не непосредственно, как обоняние и другие чувственные восприятия, а опосредствовано, как правило, специальными культурными предметами, родом предметов, выполняющих определенное утилитарное назначение, <^> а также предметами, всё назначение которых состоит только в том, что они указывают пол, – это различные украшения, предметы и детали одежды, ритуальные предметы, а также ритуальные действия, танцы и т. д. <^> » [11, с. 15]. Такие предметы представляют собой для индивида род, родовую организацию, так как именно «через род человек осознавал себя и челове- ком, и мужчиной (женщиной) одновременно, свои семейно-брачные и социальные обязанности. Человек не может стать мужчиной или женщиной раньше, чем он станет человеком, и наоборот – человек становится мужчиной или женщиной» [11, с. 15].
Именно разрыв между физиологическим влечением и способом его удовлетворения у человека, доказывает автор статьи, и является предпосылкой порождаемого культурой «полового релятивизма». Если для животного характерна специфическая половая потребность и заданный природой способ ее удовлетворения, то деспециализация влечения у человека оборачивается многообразием половых инверсий в определенных социокультурных обстоятельствах и усугубляется с ростом индивидуальной свободы и развитием воображения.
Чтобы инверсия состоялась, человек должен получить возможность выбора, пишет Мареев, и не случайно релятивизм в половом поведении появляется в период ломки родовых отношений, жестко регламентирующих эту область взаимоотношения людей. Такое изменение мы наблюдаем в Древней Греции. Более того, современная «контркультура» демонстрирует, что половые перверсии и инверсии – это не следствие сексуального инфантилизма, как считал З. Фрейд, а совсем наоборот – следствие, если можно так сказать, чрезмерного развития – воображения и чувственности в том числе [11, с. 16].
Как раз в силу отсутствия специализации человек компенсирует свою зоологическую беспомощность культурой, из чего следует, что все формы полового поведения человека оказываются не естественными, а искусственными. И в этом смысле все формы полового поведения человека нормальны, и никакая из них не является отклонением. Собственно, такие выводы из социокультурной природы пола и делают в «гендерных исследованиях». Соответственно, и ситуация полового релятивизма в его современных формах объявляется нормальной в поведении человека. Но делает ли такие выводы в своей статье Мареев?
И должен ли марксист Сергей Мареев быть вписан в направление гендерных исследований?
Статья «Пол и культура» тем и интересна, что в ней понятие «психологический пол» только на первый взгляд совпадает с современным понятием «гендер», которым сегодня покрывают все формы «модного» полового поведения и «воображаемой» половой идентичности. А если так, то она позволяет развести две версии социокультурной трактовки пола, как и сущности человека вообще, – на почве марксизма и на почве социального конструктивизма. В статье «Пол и культура» это различие обнаруживает себя при уточнении диалектики нормы и патологии. Дело в том, что Мареев ведет спор с Фрейдом, доказывая, что половые инверсии патологичны только при их фрейдистски-натуралистической трактовке. Но они нормальны, если человек – порождение культуры. При социально-психологической трактовке пола инверсия – это особый случай проявления нормы, равно как и другие формы полового поведения человека [11, с. 11].
Но таким в статье Мареева оказывается лишь исходный этап в решении вопроса пола, позволяющий отмежеваться от натурализма, который сближает поведение человека с животным. В то же время в статье «Пол и культура» Мареев продолжает считать половую инверсию отклонением и извращением, вводя проблему пола в более фундаментальную систему координат, связанную с сутью становления самой культуры. Извращение, пишет он, – это сугубо нравственное понятие, применимое к культурному поведению. И как раз здесь социокультурная точка зрения начинает раздваиваться. Там, где она предстает как строго научный метод, избавленный от всякой «гуманитарщины», половой релятивизм, безусловно, норма. А в рамках той методологической программы, которую в данной статье Мареев связывает с именем Л. С. Выготского, современный половой релятивизм – это извращение. И за указанной двойственностью в понимании половой нор- мы и отклонения скрывается различие двух методологических стратегий в социальных науках, идущих, с одной стороны, от позитивной науки, а с другой – от классической культуры и классической философии. Обозначим их как методологические стратегии Science и Wissenschaft [6] и попытаемся конкретизировать это различие применительно к проблеме пола.
* * *
Те, кто интересуются историей гендерных исследований, выделяют несколько фигур в качестве зачинателей указанной терминологической традиции. Прежде всего, это сексолог Дж. Мани (1955), психоаналитик Р. Столлер (1968) и антрополог Г. Руби (1975), у которых биологический пол (sex) уже отличается от социального и психологического пола (gender). Отдельно выделяют историю исследований гендерной идентичности с акцентом на проблему феминности и маскулинности в современном обществе.
Тот факт, что становление представлений о гендере получили свое развитие в связи с движением феминизма, наложило отпечаток на его трактовку, выдвинув в центр гендерных исследований отношения господства и подчинения, с чем, прежде всего, связано понятие гендерной асимметрии. « Гендерная асимметрия – читаем мы в опубликованном в 2002 году «Словаре гендерных терминов», – непропорциональная представленность социальных и культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) в различных сферах жизни» [18]. Причинами такой асимметрии, читаем дальше, может быть сознательная или скрытая дискриминация женщин, а также патриархальные установки, консервирующие мужское господство в общественном сознании. И в этом качестве неравенство оказывается встроенным в самосознание и поведение, а значит – в саму гендерную идентичность как «одну из подструктур социальной идентичности личности», наряду с идентичностью этнической, профессиональной, гражданской и т. д. [18].
В свете гендерной асимметрии феминность и маскулинность в гендерных исследованиях – это противоположные комплексы социальных и психологических характеристик, которые приписываются женщине и мужчине и ожидаются от них в современном обществе. И понятно, что в таких условиях гендерная идентичность и половое поведение оказываются орудием стратификации; они способны не только напрямую, посредством государственных институтов, но и косвенно, идеологически и психологически, способствовать неравенству. Феминизм в этом свете – движение, преодолевающее на практике и в теории указанную ситуацию в пользу социальной свободы и равенства полов.
Но, как известно, борьба за гендерное равноправие на деле дает противоречивые результаты. Так, борьба за гендерное равенство обернулась к XXI веку движением за умножение секс-меньшинств. Сочетание гендерной и экологической повестки породило Childfree Movement. Столь же неоднозначным стало движение против расовой дискриминации MeToo.
Весь этот актуальный срез взаимоотношения полов находится в центре внимания социологии, психологии и других наук в их гендерном аспекте. И было бы нелепо отрицать значимость этого комплекса гендерных исследований как изучения налично данного общества с его проблемами. Столь же нелепо отрицать их эмпирически заточенный инструментарий и связь с общенаучными критериями достоверности знания, работающими в данном проблемном поле.
Позитивно заточенный инструментарий доказал свою продуктивность в истории естествознания. И он «работает» там, где отношения между людьми предстают как отношения между агентами, которые осознают или не осознают свои роли и функции внутри социальной системы. Таким образом, понятие «гендер» вписано и реализует свое своеобразие в методологической парадигме Science с ее эмпирической достоверностью и точностью результатов, в данном случае в отношении документально фиксируемого полоролевого поведения и идентичности.
Но налично данное не всегда истинное бытие. То, что фиксируется фактически, может быть «объективной видимостью», что как раз характерно для состояния общества и отношений людей, которые в марксистской традиции определяются с помощью понятия «отчуждение». Более того, как полагал еще Маркс, в науке было бы все очень просто, если бы эмпирическая очевидность совпадала с существом дела. Тогда не были бы нужны ни наука, ни философия.
Вот почему все сказанное выше о гендере не имеет отношения к тому, о чем пишет Мареев, для которого не существует ни феминности, ни маскулинности. Мареев не пользуется этими терминами, а пишет о женственности и мужественности, раскрывая марксистское понимание пола как произведения культуры.
Именно в русле методологической стратегии типа Wissenschaft, которую вырабатывала европейская культура и философия, прежде всего в Германии XIX века, Мареев характеризует женственность не в рамках оппозиции господства и подчинения, а через диалектику материального и идеального. Доказывая в статье «Пол и культура», что суть женственности и мужественности выражает не телесная организация, а то, что именуется «душой», Мареев приводит большую цитату из работы Х. Ортега-и-Гассета, тяготевшего к философии жизни: «То, что мы называем «женственностью», не создано природой, а, подобно искусству, является вдохновенным творением истории. Поэтому так поверхностны, так мало содержательны те многие и многие страницы, которые госпожа де Бовуар посвящает биологическому аспекту пола. <...> Наше исследование окажется гораздо более плодотворным, если мы будем рассматривать женщину не как зоологическую особь, а как литературный жанр, как художественную традицию» [16, с. 346]. И еще одна цитата из произведения «Человек и люди» Ортега-и-Гассета: «Вывод может показаться парадоксальным,
L
но, по-моему, он неоспорим: не тело женщины обнаруживает «женскую душу», а «душа» женщины заставляет нас воспринимать ее тело как женское» [16, с. 341].
Эти высказывания важны для Мареева именно потому, что здесь, как он отмечает, при характеристике пола «мы имеем все, что было свойственно всей классической философии: и историзм, и выбор, и свободу, и творчество» [11, с. 12]. Таким образом обозначены те рамки понимания проблемы, которые задавались классической философией, в отличие от гендерных исследований.
Парадоксальное, на первый взгляд, высказывание Ортега-и-Гассета о том, что женский пол – это, скорее, литературный жанр и художественная традиция, Мареев дополняет словами «и результат всей до сих пор протекшей истории» [11, с. 13]. Женственность, женская душа, женский «пол» – это, прежде всего, идеальный образ женщины, воссоздаваемый развитием культуры. Индивид, воспитанный на достижениях классической культуры, смотрит на другого человека через призму идеальных образов, выработанных человечеством. Другое дело индивид, сформированный массовой культурой, которая предлагает воспринимать идеал женщины не как Джульетту и Мадонну, а как порнозвезду. И это тоже понятно, поскольку любовь Ромео и Джульетты в современном цивилизованном мире уже не норма, а как раз исключение.
Таким образом мы вновь возвращаемся к вопросу о том, что есть эмпирически данная норма массового общества и норма, заданная классическими идеалами Истины, Добра и Красоты, субстанциальный смысл которых был представлен уже в античной культуре, ее искусстве и философии. Недаром Гегель утверждал, что художественный идеал был воплощен уже в древнегреческой скульптуре, где чувственный этап абсолютной идеи представлен в гармонии духовного и физического в образе человека. Культура Древней Греции, при всех ее исторических противоречиях, – это тот случай, в котором особенное совпадает со всеобщим, и ее идеалы – начало объективной логики развития человечества как движения к целостной личности, которая видит в другом равного себе субъекта.
Именно от Х. Ортега-и-Гассета идет традиция критики массового общества, загоняющего в духовную резервацию классическую культуру. В его известной работе «Восстание масс» (1930) речь идет о подмене классики в развитом индустриальном обществе ее суррогатами, доступными всем на правах социального и политического равенства [15]. Радикальным неприятием этой новой реальности, скорее всего, обусловлено скептическое отношение Ортега-и-Гассета к самой идее равенства, в том числе в отношениях полов. В творчестве Симоны де Бовуар ему претит сама мысль о равенстве мужчины и женщины в том широком смысле, который отстаивали сторонники феминизма. «Итак, давайте по-прежнему, не краснея за свой «снобизм», – пишет он в работе «Человек и люди», – невозмутимо называть женщину «слабым полом»» [16, с. 346], имея в виду «ее низшее, сравнительно с мужчиной, положение в общечеловеческой иерархии» [16, с. 346–347]. Но именно на почве этой биологической слабости, по его мнению, формируется тот образ женственности, который так привлекает мужчину. «Слишком часто забывают о том, – отмечает он, – что женское тело наделено гораздо более живой внутренней чувствительностью, чем мужское <...>. Это различие, на мой взгляд, и есть почва для появления того полного тайны, изящества и восхитительного очарования, что зовется женственностью» [16, с. 348]. Степень взаимопроникновения телесного и духовного у женского существа намного выше, чем у мужчины, утверждает Ортега-и-Гассет, ее психическая жизнь более слита с ее телом, которое «мучительно одухотворено» [16, с. 348]. Потому, продолжает он, именно женщина создала великую культуру тела, заканчивающуюся куртуазностью как «утонченной культурой жеста» [16, с. 349]. И, наконец, следует его вывод о том, что «мы желаем женщину, поскольку Ее тело есть душа ». [16, с. 349].
Как мы видим, консервативные убеждения этого мыслителя сочетаются с тем одухотворением женской природы, которое делает невозможным ее утрату вместе с самой противоположностью женственного и мужественного начал в культуре. С другой стороны, «спасая» классическую культуру, Ортега-и-Гассет согласен пожертвовать всеми достижениями демократии, что, понятно, не вписывается в убеждения автора статьи «Пол и культура», который, будучи марксистом, дорожил как классической культурой, так и завоеваниями буржуазной и социалистической демократии.
* * *
Характеризуя отношение души к телу на примере женственности, Ортега-и-Гассет говорит об их взаимопроникновении, слитности и даже тождестве, с чем, конечно, не согласен Мареев, позиция которого становится понятной в свете работы Э. В. Ильенкова «Диалектика идеального». Речь идет о диалектическом снятии идеального в материальном, поскольку чувства, психика и все телесное поведение человека обретают человеческую форму именно через деятельное освоение идеальных значений мира культуры, которые Ильенков определяет как собственно «идеальное».
В идеализме, начиная с Платона, пишет Ильенков, в полумистической форме был зафиксирован «факт зависимости психической (и не только психической) деятельности отдельного человека от той до него и совершенно независимой от него сложившейся системы культуры, внутри которой возникает и протекает «духовная жизнь» каждого отдельного человека…» [7, с. 46]. По своему «наличному бытию» предметы духовной культуры вещественны, но по происхождению идеальны, поскольку в них представлены всеобщие формы общественной жизнедеятельности, и в этом смысле они – «коллективные представления». Такими «коллективными представлениями» в ильенковской системе координат являются образы женственности и мужественности, воплощенные в том числе в образах Ромео и Джульетты.
Но, с другой стороны, уже в труде присутствует момент целеполагания, и отсюда, соответственно, происходит идеальная детерминация во всех формах деятельности человека. Культурный смысл и направленность поведения человека, его идеальную детерминацию, в чем, собственно, и выражает себя душа, Мареев объясняет, привлекая аристотелевскую характеристику гнева в «Трактате о душе». Аристотель в данном случае разводит две трактовки гнева – физиолога и диалектика. Диалектик, согласно Аристотелю, укажет на то, что гнев может быть порожден жаждой мести, и это его форма и сущность, а физиолог определит его как кипение крови около сердца, что является его материей. Но Мареев в статье «Пол и культура» не рядополагает эти две трактовки, а связывает воедино, показывая на данном примере, как происходит снятие душевного в телесном. Биология, пишет он, может объяснить нам, «каким образом, скажем, адреналин действует на функцию человеческого сердца и мобилизует наши физиологические, моторные и т. д. возможности. Но человек испытывает гнев не потому, что у него повысился адреналин в крови, а наоборот, у него повысился адреналин, потому что он испытывает гнев» [11, с. 12]. Таким образом, физиологические процессы оказываются способом выражения явления не биологического рода, а моральнопсихологического, социального, духовного, которые относятся к разряду высших человеческих эмоций, отличных от животных чувств. «Точно так же, – отмечает дальше Мареев, – у человека перестраивается и половая функция» [11, с. 12].
Как мы видим, в статье «Пол и культура» Мареева интересуют не телесные особенности пола или гендера и даже не осознание своей идентичности, а именно любовь как духовное отношение, которое достигает особой высоты между полами, но имеет всеобщую человеческую природу. Прекрасные строки в этой статье написаны им о материнской любви как о том особом случае, который опять же совпадает со всеобщим основанием отношения человека к человеку. Перекликаясь с А. Макаренко, Мареев пишет: «Неверно, что всякая человеческая любовь и всякое человеческое пристрастие есть форма проявления полового влечения (либидо), наоборот, – так называемая половая любовь <.. .> есть только особенный случай проявления этого человеческого чувства. <.> Но это человеческое чувство, и если оно не сформировалось с самого начала как нормальное чувство, а формируется оно с самого начала как любовь к матери к отцу, к братьям и сестрам (почему полезно иметь не одного ребенка), – то у человека впоследствии не формируется и нормальной половой любви. Человеку трудно полюбить женщину как жену, если он раньше не полюбил ее как мать» [11, с. 16].
Женская и мужская душа в культуре есть то единство в многообразии, которое позволяет выразить полноту и разнообразие человеческих качеств и душевных переживаний. Такова историческая и культурная реальность, которой не только сегодня, но и в прошлом пытались противопоставить проекты преодоления половой бинарности, в частности в пользу андрогинности будущего человека.
Андрогин – это не только смешение мужских и женских черт в поведении и идентичности индивида, но и проект человека с нейтральной идентичностью нового типа. Оставим в стороне медицинскую сторону вопроса, как и то, что в теориях постгендеризма будущий андрогин будет высшим воплощением равенства и свободы. Для Мареева как мыслителя классической направленности в вопросах такого рода по-прежнему интересна взаимосвязь духовного и телесного в высших проявлениях любви, на что он делает акцент в более поздних работах о проблемах пола в культуре Серебряного века.
Культура Серебряного века, отмечает Мареев, была подъёмом и упадком «в одном флаконе». Эта культура была пронизана эро- тизмом, крайние формы которого мы находим в сексуальных экспериментах «столпов символизма» З. Гиппиус и Д. Мережковского, а теоретической основой всего этого, конечно, оказался фрейдизм. И тот же Серебряный век демонстрирует специфические формы сращения религии с проблемой пола, представленные, в частности, трактовкой темы андрогина у Н. А. Бердяева и его предшественника – предтечи философии Серебряного века В. С. Соловьева.
Н. А. Бердяев в тех условиях, когда утверждался феминизм, отличался неприятием женского начала в культуре, поскольку женщина в его системе идеологических координат – это связь с земным и природным, причем уже у истоков сотворения мира. В духе христианского мистика Якоба Бëме, Бердяев мыслит первого человека Адама именно как андрогина, не знающего различий мужского и женского. Чертами андрогина Бердяев наделяет Иисуса Христа как выходящего за пределы половой бинарности. В основе этого, согласно Бердяеву, лежит непорочное зачатие, с которого начинается «избавление от природной необходимости, ибо природная необходимость владеет человеком лишь через тоску пола рождающего. Религия создает культ Вечной Женственности, культ Девы, рождающей лишь от духа» [3, с. 237]. Таким образом, Богоматерь, будучи воплощением Вечной Женственности, не является в философии Бердяева женщиной, как и ее любовь к Христу уже не является человеческой любовью.
Иное отношение к женщине и женскому началу у создателя софиологии В. С. Соловьева, который не мыслит любовь без ее телесной стороны и, что важно, без присутствия в ней той самой бинарности, которая преодолевается у Бердяева в андрогине. Если у Бердяева любовь в ее высшем выражении есть свободное и творческое самовыражение, творение самого себя, то Соловьев не приемлет эгоистических проявлений любви. Высшее проявление любви возможно только в отношении другого.
В понимании любви как высшего выражения чувств и отношений, в которых не упраздняется, а одухотворяется телесность, Мареев видел достоинство метафизики любви Соловьева. При этом он относился как к историко-философскому курьезу к размышлениям Соловьева о будущем андрогине. Мареев согласен с Владимиром Соловьевым в том, что в половой любви физиология – это форма, которая с необходимостью наделяется идеальным содержанием. То, что в идеальном снято материальное, читаем мы в статье о Серебряном веке, не означает, что телесная сторона любви ликвидирована, чего боялся З. Фрейд и к чему стремился Бердяев. «Диалектическое снятие в данном случае означает то, что телесность подчинена идеальным человеческим отношениям, в том числе и отношению любви. Любовь не только влечёт человека к любимому существу, но и стимулирует сдержанность: не от великой любви люди бросаются друг на друга, а как раз от её отсутствия» [12, с. 54].
Здесь, как и везде в культуре, пишет Мареев, всякая форма, лишённая содержания, неизбежно становится пошлой. При этом он говорит об ограниченности крайних форм половой любви – платонической и плотской, когда истинная любовь распадается на сугубо романтическую чувственность, с одной стороны, и грубую, физическую связь – с другой. Иначе говоря, любовь – это тяготение одной личности к другой, выраженное посредством физического влечения [12, с. 55].
На половую жизнь Мареев смотрит через оптику Шекспира и категорического императива Канта, где человек, прежде всего, цель, а не средство. Любят не чье-то тело или чью-то душу, пересказывает Мареев Соловьева из «Смысла любви», а конкретную личность. Именно в личности сливаются в единое целое физический облик любимого человека и его духовная физиономия [12, с. 58]. Аналогичным образом Соловьев решает проблему бессмертия души. Многие верят в бессмертие души, отмечает он, но чувство любви показывает недостаточность такой от- влечённой веры. «Бесплотный дух есть не человек, а ангел; но мы любим человека, целую человеческую индивидуальность» [19, с. 519]. А из этого следует, что андрогин в трактовке Владимира Соловьева – это совершенная индивидуальность как следствие единения, а не упразднения женского и мужского начал в их самоотверженной любви.
Как мы видим, общим для марксиста С. Мареева и христианского мыслителя В. Соловьева в решении проблемы пола и половых инверсий является вопрос: человек здесь объект или субъект, цель или средство. И оба отвечают на него в русле классической диалектической традиции Wissenschaft. Недаром биография обоих отмечена многолетним противостоянием позитивизму.
* * *
Именно в начале ХХ века философия любви вытесняется психологией сексуальности. Начиная с этих времен и по сей день, в вопросах пола в массовой культуре торжествует имитация животности. Тем не менее не все так однозначно. С одной стороны, продолжает существовать традиция воспитания на образах мужественности и женственности, с другой – сформировавшееся стремление к множественной гендерной идентичности и мечты о победе андрогинности. Второе на сегодня преобладающая эмпирическая данность, феноменальное бытие, хорошо просчитываемое социологией и документируемое психологией, которое, тем не менее, отличается от сути культуры, выраженной идеалами Истины, Добра и Красоты.
Надо сказать, что в последние годы С. Мареев много писал об объективности классических идеалов – в противоположность субъективности ценностей как предмета современной аксиологии [9]. И это напрямую связано с вопросом об объективной логике истории и объективности «коллективных представлений» в основании духовной культуры. Исторический прогресс, при всех его метаморфозах, не преодолевает противостояния Добра и Зла, Красоты и Безобра- зия. В той марксистской системе координат, в которой исследует проблему пола Мареев, мужественность и женственность относятся к таким же объективным параметрам человеческого рода, которые являются не преходящими историческими моментами, а универсальными формами социальности, моментом постоянного, а не релятивного в культуре.
Отсюда особая роль в марксистской методологии проблемы социального закона как объективной взаимосвязи, рожденной взаимодействием субъективных воль, но в объективных исторических обстоятельствах. Такого рода диалектика субъективного и объективного, сознательного и бессознательного в коллективном социальном творчестве – вне поля зрения последовательных сторонников социального конструктивизма. Всеобщее, универсальное, объективное – это для номиналистически мыслящих ученых только термины на фоне единичного и относительного бытия. Здесь, собственно, и следует искать принципиальную разницу в понимании диалектики, с одной стороны, в марксизме, а, с другой, в социальном конструктивизме, который внедрялся в нашу социальную науку тогда же, когда Мареев писал статью «Пол и культура», оставляя, тем не менее, за кадром указанную методологическую интервенцию.
Оставим в стороне то, как это выглядело в методологии науки. С критикой эпистемологического конструктивизма у нас многие годы выступает академик В. А. Лек- торский [8]. Другое дело – история замещения гендерными исследованиями советской «социологии пола», что шло параллельно распространению в России феминизма [4]. И то же касалось не только природы пола, но и этноса. Пол вытеснялся гендером, а этнос этничностью [14]. Общее здесь – противостояние так называемому «эссенциализму» и детерминизму: гендер и этнос не задан природными или социальными факторами, он сконструирован.
Активным сторонником социального конструктивизма с конца 80-х годов ХХ века в России был академик В. А. Тишков. Формирование этноса, доказывал он, это «воображение», «конструирование», а по-другому – «сборка» представлений, которые всегда «ситуативны», из чего и следует «ситуативная (релятивистская) природа этнической идентичности» [21, с. 53].
Так утверждался в российской науке социальный конструктивизм, который в философском контексте близок к тому, что в начале ХХ века определялось как «коллективный солипсизм». Отдельная тема для анализа – признание гендерной идентичности и этничности «целенаправленно культивируемой иллюзией». Тем не менее, здесь следует поставить точку, поскольку релятивизм и субъективизм, как и ориентация на социальную манипуляцию в методологии социального конструктивизма, не были напрямую затронуты в статье С. Мареева «Пол и культура» и потому требуют специального рассмотрения.