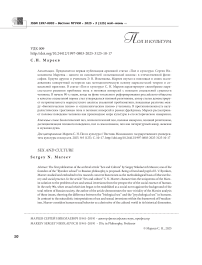Пол и культура
Автор: Мареев С.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Из истории отечественной философской мысли
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
Предлагается первая публикация архивной статьи «Пол и культура» Сергея Николаевича Мареева – одного из основателей «ильенковской школы» в отечественной философии. Будучи другом и учеником Э. В. Ильенкова, Мареев изучал и воплощал в своих исследованиях конкретный историзм как методологическую основу марксистской теории и социальной практики. В статье «Пол и культура» С. Н. Мареев характеризует своеобразие марксистского решения проблемы пола и половых инверсий с позиции социальной сущности человека. В начале 90‑х годов, когда на фоне тотального реформирования российского общества в качестве социальной нормы стал утверждаться половой релятивизм, автор статьи демонстрирует нетривиальность марксистского анализа указанной проблематики, показывая различие между «биологическим полом» и «психологическим полом» у человека. В противоположность натуралистическим трактовкам пола и половых инверсий в рамках фрейдизма, Мареев рассматривает половое поведение человека как производное мира культуры в его историческом измерении.
Биологический пол, психологический пол, половая инверсия, половой релятивизм, деспециализация полового поведения, пол и самосознание, пол как литературный жанр, женская и мужская душа
Короткий адрес: https://sciup.org/144163473
IDR: 144163473 | УДК: 009 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-10-17
Текст научной статьи Пол и культура
Что такое пол?
Вопрос, так поставленный, кажется простым до нелепости. Известно, что это такое. Пол бывает мужским и женским. Между мужчиной и женщиной существует противоположность полов. Ну, а в чем, собственно, противоположность? Почему мужчина – это мужчина, а женщина – женщина? Опять нелепый вопрос. Мужчина – это человек, который имеет мужские гениталии, а женщина, соответственно, женские. Какая тут проблема?
Одним словом, выходит, что различие между мужчиной и женщиной – это различие морфофизиологическое, анатомическое и т. д., то есть биологическое. Назовем это условно физиологическим, или медицинским, пониманием пола.
Повторяем, что это кажется настолько «фундаментальным» и «незыблемым», что даже разговоры на эту тему кажутся нелепыми. Но в науке было бы все очень просто, если бы эмпирическая очевидность совпадала с существом дела. Вернее, наука тогда была бы просто не нужна: зачем наука, если и так все ясно. Но неясности начинаются тут же при столкновении с чуть более сложными случаями, чем обычный случай. Как быть, например, в случае, если у человека нормальная мужская генитальная организация, а в половом отношении он ведет себя как женщина?
В науке о половом поведении, в сексологии и сексопатологии, это называется инверсией, то есть, по-русски, переворачиванием. Так вот, как быть здесь? Кто здесь мужчина, а кто женщина? Опять же, все просто, – скажет упрощенец-скептик. Просто мужчина ведет себя как женщина. А женщина, соответственно, как мужчина. Ведь, скажем, и в античном, и в восточном, да и в европейском театре Нового времени, в шекспировском театре, все женские роли играли мужчины.
Актерская профессия была сугубо мужской профессией.
Но в том-то и дело, что при инверсии мужчина не играет роль женщины. Он не «комедию ломает», – он на самом деле является женщиной вопреки своей мужской генитальной организации. Также как личность человека, это не личина, не маска, не «роль», не его второе «я», а его подлинное «я», его внутреннее существо, которому подчиняется все остальное, в том числе телесная организация человека, даже, в конечном счете, генитальная, половая. Поэтому пол – это не только нечто первичное и исходное, но и вторичное , производное образование. В обычном случае то и другое не различается, а сливается в одно. Случаи инверсии, инвертированного полового поведения – это для науки замечательные случаи. «Замечательные» не в нравственноэстетическом смысле, а в смысле сугубо научном: они, как и некоторые уродства в биологии, представляют собой «реальные» абстракции, – то, что человек должен сделать в голове, отделить одно от другого только мысленно, идеально, происходит реально, на самом деле. В инверсии то, что в психологии называется психологическим полом, отделяется от того, что можно условно назвать биологическим полом.
Последнее «условно» потому, что в чистом виде человеческая биология никогда не существует, она проявляется только в патологии – когда, скажем, какие-то человеческие свойства – психологические, социальные, нравственные – почему-то деградируют и перестают доминировать, как это обычно имеет место в норме, в человеческом поведении.
Итак, пол биологический и пол психологический. И второе не менее реально, чем первое. Биологически мыслящие ученые и обыкновенные граждане, – народному сознанию свойствен своего рода наивный натурализм, все приписывающий чисто телесной организации человека и факту чисто биологического рождения, – усматривают первичность только в биологическом, телесном, а все остальное считают вторичным и производным. Но биология может хорошо объяснить нам, каким образом, скажем, адреналин действует на функцию человеческого сердца и мобилизует наши физиологические, моторные и так далее возможности. Но человек испытывает гнев не потому, что у него повысился адреналин в крови, а наоборот, у него повысился адреналин, потому что он испытывает гнев. Но гнев – явление отнюдь не биологического рода, а морально-психологического, социального, духовного. Он относится к разряду высших человеческих эмоций, которые, как это понял уже Р. Декарт, принципиально отличаются от животных чувств, которые можно истолковать биологически.
Точно так же у человека перестраивается и половая функция. Чтобы вести себя как мужчина, человека должен знать , что он мужчина, сознавать себя мужчиной. У него должна быть мужская душа, а не одни только мужские гениталии. «Душа» – понятие не биологическое. Поэтому писатели, философы, поэты и так далее освоили значение этой категории для понимания сущности пола гораздо вернее и глубже, чем все биологи, медики и психиатры вместе взятые. Среди первых, в частности, и в особенности, интересно и верно высказался Хосе Ортега-и-Гассет, до последних лет мало известный у нас испанский философ и писатель. И мы позволим себе процитировать некоторые выдержки из этого автора.
«Того, что формы женского тела, – пишет Ортега-и-Гассет, – отличаются от мужского, недостаточно, чтобы увидеть в этом теле женщину. Более того, формальные различия заставляют нас чаще всего ошибочно трактовать женское естество. И напротив, именно в тех частях женского тела, которые менее всего отличаются от нашего, и проявляется – в виде со-присутствия <.. .> - женское начало.
Факт удивительный, однако в конечном счете не более, чем появление другого существа мужского пола.
Исходя из этого, мы окажемся гораздо ближе к истине, если взглянем на дело иначе: не из специфики женского облика выводим мы понятие о том странном и глубоко отличном от нашего мужского образа, образе существования, который мы называем женским, а наоборот, все и каждая из частей женского тела приоткрывает нам, в виде со-присутствия, внутренний мир ее, Женщины, и стоит воспринять эту скрытую, внутреннюю женственность, как она тут же пропитывает каждую клеточку тела, делая его женственным. Вывод может показаться парадоксальным, но, по-моему, он неоспорим: не тело женщины обнаруживает «женскую душу», а «душа» женщины заставляет нас воспринимать ее тело как женское» [2, с. 341].
Натуралистическому сознанию всё это может показаться только красивой «литературщиной», не более того. Да нет же. Здесь заключена целая методологическая научная программа, гораздо более адекватная и богатая, чем натурализм. И Ортега-и-Гассет эту программу по существу раскрывает. И здесь мы имеем все, что было свойственно всей классической философии: и историзм, и выбор, и свободу, и творчество. «То, что мы называем “женственностью”, – пишет Ортега-и-Гассет, – не создано природой, а, подобно искусству, является вдохновенным творением истории. Поэтому так поверхностны, так мало содержательны те многие и многие страницы, которые госпожа де Бовуар посвящает биологическому аспекту пола. Только пытаясь представить себе происхождение человека, мы неизбежно вынуждены обратиться к фактам эволюции, которыми располагает сегодня биология, не сомневаясь при этом, однако, что назавтра факты эти сменятся другими. Но с того самого мгновения, как человек стал человеком, он, а вместе с ним и мы, вступаем в мир свободы и творчества. Наше исследование окажется гораздо более плодотворным, если мы будем рассматривать женщину не как зоологическую особь, а как литературный жанр, как художественную традицию» [2, с. 346].
Итак, пол – это не мужские или женские гениталии, а это и «литературный жанр», и «художественная традиция», и результат всей до сих пор протекшей истории. Отсюда, соответственно, два подхода к проблеме пола: биолого-натуралистический и социальнопсихологический. Первый был реализован З. Фрейдом и исповедуется большинством медиков, сексологов и сексопатологов, второй – практически никем.
Половое влечение и половая потребность, или: почему не прав Фрейд
Зигмунд Фрейд зафиксировал одну очень важную особенность полового развития и полового поведения человека, которая заключается в том, что у сексуального влечения вначале «нет необходимости в объекте» [3, с. 227]. Иначе говоря, сексуальное влечение у человека вначале ни на что конкретное не направлено. Это порыв , проявление потенции . Но это еще не половая потребность . Всякая потребность у человека возникает только вместе со способом ее удовлетворения, а следовательно, вместе с предметом с объектом (как у Фрейда), который удовлетворяет данную потребность.
Это иллюзия, что женщина с самого начала является предметом половой потребности мужчины, и наоборот. Эта потребность, как и все другие, по существу, потребности человека, формируется при жизни. Только животным предмет удовлетворения дан вместе с позывом хотя бы потенциально. И животное сразу же «узнает» свой предмет по характерному запаху или характерной окраске. И оно сразу «знает», что делать: вместе с его биологической организацией ему задано и определенное половое поведение. Но уже у высших животных наблюдается разрыв между потребностью и потенцией, у них отсутствует «встроенное» половое поведение, оно формируется, и только в стаде. Отсюда определенный биологический смысл стадной жизни у высших животных. Американцы проделали эксперимент, описанный в свое время в журнале «Наука и жизнь»1. Самку обезьяны от рождения держали в полной изоляции от других обезьян. Когда она достигла половой зрелости и к ней пустили самца, она его не воспринимала как объект половой потребности, у нее начисто отсутствовало половое поведение. Но это не значит, что у нее не было потенции: когда ее искусственно оплодотворили, она нормально родила детеныша, которого опять-таки не воспринимала как своего детеныша: материнское поведение у нее также начисто отсутствовало, и тут ей ничем помочь уже было нельзя. Именно отсутствие жесткой связи между потенцией и потребностью, соответственно – предметом, у приматов создает возможность формирования «извращенных» потребностей и «извращенных» способов их удовлетворения.
Развитие животных видов и, соответственно, развитие генитального аппарата идет в направлении элиминации встроенных (врожденных) механизмов полового поведения, в направлении понижения, так сказать, специализации. Эта деспециализация создает возможность использования в сексуальных целях органов и предметов, не имеющих никакого отношения к генитальному аппарату. С этим связана характерная ошибка Фрейда. Согласно последнему, в процессе филогенетического развития все ранние формы гениталий «снимаются» и сохраняются в высших формах. «Представьте себе, – говорит Фрейд, – что у одного класса животных генитальный аппарат находится в теснейшей связи с ртом,
1 Речь идет об опытах Г. Ф. Харлоу, президента Американской психологической ассоциации (APA) в 1958 г. Статья, которую пересказывает здесь С. Н. Мареев, была написана коллективом авторов – Harlow H. F. Harlow M. K. Suomi S. J. и называлась „From Thought to Therapy: Lessons from a Primate Laboratory” // American Scientist , Volume 59. 1971. September-October. p. 538–549. Ее перевод вышел в журнале «Наука и Жизнь» (1975, № 2) под заглавием «От размышления к лечению». (Примечание О. Ф. Иващук)
у другого неотделим от аппарата выделения, у третьего связан с органами движения… У животных можно видеть, так сказать, застывшими в сексуальной организации все виды извращений» [3, с. 226].
С этим и связано положение Фрейда, согласно которому у человека в процессе онтогенетического развития эрогенными зонами, помимо собственно гениталий, являются рот и задний проход. Это мы, так сказать, унаследовали от червей, рыб, земноводных, пресмыкающихся и прочих морских и сухопутных гадов. Нравственное возмущение, хотя по сути и законное, в данном случае, – и в этом Фрейд прав, – не может рассматриваться как научный аргумент против такой точки зрения. Вопросы, которые могут возникнуть в данном случае, суть следующие. Во-первых, почему для сексуальных целей могут использоваться такие новообразования, которых не было ни у червей, ни у пресмыкающихся, – рука, например, которая появляется у приматов, и предметы культуры, так называемые сексуальные фетиши, предметы женского туалета и т. п., которые вообще появляются только у человека. А во-вторых, почему использование хотя бы и рудиментарного генитального аппарата для сексуальных целей, то есть по его прямому назначению, надо называть «извращением»? Ведь извращение, по сути и по смыслу, – это использование для сексуальных целей органов и предметов, для этого не предназначенных. Иначе теряет смысл всякое различение между нормой и патологией, нормальным половым поведением и извращением.
Извращение – это сугубо нравственное понятие, которое применимо только к культурному поведению. Если же мы имеем дело с поведением, обусловленным целиком и полностью биологией, природой, то никакие нравственные оценки здесь не применимы: такое поведение не аморально и не морально, оно до-морально. Отсюда и получается полный половой релятивизм при той сугубо биологической трактовке пола, которую дает, например, Отто Вейнингер. Поскольку, согласно этой трактовке, каждый мужчина в определенном отношении – женщина и, соответственно, наоборот, то есть все двуполые в той или иной мере, то инвертированное половое поведение тоже «нормально» [1, с. 5].
Всё это невозможно понять, если не оставить чисто зоологическую точку зрения и не перейти на точку зрения культуры. Л. С. Выготский в свое время сформулировал методологический принцип, согласно которому зоопсихология может быть понята в свете человеческой, но не наоборот. Фрейд пытается идти как раз «наоборот»: вместо того, чтобы понять человеческие новообразования в их человеческой специфике, он человеческое рассматривает как высшую форму развития зоологического. Отсюда, – как признается сам Фрейд, и здесь надо отдать должное его научной честности, – «неточность» его рассуждений о сексуальности человека, которая «увеличивается в высокой степени вследствие того, что мы принуждены одалживаться у биологии» [4, с. 422].
Так что же такое человек? Человек прежде всего не является дальнейшим продолжением зоологического развития, а он является его прекращением . С возникновением человека прекращается развитие природы и начинается развитие культуры. Не развитие как таковое прекращается, а прекращается только определенная форма развития. Предпосылкой возникновения культуры является то, что человек или то, что ему непосредственно предшествовало, – это абсолютно неспециализированное во всех отношениях существо. Он не имеет, скажем, специализированного клюва, как у птиц, которым они могут выдалбливать дупло в дереве или раздавливать твердую скорлупу орехов и т. п. Эта неспециализированность проявляется во всем: в питании, передвижении – человек может питаться почти всем, чем питаются все животные, кроме, пожалуй, клетчатки, которую человеческий желудок не переваривает, и ядовитых веществ. Передвигаться человек может всеми возможными способами, какими передвигаются животные, и даже сверх того:
он может ходить, бегать, ползать, летать и ездить. Именно в силу отсутствия специализации человек получает возможность и необходимость компенсировать свою зоологическую беспомощность культурой.
Но, что очень важно и что осталось совершенно непонятым всеми психиатрами, психологами, философами, – человек абсолютно не специализирован в отношении полового поведения. Биологически ему способ этого поведения никак не задан. И даже наоборот: самый распространенный способ этого поведения у людей и представляющийся самым «естественным» нигде в животном (естественном) мире не встречается и обусловлен целиком и полностью не биологически, а культурно, и в этом смысле он «искусственный».
Но если человеческое сексуальное поведение не определено биологически, то оно не определено и биологическим полом. Вернее, как уже говорилось, сам пол не определен для человека биологически. Мужское и женское у людей различаются только при помощи культуры. Для первобытного человека женщина – это та (то), которая (ое) выполняет определенные (женские) хозяйственные действия с определенными (женскими) предметами. Отсюда род существительных: топор у всех народов мужского рода, а чашка – женского. Смысл различения предметов по родам заключается только в том, что род вещи должен указывать на род (пол) их обладателя. Это является для человека более объективным показателем, чем мужские и женские гениталии. Вернее, последние человек начинает различать только тогда, когда он различает первые. И вот здесь «онтогенез» действительно совпадает с «филогенезом»: современный человек, как и первобытный человек, различает дядей и тетей не по гениталиям, – различие последних для него еще не существует, это для него будущее «открытие», – а по мужской и женской одежде, по мужским и женским семейным, социальным и так далее обязанностям. Животные различают пол по запаху, при помощи обоняния. Человек может от- личить один пол от другого только при помощи сознания, которое по своей природе не непосредственно, как обоняние и другие чувственные восприятия, а опосредствованно, как правило, специальными культурными предметами, родом предметов, выполняющих определенное утилитарное назначение (род существительных сам по себе не выполняет никакого утилитарного назначения: топор не рубит лучше от того, что он мужского рода), а также предметами, всё назначение которых состоит только в том, что они указывают пол. Это различные украшения, предметы и детали одежды, ритуальные предметы, а также ритуальные действия, танцы и так далее, которые и являлись, вместе с родовой организацией, объективно существующим для человека первобытного коллектива сознанием: через род человек осознавал себя и человеком, и мужчиной (женщиной) одновременно, свои семейно-брачные и социальные обязанности. Человек не может стать мужчиной или женщиной раньше, чем он станет человеком, и наоборот – человек становится мужчиной или женщиной.
Отсюда и возможность инверсии: существо с мужской генитальной организацией может считать себя женщиной и вести себя как женщина во всех отношениях, и наоборот. Но это только возможность, которая обусловлена неспециализированностью. Реализуется эта возможность только при особых культурно-исторических обстоятельствах. В родовой общине, в патриархальной семье это совершенно невозможно, потому что и половое поведение, и половой партнер, муж, жена, человеку абсолютно жестко определены и заданы родом, родителями. Человек здесь сам ничего не выбирал – ему выбирали и его выбирали. Чтобы инверсия состоялась, человек должен получить возможность выбора. И вот когда человек сам начинает выбирать, он может выбрать не только женщину, но и мужчину… Исторически релятивизм полового поведения не случайно появляется именно в период ломки родовых отношений, как это было, например, в Греции.
L
То же самое происходит и в период исчезновения так называемой «репрессивной», традиционной культуры и возникновения так называемой «контркультуры». «Контр-» значит все наоборот, в том числе и в половом поведении… Традиционные культурные рамки сломаны. И тогда не хватает только непосредственного толчка и повода. Тут причин может быть много. Но основные связаны с тем, что в силу каких-то обстоятельств, скажем, нелюбви с детства к матери, у мужчины не завязывается влечение к женщине. Все нормальные человеческие чувства, человечность чувств, формируются в отношениях с родителями. На разговоры о врожденности гомосексуализма можно ответить только одно: гомосексуальность врождена так же мало, как и гетеросексуальность. Спонтанно у человека возникает только абстрактный позыв, который ни на кого и ни на что конкретно не направлен. Направление, а тем самым и влечение, формируется только в обществе и только обществом и культурой.
Перверсии и инверсии – это не следствие сексуального недоразвития, как считает Фрейд, не сексуальный инфантилизм, а совсем наоборот – следствие, если можно так сказать, чрезмерного развития. Ведь для того, чтобы поговорить мужчине по телефону и получить полное удовлетворение (последний вид телефонных услуг), нужно иметь очень развитое воображение. Животное не имеет такой способности, не говоря уже о том, что оно не умеет говорить по телефону, поэтому оно и не может ничего себе представить кроме того, что оно может по своей природе . И потому животное никогда не удовлетворится одним только запахом или видом особи противоположного пола. Для него это только сигнал, только звено в цепи всегда полной программы полового поведения.
Неверно, что всякая человеческая любовь и всякое человеческое пристрастие есть форма проявления полового влечения (либидо); наоборот, так называемая половая любовь, которая сама по себе является исключительно историческим продуктом, есть только особен- ный случай проявления этого человеческого чувства. Фейербах здесь прав. Но это человеческое чувство, и если оно не сформировалось с самого начала как нормальное чувство, – а формируется оно с самого начала как любовь к матери, к отцу, к братьям и сестрам (почему полезно иметь не одного ребенка), – то у человека впоследствии не формируется и нормальной половой любви. Человеку трудно полюбить женщину как жену, если он раньше не полюбил ее как мать. Психологические эмоциональные механизмы здесь одни и те же. И если их нет вообще, то их нет и ни в каком особенном случае. Только сознание позволяет человеку различать жену и мать. Запрет на половое общение с матерью, инцест, и есть единственный способ отличить мать (и сестер) от других женщин. Парадокс здесь опять-таки заключается в том, что мать исключается из полового общения не потому, что она мать, а наоборот, – осознание того, что данная женщина есть мать, происходит только благодаря тому, что она исключается из полового общения.
Иного способа просто нет. Ведь факт физического рождения ребенку непосредственно не дан. Он только потом узнает, – и осознает, – что он родился именно от этой женщины, когда ему скажут об этом. И если бы у него способности к сознанию не было, и сознание не возникло, то человек, как и животное, не знал бы своих родителей. Впрочем, даже имея сознание, человек первое время знал только родительницу, но не знал родителя, как во многих случаях не знает и теперь.
Инцест – это первая форма ограничения животности, преодоления немоты родовой общности, утверждения совсем другого типа общности – общности социальной. Поскольку первые формы социальности совпадали с родом, с кровным родством, то их и надо было как-то разделить. Вокруг отца и матери формировались первоначальные формы социальности, которые несовместимы с немотой рода. Родовую организацию надо было осознать как социальную организацию, как общество, которое имеет своей необходимой предпосылкой обязательно сознание. Последнее и является первоначально в форме различного рода запретов, табу, затем ритуал, миф и так далее. Ни религии, ни искусства, ни развитой художественной культуры еще нет. Они появятся только позже.
Итак, ошибка Фрейда заключается в том, что неспециализированность человека в отношении генитальной организации и полового поведения он истолковал не в отрицательном, так сказать, а в положительном смысле. Иначе говоря, использование таких органов, как рот и задний проход, в сексуальных целях возможно не потому, что это рудименты гениталий, а потому, что человеку не задан абсолютно жестко способ полового поведения и, соответственно, предмет сексуального влечения.
Имея в виду все, сказанное о сознательном характере формирования человеческой сексуальности, определения пола, полового поведения и так далее, о том, что человеку отсутствующий у него инстинкт заменяет сознание, необходимо заметить, что все это не означает, что человек сознательно сам формирует свое половое поведение. Хотя и это в развитых формах культуры имеет место. Но не всё, что относится к сознанию, осознается. Говоря о сознательных формах, или формах сознания, мы имеем в виду специальные социальные предметы, запреты, табу, ритуалы, мифы и так далее. Это то, что получило у К. Юнга наименование коллективного бессознательного. Эти формы имеют силу инстинкта, но животными инстинктами не являются. Это по форме своего проявления инстинкты, но по сути – формы сознания. Животные инстинкты врождены, генетически заданы, человеческие «инстинкты» формируются при жизни и в обществе и носят с самого начала не индивидуальный, а социальный характер. Но это, подчеркиваем, формы сознания. Поэтому нарушения в сексуальной сфере поддаются лечению сознанием. Психоанализ как метод психотерапии, собственно, на том и основан, что врач-психоаналитик помогает больному осознать скрытую причину своей собственной болезни и тем самым устранить ее. Исключительно биологическое толкование сексуальных нарушений ведет в этом смысле в безнадежные тупики.
1.07.1992