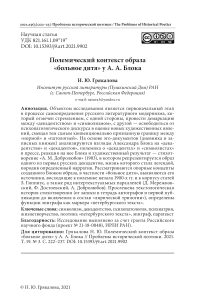Полемический контекст образа "больное дитя" у А. А. Блока
Автор: Грякалова Наталия Юрьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Объектом исследования является первоначальный этап в процессе самоопределения русского литературного модернизма, который отмечен стремлением, с одной стороны, провести демаркацию между «декадентством» и «символизмом», с другой - освободиться от психопатологического дискурса в оценке новых художественных явлений, смещая тем самым конвенционально признанную границу между «нормой» и «патологией». На основе эго-документов (дневника и записных книжек) анализируются взгляды Александра Блока на «декадентство» и «декадентов», полемика о «декадентах» и «символистах» в прессе, реакция на нее Блока и художественный результат - стихотворение «А. М. Добролюбов» (1903), в котором репрезентируется образ одного из первых русских декадентов, жизнь которого стала легендой, породив определенный нарратив. Рассматриваются опорные концепты созданного Блоком образа, в частности «больное дитя», выявляются его источники, восходящие к полемике начала 1900-х гг. и к корпусу статей З. Гиппиус, а также ряд интертекстуальных параллелей (Д. Мережковский, Ф. Достоевский, А. Добролюбов). Прослежена текстологическая история стихотворения (от записи в тетрадь автографов и первой публикации до включения в состав «лирической трилогии»), определены функции эпиграфа как маркера «петербургского текста».
Символизм, декадентство, психопатология, психиатрия, жизнетворчество, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/147236168
IDR: 147236168 | УДК: 821.161.1.09“19” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9902
Текст научной статьи Полемический контекст образа "больное дитя" у А. А. Блока
П ервоначальный этап в процессе самоопределения русского литературного модернизма отмечен стремлением, с одной стороны, провести демаркацию между «декадентством» и «символизмом», с другой — освободиться от психопатологического дискурса в оценке новых художественных явлений, смещая тем самым конвенционально признанную границу между «нормой» и «патологией». Ставкой в этом противостоянии между теорией вырождения (дегенерации) — доминирующим биолого-медикалистским дискурсом эпохи fin de siècle [Матич], [Николози] — и антипозитивистскими воззрениями на природу творческого воображения и свободу личностного самовыражения будет «оправдание» невротического (психопатического) субъекта и конституирование его как культурного персонажа [Грякалова: 33–75].
Сама идея «декаданса», став к концу XIX в. коллективной idée fixe, представляла собой «одну из форм идеологической реакции на процесс культурной модернизации» [Зенкин]. «Психопат», «вырожденец», «мономан», «декадент» создают эпохальные конфигурации «Иного» — эмблемы того, чтό культура отвергает, оттесняет в маргинальное пространство как негативный элемент и в то же время стремится переосмыслить и принять. Александр Блок, представитель «младшего» поколения символистов, достаточно рано, еще в «до-печатный» период творчества, целые страницы дневниковых записей посвятил размышлениям о сущности «декадентства» и его психо(пато)логических параметрах (Б8; 7: 25–29), а в перечне работ о современных литературных течениях, представленном в записной книжке № 1 (ЗК: 27–28), значительное место отвел авторам, репродуцировавшим дискурс вырождения. Встречается здесь и имя профессора Н. Н. Баженова, активно выступавшего на темы современной литературы в популярном жанре «психиатрических бесед». «Спору нет, следует быть очень осторожным в приложении к художественным явлениям такого специального и исключительного критерия, как психиатрический, — замечал он, например, в «психиатрическом этюде» «Символисты и декаденты». — Однако литературное движение, о котором мы говорим, выражалось и продолжает выражаться в таких уродливых формах, что само собою возникает предположение, не подлежит ли оно гораздо более ведению нашей науки, чем ведению эстетической критики» [Баженов, 1899: 1]. К «декадентским» причислялись непонятные тогда большинству импрессионистические тенденции в искусстве; фрагментарность, усложненный метафо-ризм, неожиданные ассоциации, лингвистические трансгрессии расценивались как «патологические», в эффектах синестезии усматривали «спутанность мысли», как свидетельство «вырождения» воспринимались шокирующие публику элементы декадентского бунта — демонстративный эгоцентризм и эпатажный имморализм. В целях восстановления исторической справедливости стоит, однако, заметить, что Баженов, в отличие от многих своих коллег, любивших рассуждать о «границах сумасшествия» и числивших «гениев» по разряду «безумцев», а в «новом искусстве» видевших подтверждение выводов о «вырождении рода человеческого» [Сироткина], представлял перспективу творческого развития более оптимистично. Во всяком случае, он счел возможным в пределах эволюционистской парадигмы поставить вопрос о «прогенерации»: «…быть может, во многих случаях, где мы говорим о возвращении к типу пережитому, об атавизме или о дегенерации, мы правильнее поступили бы, если бы говорили о предвосхищении — конечно, неполном и несовершенном — будущего типа, об adposterism’е, о прогенерации?» [Баженов, 1899: 33]. Таким образом, доминирующая эпистема подвергалась сомнению внутри нее самой.
Блоковская рефлексия была направлена на то, чтобы, во-первых, прояснить сам термин, освободив его от отрицательных коннотаций, поскольку в массовом сознании «декадент» однозначно ассоциировался с «упадочником», «дегенератом» ( Б8 ; 7: 26), а во-вторых, произвести, если угодно, ревизию литературного поля и отмежеваться от «дурных» декадентов — тех, «кому это имя принадлежит, как по существу, так и этимологически»:
«Декадентство — “décadence” — упадок.
Упадок (у нас?) состоит в том, что иные, или намеренно, или просто по отсутствию соответствующих талантов, затемняют смысл своих произведений, причем некоторые сами в них ничего не понимают, а некоторые имеют самый ограниченный круг понимающих, т. е. только себя самих; от этого произведение теряет характер произведения искусства и в лучшем случае становится темной формулой, составленной из непонятных терминов — как отдельных слов, так и целых конструкций. <…> [<…> выписывают они порой безумные, порой дышащие неведомой силой иероглифы. Но не в безумцах ожидаемые силы]» (Б8; 7: 26, 29).
Блоковские размышления не были оригинальны и лежали в русле общих умонастроений «младших» символистов, стремившихся преодолеть крайности декадентства на путях теургического творчества («соловьевцы») или «нового религиозного сознания» (Мережковские). Есть все основания полагать, что в ряду иных Блок разумел прежде всего поэта Александра Добролюбова, декадента par excellеnce, еще при жизни ставшего легендой, вошедшего в анналы раннего русского модернизма и даже попавшего на страницы символистской беллетристики: под именем Александра Елисеева, поэта-декадента и аморалиста ницшеанского толка, он выведен в романе З. Гиппиус «Победители» (1898) [Рыкунина]1. В своих оценках творчества «декадентов» Блок первоначального ориентируется на услышанный им осенью 1901 г. и подробно законспектированный доклад Р. В. Иванова-Разумника «О “декадентстве” в современном искусстве» (ЗК: 22–24), где «непонятность» для публики подобных произведений объяснялась погруженностью декадентов исключительно в сферу гипертрофированных субъективно-индивидуальных ощущений. «Декадентство — явление субъективно-индивидуальное, — записывает Блок. — РЕЗКИЙ пример — психические больные — люди, стремящиеся передать свое личное. Добролюбов — ближе всех к психическим больным (из наших современных декадентов). <…> Произведения Добролюбова принадлежат более психиатрической, чем литературной оценке» (ЗК: 23)2. Как показал А. В. Лавров, обратившийся к неопубликованной статье Иванова-Разумника «О “декадентстве” в современном русском искусстве», Блок излагал позицию будущего критика хотя и схематично, но достаточно близко к тексту [Переписка с Ивановым-Разумником: 367].
И все же отношение Блока к декадентству и декадентам было не столь однозначным. В марте 1902 г. состоялось его знакомство с Мережковскими, которые в это время консолидировали круг единомышленников под знаком «религиозной общественности», одной из форм модернистского активизма, и «преодоление декадентства» входило в их программную стратегию. В литературно-критических выступлениях З. Гиппиус поэты-декаденты и символисты «первой волны» (А. Добролюбов, Вл. Гиппиус, И. Коневской) репрезентировались как незрелые, инфантильные субъекты, индивидуалисты, заблудившиеся, не обретя путеводной нити, в лабиринтах собственного «Я», образцы их поэтического творчества удостаивались сравнения с «улыбкой больного ребенка» [Конев-ской: 187]3. В статье «Критика любви», имевшей подзаголовок «Декаденты-поэты», автор центрирует внимание на личности Александра Добролюбова как одном «из самых маленьких людей, самых несчастных, осмеянных» [Гиппиус: 30]. Отвергая существующие оценочные клише (декаденты — «юродивые», «больные», «дурящие мальчики»), Гиппиус пытается преодолеть дискурс дегенерации и разобраться в причинах коммуникативной неудачи: «Может быть, это просто покинутый ребенок, которого не слышат?» [Гиппиус: 30]. Критик выписывает свой «рецепт» спасения от одиночества и «ухода в аскетизм» — приятие «новой» религии, понимаемой как «соединение в Едином», т. е. еще один вариант модернистской утопии.
Как известно, Блок не разделял идей «религиозной общественности», и дух мистического рационализма ему был чужд [Минц: 123–135]. Он тщательно оберегал свой внутренний мир и дорожил собственным мистический опытом, оценивая его как творческую интенцию [Грякалова: 103–104]. В попытке дистанцироваться от влияния Мережковских он надевает на себя маску декадента и тематизирует близость к литературным «изгоям», сравнивая их (и себя) с падшими ангелами (cр. в Послании св. ап. Иуды: «…и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 1:6)): «…боюсь, что окончательно убедитесь в моем декадентстве, — обращается он к Гиппиус в письме от 14 сентября 1902 г. — Декаденты ведь ангелы, не забывшие о своем начальстве, но “оставившие” свое жилище. Всегда брезжит в памяти иной смысл, когда кругом отбивается такт мировой жизни. <…> Пока что разрежаю мою сгущенную молниеносную атмосферу жестокой арлекинадой <…>. Простите, что пишу все только о себе и так “самоутверждаюсь”» (Б8; 8: 46).
Как отзвук полемических дискуссий можно интерпретировать «загадочную» фразу из записной книжки Блока: «Добролюбов — глава лапососания» (ЗК: 43), которая стала хрестоматийной характеристикой блоковской рецепции личности поэта-декадента и приводится обычно без каких-либо комментариев. Существенно, однако, что запись сделана буквально через несколько дней после визита Блока к Мережковским в Заклинье под Лугой 21–22 сентября 1902 г., где они проводили летнее время, и является частью весьма выразительного фрагмента. Он начинается фразой, в которой «чужое слово» подчеркнуто Блоком: «Отсутствие идеалов у декадентов» (заключительная фраза: «Противоположное — соловьевский лагерь») и представляет особый тип записи, характерный для блоковской эго-документалистики, — конспект разговора. Это текстологическое наблюдение позволяет «переадресовать» данное высказывание Зинаиде Гиппиус, особенно с учетом рассмотренного выше критического метатекста (словарное истолкование экспрессивного фразеологизма «сосать лапу» — довольствоваться малым, жить без больших запросов и высоких стремлений, т. е. «без идеалов»). Более того, из декабрьских писем 1902 г. к невесте, Л. Д. Менделеевой, и к М. С. Соловьеву, брату философа, cтановится понятно, что Блок возлагал на Добролюбова некие надежды в мистическом поединке с «предолевшими соловьевство» «петербургскими мистиками» и приветствовал его «выздоровление»: «Чего хотят все эти здешние “на освященном месте»? Скоро все это откроется. Знаменательно теперь новое появление г-на Добролюбова на литерат<урно>-мистических горизонтах. О, как они все провалятся!» (Б–М: 72)4. В 1902 г. после странствий по монастырям и сектантским общинам Добролюбов на некоторое время вернулся в Петербург (отчасти вынужденно, скрываясь от судебного преследование за проповедь пацифизма), вызвав ажиотажное внимание в символистских кругах. По настоянию матери он был помещен в психиатрическую лечебницу, но медицинское освидетельствование признало его душевно здоровым, хотя ранее его состояние, согласно приведенному А. Л. Соболевым документу, диагностировалось как «душевное расстройство в форме религиозного первичного помешательства (Paranoia religiosa) в его активной форме, т. е. со стремлением к проповедничеству» [Соболев]. Неоднократные пребывания в лечебницах дали Добролюбову материал для творчества: «Потому что сумасшедший дом есть истина о мире. Поэтому необходимо напечатать рассказы о нем алмазным резцом на каменных скалах — для всех, навсегда, чтоб читающий мог легко прочитать», — писал он В. Брюсову в 1903 г.5, комментируя трансгрессивный опыт соприкосновения с безумием как скрытой, сакрализованной истиной, в согласии с евангельским текстом о блаженстве нищих духом. Два прозаических этюда из жизни обитателей скорбного дома были опубликованы в символистском альманахе «Северные цветы» за 1903 г. под заглавием «Рисунки из сумасшедшего дома» (в том же выпуске впервые вышел к читателю блоковский цикл «Стихи о Прекрасной Даме»).
Блок следил за перипетиями судьбы поэта-декадента, ставшего для него символом «мистического действия»6, а именно так он расценивал его жизнетворческий акт — разрыв с образованным обществом и уход «в народ». В первых числах апреля 1903 г., после нескольких месяцев больничного заточения, Добролюбов выходит на волю, вновь готовый к странническому пути [Азадовский: 132]. По-видимому, это событие послужило для Блока импульсом к созданию стихотворения, записанного в Тетрадь беловых автографов № 3 под названием «А. М. Добролюбов» и датированного 10 апреля 1903 г.:
«Из городского тумана, Посохом землю чертя, Холодно, странно и рано Вышло больное дитя.
Будто играющий в жмурки С Вечностью — мальчик больной,
Странствуя, чертит фигурки И призывает на бой.
Голос и дерзок и тонок, Замысел — детски-высок. Слабый и хилый ребенок В ручке несет стебелек. Стебель вселенского дела Гладит и кличет: Молись! Вкруг исхудалого тела Стебли цветов завились… Вот поднимаются выше — Скоро уйдут в небосвод… Голос все тише, все тише… Скоро заплачет — поймет» ( Б20 ; 1: 152–153).
Заглавный персонаж — поэт-декадент, странник, религиозный бунтарь, апологет мистического знания — репрезентирован повторяющимися образами одного семантического ряда: «больное дитя», «мальчик больной», «слабый и хилый ребенок». Несколько диминутивов («фигурки», «в ручке», «стебелек») подчеркивают его телесную немощь и слабость («голос… тонок», «исхудалое тело», «голос все тише, все тише», «скоро заплачет»). Тематизация «детскости» через указанные образы-концепты — прямая отсылка к корпусу полемических выступлений З. Гиппиус против декадентов. Однако в интерпретации Блока декадент, это стигматизированное тело социума, наделяется пророческой миссией: знаки его пути подобны иероглифам («Посохом землю чертя», «Странствуя, чертит фигурки»), которые расшифруют только посвященные (ср. приведенное выше суждение о декадентах в записной книжке Блока: «…выписывают они порой безумные, порой дышащие неведомой силой иероглифы»). Юный пророк будущего преображения не узнан миром: «Холодно, странно и рано / Вышло больное дитя» (эти строки являются прямой аллюзией на стихотворение Д. Мережковского «Дети ночи» (1894), образец мироощущения и художественного самоанализа раннего символизма). Противопоставление внешнего и внутреннего (тело / дух) подчеркнуто контрастно («голос и дерзок и тонок»), усилено рифмой (больной / бой), предполагает мифопоэтические трансформации (стебелек — стебель
Полемический контекст образа «больное дитя» у А. А. Блока 231 вселенского дела — стебли цветов, устремленных ввысь как символ мирового древа, связующего земную и небесную твердь). Изображение лирического субъекта «не от мира сего», способного к мистическому свершению, ожидаемо актуализирует евангельские ассоциации: будьте «как дети» (Мф. 18:3), «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14); «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное <…> кто умалится <смирится>, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:3–4).
Визуально текст кодируется растительной орнаментикой в стиле модерн («Вкруг исхудалого тела / Стебли цветов завились… // Вот поднимаются выше — / Скоро уйдут в небосвод…»), вызывающей в памяти живописные образы А. Мухи и М. А. Врубеля, а образ протагониста напоминает болезненно-бесплотных отроков с полотен М. В. Нестерова («Видение отроку Варфоломею», «Дмитрий-царевич убиенный»), представителя символизма в русской живописи, кстати, причисленного к «декадентам» в указанном выше докладе Иванова-Разумника ( ЗК : 24).
Дальнейшее развитие семантического сюжета связано с последующей историей текста. В мае 1907 г. вышел в свет альманах «Белые ночи», подготовленный группой петербургских литераторов символистского круга. И названием, и обложкой с изображением силуэта «Сфинкса» (рис. М. В. Добужинско-го), составом и композицией (альманах открывался стихотворением Вяч. Иванова «Сфинксы над Невой» и завершался блоковским «Белые ночи») данный артефакт был программно ориентирован на традицию «петербургского текста» русской литературы. В выборе текстов для публикации Блок строго следовал общей концепции: помимо уже указанных «Белых ночей» им был представлен диптих под названием «Петербургская поэма» и цикл «Томления весны», в составе которого анализируемое стихотворение впервые вышло к читателю. В первопечатной версии существенную трансформацию претерпел заголовочный ансамбль текста (паратекст). Во-первых, изменилось заглавие стихотворения, приобретя гибридную форму заглавия-посвящения — «Одному из декадентов». Во-вторых, появился эпиграф из стихотворения А. С. Пушкина «Легенда» («Жил на свете рыцарь бедный…»), но лигатура сакрального текста «Ave, Mater Dei» была заменена на инициалы адресата стихотворного послания: «А. М. Д. — своею кровью / Начертал он на щите». В этой версии эпиграф был вписан в Тетрадь автографов № 3 позже, чем сам текст стихотворения. Возможно, это было сделано в 1906 г., поскольку к этому времени обозначился новый ракурс в восприятии Блоком личности поэта-декадента. Отвечая 11 февраля 1906 г. И. М. Брюсовой на присылку книг Добролюбова (Собрание стихов. М., 1900; Из Книги невидимой. М., 1905), он признавался:
«У меня за последние годы все еще только приготовляется какое-то “отношение” к Добролюбову. Часто я закрывал глаза на него; иногда мне казалось воистину, что А. М. Д. “своею кровью начертал он на щите”» ( Б8 ; 8: 150).
Иллюстрируя свое первоначальное отношение к Добролюбову («Три года назад было так») посвященным ему стихотворением, Блок подчеркнул эпитет: « больное дитя», обозначив тем самым доминанту рецепции. И далее продолжал:
«Тогда я слушал биографию Добролюбова от многих. Сейчас, перелистывая “Невидимую книгу”, я узнаю бесконечно многое, иногда до того, что безобидно посмеиваюсь: дело в том, что я давно знаю лично и близко одну живую книгу Добролюбова — человека, который когда-то был ему ближе всех <…> Кажется, я начну теперь понимать в этом (добролюбовском) направлении все больше» ( Б8 ; 8: 151).
Возвращаясь к первопечатному тексту, подчеркнем, что благодаря эпиграфу была задана новая семантическая (и интертекстуальная) парадигма чтения, в том числе с проекцией на поэтику «петербургского текста», прежде всего Ф. М. Достоевского. В комментариях к академическому собранию сочинений Блока отмечено: «Традиция прочтения A.M.D. из пушкинской “Легенды” как отсылки к реальному лицу восходит к роману Достоевского “Идиот”, что существенно для истолкования заглавного образа…» ( Б20 ; 1: 589). Таким образом, устанавливается образная корреляция между поэтом-декадентом и князем Мышкиным, а следовательно, и со всей традицией изображения «больного сознания» и юродивого
Полемический контекст образа «больное дитя» у А. А. Блока 233 поведения в русской литературе. Кроме того, лексема «больное дитя» отсылает также к образам страдающих, болезненных созданий в романах Достоевского, например, со словами «больное ты мое дитя» обращается герой романа «Униженные и оскорбленные» к Нелли, а ее «детское личико» описывается исполненным «какой-то странной, болезненной красоты» ( Д30 ; 3: 297, 294).
На этом история трансформаций эпиграфа не закончилась. Подготавливая в 1910 г. второе издание первого тома («Стихи о Прекрасной Даме») «лирической трилогии» и включая в него данное стихотворение, Блок вынес в заглавие подлинную фамилию и инициалы протагониста, эпиграф же приобрел следующий вид:
«A.M.D. своею кровью
Начертал он на щите. Пушкин » ( Б20 ; 1: 152).
Изменение всего лишь одного графического знака влечет за собой несколько важных следствий. Возвращение к тексту-источнику (эпиграф атрибутирован, в отличие от первопечатной редакции) актуализировало куртуазно-сакральный компонент — рыцарское поклонение Прекрасной Даме, что вводило в пространство уже собственно блоковского автобиографического мифа (в том числе и через обыгрывание «имени» прототипа Прекрасной Дамы — Л. Д. М.) и мотивировало включение стихотворения в соответствующий том. Латинизированная версия инициалов Добролюбова отсылала как к реальной личности протагониста текста, так и к образцам его творчества: в сборнике «Natura naturans. Natura naturata» (1895) раздел, содержащий единственное стихотворение — «О чем молишь, Светлый? ‥ », был обозначен литерами «А… М… D…» ( NN : 23), кодирующими отмеченные контексты. Таким образом, идя «по следу» Добролюбова, Блок делал акцент на общности истоков (жизне)творческих исканий «декадентов» и «символистов». А сама фигура поэта-декадента «не от мира сего» оказалась вовлечена в структуру блоковского мифа о пути современного художника.
Список литературы Полемический контекст образа "больное дитя" у А. А. Блока
- Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова // Блоковский сб. Тарту: ТГУ, 1979. Вып. III: Творчество А. А. Блока и русская культура ХХ века. С. 121-146.
- Баженов Н. Н. Символисты и декаденты. Психиатрический этюд. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1899. 33 с.
- Баженов Н. Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1903. 159 с.
- Гиппиус З. Критика любви. Декаденты-поэты // Мир искусства. 1901. № 1. С. 28-34.
- Грякалова Н. Ю. Человек модерна: биография — рефлексия — письмо. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. 384 с.
- Зенкин С. «Декаданс» в идейном контексте современности // Неприкосновенный запас. 2014. № 6 (68). С. 113-122 [Электронный ресурс]. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2014/6 (18.06.2021).
- Коневской И. Об отпевании новой русской поэзии // Северные цветы на 1901 год. М.: Скорпион, 1901. С. 180-188.
- Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 396 с.
- Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Блоковский сб. Тарту: ТГУ, 1980. Вып. IV: Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. С. 116-222.
- Николози Р. Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 509 с.
- Переписка с Р. В. Ивановым-Разумником / вступ. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова // Александр Блок. Новые материалы исследования: в 4 кн. М.: Наука, 1981. Кн. 2. С. 366-414. (Сер. «Литературное наследство»; т. 92.)
- Рыкунина Ю. «Не преступи чрез мой порог...». Из комментария к «забытому» роману З. Н. Гиппиус // Toronto Slavic Quarterly. 2011. № 36 [Электронный ресурс]. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/ (18.06.2021).
- Сироткина И. Классики и психиатры: психиатрия в российской культуре конца XIX — начала XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 271 с.
- Соболев А. Л. Больное беспокойство: новые материалы к биографии Александра Добролюбова // Тургенев и тигры: из архивных изысканий о русской литературе первой половины XX века. М.: Трутень, 2017. С. 141-181 [Электронный ресурс]. URL: https://lucas-v leyden.livejournal. com/229686.html (18.06.2021).