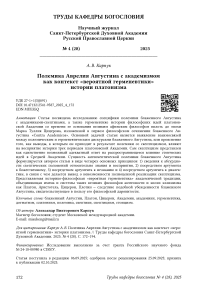Полемика Аврелия Августина с академизмом как контекст «вероятной герменевтики» истории платонизма
Автор: Карпук А.В.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия религии и религиоведение
Статья в выпуске: 4 (28), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию специфики полемики блаженного Августина с академикамискептиками, а также герменевтике истории философских идей платоновской Академии со времени ее основания великим афинским философом вплоть до эпохи Марка Туллия Цицерона, изложенной в первом философском сочинении блаженного Августина «Contra Academicos». Основной задачей статьи является выявление взаимосвязей между полемическим и герменевтическим дискурсами блаженного Августина, или прояснение того, как выводы, к которым он приходит в результате полемики со скептицизмом, влияют на восприятие истории трех периодов платоновской Академии. Сам скептицизм представлен как единственно возможный адекватный ответ на распространяющееся влияние стоических идей в Средней Академии. Сущность антискептической полемики блаженного Августина формулируется автором статьи в виде четырех основных принципов: 1) сведения к абсурдности скептических положений относительно знания и восприятия, 2) посредством аргумента к божественному, 3) посредством аргумента к незнанию и 4) посредством аргумента к диалектике, в связи с чем делается вывод о невозможности полноценной реализации скептицизма. Представляемая историкофилософская «вероятная герменевтика» академической традиции, объединяющая имена и системы таких великих философов античности и эпохи эллинизма как Платон, Аристотель, Цицерон, Плотин — следствие подобной убежденности блаженного Августина, свидетельствующее в пользу его философской даровитости.
Блаженный Августин, Платон, Цицерон, Академия, академики, герменевтика, догматизм, платонизм, полемика, скептики, скептицизм, стоицизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140313014
IDR: 140313014 | УДК: 27-1+1(3)(091) | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_4_172
Текст научной статьи Полемика Аврелия Августина с академизмом как контекст «вероятной герменевтики» истории платонизма
«Contra Academicos» — сочинение, с которого начался путь Аврелия Августина как философа, богослова и писателя. Написав трактат в тридцать три года (387), блж. Августин тем самым сформулировал не только свое отношение к философским традициям и школам греческой классики и эллинизма, но и предложил, как кажется, оригинальный вариант герменевтики платонизма — termini ad quem любой философской традиции: его основных идей и исторических форм. Для блж. Августина платонизм, живой интерес к которому поддерживался еще и наибольшей близостью последнего к христианскому вероучению, — это философия, благодаря взаимодействию с которой возникли перипатетическая, академическая и неоплатоническая системы мышления. Такое взаимодействие сопровождалось значительными институциональными метаморфозами: причины формирования Второй и Третьей Академий блж. Августин усматривает исключительно в стремлениях схолархов и некоторых из их учеников или осквернить (как в случае с Зеноном, слушателем Полемона1), или защитить (случай Арке-силая и Карнеада) Платона от осквернения2. Однако следует отметить, что отношение Аврелия Августина как писателя и христианина — поскольку писатель и христианин рождаются в нем почти одновременно — к платонической философии гетерогенно, поскольку оценка производится им с христианских позиций. Уже на раннем этапе творчества Платон интересует блж. Августина как потенциальный христианин, который в своем учении ближе всех подошел к истинам христианской веры3. Это является одновременно и достоинством, и недостатком философского гения блж. Августина, так как, с одной стороны, искажается чистота платоновских философских интуиций, и, с другой стороны, открывается многообещающая перспектива толкования, обнаруживается новый герменевтический потенциал.
Ввиду объёмности рассматриваемого диалога, для удобства аналитических обращений и ссылок на текст, следует разделить его на сюжетные составляющие:
-
— Καιρός рассуждений об академизме;
-
— Между скептицизмом и догматизмом;
-
— Эзотерическая и экзотерическая стороны учения Новой академии.
При этом следует добавить, что мы будем иметь дело с материалом «из вторых рук»: герои диалога будут пересказывать уже пересказанные прежними философами варианты историй развития скептической философской традиции в Академии, и предлагать на их основании собственные концепции истолкования. И в том, и другом случае мы имеем дело с пластами герменевтического опыта, опыта истолкования первичного «идеального» текста.
Καιρός рассуждений об академизме
В данной части диалога нас интересуют только специфические особенности позиций, занимаемых каждым из двух участников спора, о необходимости познания истины. Изначальная позиция ученика блж. Августина Ликен-тия, ссылающегося при этом на авторитет предков (Карнеада и Цицерона), заключается в невозможности для человека познать истину, что, тем не менее, компенсируется возможностью бесконечного стремления к ее познанию4. Ликентий предлагает принять два различных модуса отношения к истине: совершенного и несовершенного субъектов, Бога и человека соответственно5. Совершенный субъект потому и совершенный, что может вполне познать истину, так что присвоенность истины, обладание ею может рассматриваться в качестве необходимого божественного атрибута. Несовершенный субъект, каким является живой человек, напротив, не способен познать истину: ему остается лишь только бесконечно стремиться к ней. Таким образом, возможность познания истины проистекает из особенности природы познающих субъектов, а степень природной корреляции между субъектом и истиной становится решающей в гносеологическом вопросе. Поскольку истина есть нечто совершенное, то и обладать ею может только совершенное существо — Бог, а человек, будучи несовершенным и зная, что никогда не сможет схватить истину или утверждать истинное, должен заниматься сизифовым трудом ее только лишь тщательного изыскания.
Позицию Тригетия — оппонента Ликентия, можно назвать негативной. Она лишена какой бы то ни было концептуальной значимости и сводится лишь к неприятию положений соперника. Правда, одну идею, которую защищает Тригетий, удается распознать, но и она, с концептуальной точки зрения, выводится из положений Ликентия per negationem. Тригетий, в отличие от Ли-кентия, считает, что познание истины является sui generis conditionem sine qua non блаженной жизни, тогда как последний настаивает лишь на тщательном изыскании ее как источнике блаженства6.
Процесс фундирования и защиты обеих позиций сопровождается спором об определениях относительно «заблуждения» и «мудрости»7. Исходя из того, как ученики рассматривают «истину», «заблуждение» и «мудрость», блж. Августин приходит к выводу, что позиция Ликентия очень близка к положениям Новой (скептической) академии: не только в силу приведенных авторитетов, но и по существу. Другими словами, это очень удобный момент, чтобы обсудить ее.
Между скептицизмом и догматизмом
В начале второй книги диалога блж. Августин кратко излагает учение сторонников Новой академии, оказывающееся, в сущности, скептическим учением. Это момент, когда история философии Академии излагается в диалоге впервые. Блж. Августин упоминает имя стоика Зенона, из идей которого академики в лице Карнеада вывели положение о невозможности достижения истины, а человеческую мудрость видели исключительно в стремлении к ней8.
Согласно блж. Августину, «из определения стоика Зенона [академики] усмотрели, что истина не может быть постигнута и что за истину может быть принято, что так воспринято душой из того, откуда было, как и не может [быть воспринято] оттуда, откуда не было»9. На этом с виду темном определении восприятия истины следует остановиться подробнее. Согласно Диогену Лаэртию, Зенон полагал, что представление (φαντασία) является отпечатком в душе (τύπωσιν ἐν ψυχῇ), подобным тому, какое перстень оставляет на мягком воске. Такие представления разделялись на постигающие (φαντασία καταληπτική) и непостигающие (φαντασία ἀκατάληπτος). Постигающие представления потому и постигающие, что способствовали постижению, т. е. возникали от существующего, были связаны с ним и были критерием действительной вещи (κριτήριον εἶναι τῶν πραγμάτων φασί), действительно фиксируя ее в душе10. Наличие такой связи делало постигающие представления критериями истины, т. е. такими, которые в то же время и не зависят от собственного объекта, а определяются сами через себя, имеют известную автономность11.
«Возникновение от существующего» — вот что скрывается за выражением «ex eo unde esset» блж. Августина. Непостигающими Зенон называл те представления, которые возникают в душе либо от несуществующих вещей (μὴ απὸ ὑπάρχοντος), либо от ложно воспринятых существующих (ἤ απὸ ὑπάρχοντος μέν, μὴ κατ’ αὐτὸ δὲ τὸ ὑπάρχον), чему соответствует августинов-ская вариация «ex eo unde non esset» академиков. Все же есть твердое основание определить акаталептические представления исключительно как ложные, учитывая упоминаемое Диогеном замечание Хрисиппа, что φαντασία как τύπος не может возникать от несуществующей (провоцирующей в таком случае «τὰ φαντάσματα» — призраки, видения и фантазии)12, но только от действительной вещи, так что «несуществующая вещь» в контексте восприятия- φαντασία есть ложное представление о «вещи существующей».
Как бы то ни было, формирование действительного представления (мысленного образа) может происходить в соответствии с признаками действительной вещи, а само познание, понимаемое как совокупность действительных представлений, есть не что иное как достижение реальных соответствий между познаваемым и познающим, длящаяся борьба или схватка, в которой действительная телесная вещь добивается адекватного, равного ей самой, неискаженного душевного восприятия13 при том, что сама душа имеет, по стоическому представлению, телесную природу.
Теперь остается выяснить, каким образом стоическое определение познания заставило академиков утверждать, что все сомнительно и истины постигнуть нельзя. Идея о природном соответствии познаваемой вещи и познающей души, становящаяся у стоиков своего рода трансцендентальным условием познания, была абсолютно чужда платоникам: тело a priori находится в противостоянии с духом. Сократическо- платоновская традиция всегда приписывала истине духовную природу, а границей, которая пролегает между человеком и объективной реальностью с возможным обитанием истины, является система чувственных восприятий, телесность, причем тело уже для Сократа было сомнительным посредником в деле сообщения истинного, откуда ясно, что объективная реальность, сообщаемая и воспринимаемая человеком через тело, должна фундаментально и онтологически искажаться и порождать ложные (акаталептические в стоической терминологии) представления. Академикам удалось сформулировать трансцендентальный аргумент против возможности истинного познания: поскольку объективная реальность воспринимается человеком прежде всего посредством тела, «лежащего на пути» когнитивного впечатления от объективной чувственной реальности, формирующего мысленный образ, следовательно, истинное суждение, т. е. суждение духовной природы, об этой реальности невозможно14.
Как и любой другой, академический скептицизм настаивает на необходимости двух видов недоверия — теоретического и практического. Так как о теоретической стороне скептицизма только что было сказано, остается отметить, что недоверие in praxi есть не что иное, как бездействие, воздержание от любой целенаправленной и полезной активности, делающее академика похожим на индийского гимнософиста или буддиста, который, однако, руководствуется не борьбой против желания ради его подчинения, а борьбой против любой asserendi, будь то своей или чужой. Позднее мы увидим, что именно в таком идеале безмятежности, в этой ἀταραξία академиков, блж. Августин найдет слабое место этого учения. Можно догадаться, что исторический опыт философского мышления приверженцами скептической академии воспринимался в качестве последовательно развивающихся отрицаний, споров и апорий: разногласий, софизмов, недостоверностей и кажимостей par excellence.
Выступая против софистики, академики сами в нее и впадали. Так, чтобы избежать радикализации скептического бездействия, в качестве практического руководства академики избрали критерий истинноподобного, а само бездействие, или воздержание от активности, становилось великой и единственно возможной деятельностью академического мудреца15. Другими словами, блж. Августин подмечает, что при более внимательном взгляде на проблему под изящной маской академического скептицизма скрывается догматизм, а сам скептицизм возможен только лишь как метод, а не позитивное (содержательное) учение. Скептицизм Академии относителен и зависит от того, в какие социально-бытовые или историкофилософские рамки он помещен, так что весьма вероятно, что в конце концов его повсеместно признанные мотивы и интенции окажутся неподлинными, или не единственными, существующими наряду с другими, более глубинными и таинственными. И что, в конце концов, назреет необходимость выделить экзотерическую и эзотерическую стороны Новой академии, где первая представляется фантомом и грезой по отношению ко второй, и которая является в то же время апологетическим щитом, охраняющим истинные намерения академического скептицизма от взглядов непосвященных. Этой внутренней святыней, находящейся за завесой относительного скептицизма, как мы увидим далее, согласно блж. Августину, является чистое догматическое учение Платона, и понимание этого можно считать действительным признаком философского дарования.
Именно поэтому позиция блж. Августина по отношению к академикам, в сущности, нейтральна: она чужда как категорического осуждения, так и наивного принятия. Феномен академизма представляется блж. Августину чем-то нелегким, не таким простым и наивным, как может показаться на первый взгляд, а значит, достойным быть поставленным в качестве философской проблемы, требующей оригинального философского решения, которое блж. Августин находит в форме оригинальной герменевтики истории развития платонического учения. И есть все шансы предположить, что такая герменевтика — плод отношения самого блж. Августина к платонизму, его субъективной оценки, производимой на почве христианского мировоззрения, в связи с чем подобная герменевтика и получила в данном случае название «вероятной».
Может быть, появление Зенона в Афинах как-то связано с развитием экзотерической и эзотерической сторон философской доктрины скептической Академии? Алипий, еще один участник диалога и ближайший друг блж. Августина, как будто догадываясь об этой скрытой связи, предлагает ему кратко изложить уже не историю возникновения скептицизма в Академии Платона, но представить сущность различия между Древней академией, первым схолархом которой был Платон, а последним — Сокра-тид16, и скептической академией, возникновение которой связано с именем Аркесилая и «pestis Graecae»17 Карнеада.
Согласно Алипию, излагающему «скептическую версию» философской истории Академии во второй раз и более подробно, именно стоики спровоцировали разделение Академии на Древнюю и Новую (скептическую). Они (т. е. скептики) утверждали, что и древние представители Академии, прежде всего Платон, а также его учитель Сократ, тоже придерживались недоверия ко всему тому, что воспринимается посредством тела18. Действительно, такую пар-менидовскую точку зрения устами Сократа отстаивает в «Федоне» Платон, когда говорит, что только душой можно коснуться истины и что сущностное знание открывается только в мышлении19. Иными словами, тело — источник заблуждения. Оно было темницей для души, ограничивавшей и искажавшей ее природную деятельность, и потому — как бы ширмой, поставленной между душой и миром истинных сущностей и форм познания (идей), не давая ей выйти из пещерного мрака неведения к свету истинного знания20.
Основание и вместе с тем оправдание для такого гносеологического пессимизма, приписываемого телу и соединенным с ним системам чувств и аффектов, Платон находит в идее знания как припоминания душой всего того, чем она обладала вплоть до своего падения в тело. В диалоге «Менон», посвященном именно этой стороне учения великого греческого философа, Сократ говорит, что только душа является пространством вечного пребывания для всего истинно сущего, припоминание (ἀνάμνησις) которого и делает возможным отправление познавательного процесса, становясь его реальным основанием21. Начальными формами припоминаемого служат т. н. «ἀληθεῖς δόξαι» («истинные мнения»)22, природа которых аналогична интуитивному знанию — такому роду схватывания истины сущего, которое может обходиться без рефлексии и рациональной убежденности, и которому достаточно лишь взора в сторону духовного мира идей. Только когда истинные мнения будут надежно фундированы с помощью дальнейшей рефлексии таким образом, что разум твердо установит себя в границах эйдетического мира, они смогут превратиться в твердо установленное научное знание, ἀκριβῶς ἐπιστήμη23. Но устойчивому пребыванию истинно- сущего (идей) в душе человека и, следовательно, становлению его как ученого, препятствует неустойчивая, изменчивая и податливая человеческая телесная природа. Сделать состояние устойчивым как раз и помогает диалектическое упражнение, провоцируемое наставником- философом, заставляющим оттолкнуться от телесных форм на пути к истинному знанию. Таким образом, процесс познания Платон рассматривает преимущественно как процесс: диалектический, т. е. разворачивающийся в поле вопросов и ответов, в диалоге, с целью преодоления и выведения человека из логического оцепенения24; психологический, т. е. являющийся делом и работой души; логический, т. е. открывающийся в мышлении.
Рассматриваемый под таким углом платонизм позволяет сформулировать ряд главных вопросов: «Как можно не только познать истину, но и удержать ее при себе? То есть, перейти от мнения к научному знанию? То есть, стать ученым?» Ответ прост: некогда оттолкнувшись от телесных форм восприятия, больше к ним не возвращаться. Ведь ясно, что процесс постижения истины у Платона в качестве определенного этапа содержит чувственно постигаемое (ведь Сократ ведет беседу с рабом, и раб ее слышит, равно как и видит изображаемые сыном Софрониска на песке квадраты), но при все большем и большем углублении в обсуждаемый предмет, т. е. при движении ко все более и более абстрактным вещам, значимость поверхностной структуры, чувственно постигаемого, для познания теряется, а внутреннему взору предстоят уже не изображения на песке, а особые внутренние структуры или системы взаимосвязанных элементов: свой ства геометрических фигур, их взаимного расположения, теоремы, аксиомы и т. д., т. е. научные законы и правила25. Внутренние структуры становятся по отношению к поверхностным структурам эйдетической реальностью, представляющейся для познающего абсолютной ценностью и единственным адекватным пространством реализации познавательного процесса26. Представление о взаимосвязи этих двух структурных уровней есть и у блж. Августина, отмечающего, что существуют философы, которые признают, что именно чувственное восприятие порождает знание, будучи причиной понятия, и что такое порожденное чувственностью знание одновременно и удалено, независимо от чувств27. Есть все основания полагать, что такими философами были для будущего гиппонского епископа и платоники, и аристотелики.
Все это говорит о том, что «скептицизм» Древней Академии, или «скептицизм» Сократа и Платона, по версии скептиков был, в сущности, гносеологическим пессимизмом телесности, которая лишена не только способности и самой возможности постичь твердо установленную истину, но и всячески этому препятствует. Поэтому можно пока принять мнение друга блж. Августина, что недоверие к показаниям чувственных ощущений страховало Сократа и Платона от заблуждений, однако это будет лишь частью гносеологической концепции в платонизме: нужно не просто не доверять, но и всячески удаляться, отталкиваться от телесных форм на пути к вечности и вечным формам познания, в связи с чем истинная философия сводится к размышлению о смерти, а подлинный философский ἄσκησις Платон видел в стремлении вовремя умереть28.
На фоне упомянутых трех аспектов теории познания у Платона с присущим ей гносеологическим пессимизмом телесности последующие идеи схо-ларха Аркесилая становятся тем более блеклыми, чем более радикальными в его противостоянии стоическому влиянию в Академии. Для него, согласно Алипию, познание возможно только при условии свободы собственных источников и оснований от ложного, текучего и неустойчивого29 — характеристик, которые Платон связывал с телесной природой, т. е. возможно исключительно и только как истинное познание . Понятие «ложного познания» было для Аркесилая просто- напросто contradictionem in adjecto. Свободу суждений от ложных оснований, примешиваемых к процессу познания телесной природой, что для Платона было целью и идеалом жизни философа, конечным результатом его духовных устремлений, Аркесилай и скептики, наоборот, избрали в качестве основания и начала деятельности философского познания, т. е. тем, что именно и характеризует эту деятельность как познавательную, а не заблуждающуюся.
Применительно к тому, что было сказано о пессимизме телесности у Платона, следует уже теперь добавить, что он оптимистично смотрел на человека, философски оптимистично: как на субъекта и объекта философской деятельности, стремящегося изменить себя и свое текущее состояние к возможно более лучшему, идеал которого и открывает догматическая философская доктрина. Скептики радикализируют позицию Платона путем ее значительного обеднения и, можно сказать, формального сужения, вынося за скобки платоновский философский ἄσκησις отталкивания от телесного, а такой вывод, по правде говоря, напрашивается из замечания Платона о познании, совершаемом только в душе и мышлении, чему тело только препятствует. Начало истинного познания Аркесилай усматривает уже не в отталкивании от форм чувственности, а сразу в логическом связывании нечувственных, и потому истинных, оснований, единственно пригодных для возведения достоверной системы. Но т. к. подобные основания недоступны человеку, Аркесилай делает вывод практического характера30. Поскольку возможность познания заключается в истинных основаниях и его душевно-логической природе, следовательно, человек, будучи духовно-телесным существом, лишен способности и возможности для его отправления и практики. Поэтому единственным подлинно философским занятием, оставленным на долю человеческого существа, будет отстранение от всякого рода утверждений, являющихся в действительности мнениями, и доверия, поскольку любое утверждение зиждется на предварительном доверии его основаниям, будь то аксиоматическим или научно установленным.
Только теперь мы имеем возможность рассмотреть совокупность внутренних сдвигов в учении Академии, о которых говорит Алипий. В целом тенденция эта выражается в противостоянии стоицизму и постепенном возрастании скептического воззрения и убеждения в недоступности человеку истинного знания, начавшаяся с гносеологического пессимизма телесности у Сократа и Платона (отталкивание от которой и было подлинным началом постижения истинного положения сущего, представлявшегося обоим философам не только возможностью, но и результатом познания, подлинно философской задачей) и закончившаяся утверждением о невозможности истинного познания для человека как духовно-телесного существа и как имеющего дело прежде всего с телесной, id est ложной, реальностью. Возможно, Аркесилай и соглашался, что эйдетическая реальность открывается как первая только в смысле причинности, но когда речь идет о человеческом познании этой реальности как присутствующей в причиненных вещах, то она оказывается последней, а значит и труднодоступной, скрытой (ληθές, ψεῦδος) ввиду того, что всё или большинство из того, что ей предшествует, имеет нечто, если не всё, от телесной природы31. Формально все эти положения своими корнями восходят к Сократу и Платону, а от них — к Пармениду Элейскому. Но факт того, что ни Сократ, ни Платон таких далеко идущих выводов из своих учений не делали, не помешал скептикам в изложении Алипия объединить все три положения под общей скептической традицией, причем таким образом, что Сократ и Платон оказываются «немного скептиками», а позиция «чистого платонизма» Древней Академии лишь укрепляется благодаря идеям Ар-кесилая. Уже сейчас можно заметить, что скептицизм Академии (по крайней мере, как его представляют герои диалога) весьма своеобразный — он отрицает не существование истины, а способность и возможность ее постижения. Подобную гносеологическую позицию можно было бы назвать методологическим скептицизмом или скептическим догматизмом .
Но все меняется с приходом Антиоха Аскалонского — ученика знаменитого скептика Филона из Ларисы, бывшего схолархом Академии после 110 г.
до Р. Х.32 Именно Антиох, как говорит Алипий, столкнул позиции Древней Академии с позициями Новой, утверждая, что скептики учат вопреки подлинному учению основателя Академии33. Известно, что Антиох долгое время был сторонником скептической Академии, однако в результате личного философского развития и некоторых политических причин вынужден был разорвать отношения с Филоном, уехав в Александрию, где ревностно занимался полемикой с ближайшими учениками Филона и Новой академией34.
Алипий утверждает, что главным возражением Антиоха во всей полемике было то, что новые академики внесли учение совершенно чуждое древней традиции,, следовательно парируемой со стороны Антиоха точкой зрения была та, согласно которой утверждалось принципиальное единообразие учений древней и новой (скептической) Академий. Главным пунктом расхождения между ним и скептиками была принятая Антиохом стоическая концепция φαντασία καταληπτική, что привело к догматическому повороту и выдвижению критерия субъективно- рефлективной достоверности на первый план, что, в свою очередь, было недопустимо ни для Аркесилая, ни для Карнеада, исключавшими сколь бы то ни было ясный рациональный критерий различия между достоверным и недостоверным.
Несложно заметить, что вариант изложения истории развития учения Академии, особенностью которого стало единообразие скептических принципов, а также представление Антиоха из Аскалона, видевшего в Платоне убежденного догматика, в качестве возмутителя «скептического спокойствия», свидетельствует в пользу того предположения, что источником, которым руководствовался Алипий в процессе своего историко- философского монолога, было «Учение академиков» пережившего перемену во взглядах Цицерона35. Известно, какое сильное влияние учение и тексты знаменитого римского оратора оказывали на молодого Августина и весь кассициакский кружок.
Главным упреком, который Антиох направлял против академического скептицизма, было допущение следования истинноподобному наряду с невозможностью познания истины как таковой. «Как же можно обладать знанием подобного истине, тогда как знание самой истины всячески отрицать?» — именно с таким вариантом «вопроса Антиоха» блж. Августин обращается к защитнику скептической Академии Ликентию. Он просит ответить своего ученика: как можно утверждать о схожести сына с отцом, никогда не видев при этом последнего, но ссылаясь на слухи36? Видя, что Ликентий не может дать адекватного ответа на вопрос, блж. Августин и Алипий считают его фактически побежденным, бедственное положение которого не может исправить даже проницательное замечание Тригетия, что академики относительно того, что назвать истинноподобным, руководствовались не слухами толпы, а разумом. В связи с этим можно задаться вопросом: действительно ли между истинноподобным скептиков и истиной существует необходимая связь, причем связь рациональная?
Блж. Августин полагает, что определение скептического понятия «истинноподобное» отвечает на этот вопрос резко отрицательно. Он говорит, что истинноподобное (verisimile) или вероятное (probabile) есть то, что понуждает действовать без доверия к показаниям чувственных ощущений (sine assensione): «Под действием без доверия к показаниям чувственных ощущений я имею в виду то, что мы делаем, [но] не рассматриваем в качестве истины; или не считаем, что знаем, однако делаем»37. Однако для самого блж. Августина «истинноподобное» академиков представляется свободным от чувственных восприятий весьма специфически, а именно постольку, поскольку сам «чувственный коррелят» в данный момент не наличествует, как солнце в ночи; и, во-вторых, блж. Августину, как и в свое время Антиоху, сложно согласиться, что «истинноподобное» никак не связано с истиной.
Таким образом, мы приблизились к моменту, когда блж. Августин более-менее ясно излагает свою точку зрения относительно главной проблемы скептической Академии: «Им кажется вероятным, что невозможно постичь истину, [тогда как] мне кажется, что постичь возможно»38. Блж. Августин занимает среднюю позицию: он не относит себя ни к радикальным скептикам, поскольку говорит о возможности постичь истину («posse inveniri veritatem»), ни к стоикам с их субъективным критерием достоверности, поскольку добавляет «probabile».
Постепенно свою убежденность в правоте скептического учения теряет и Ликентий, выдвигая против скептиков аргумент, который блж. Августин неоднократно будет повторять в других своих сочинениях: «Я задаюсь вопросом: мне кажется, что нет ничего более абсурдного, чем говорить, что [некто] следует истинноподобному, но, что такое истина, не знает… Следовательно, ты, когда говоришь, что не знаешь ничего истинного, каким образом следуешь истинноподобному?»39 Главная задача полемики со скептиками заключается теперь в необходимости доказать то, что известно на интуитивном уровне: что истинноподобное связано с истиной как следствие с реальной причиной. Установив это, существование самой истины можно считать доказанным.
Наличие причинно- следственной связи между мудростью и мудрым как причастным мудрости — это не просто догадка блж. Августина, основанная на явном противоречии скептицизма: блж. Августин «грамматически» убежден, что за понятием «verisimile» академиков скрывается «verum», существование которого они признавали и постижение которого видели возможным, но все-таки скрывали от непосвященных и грубых и открывали исключительно умам проницательным40. Такое благочестивое мнение об академиках переворачивает любую оценку скептицизма как врага человеческого познания и позволяет поставить блж. Августина в один ряд с Филоном и Секстом Эмпириком.
Начало третьей, заключительной, книги «Contra Academicos» блж. Августин посвящает краткому изложению содержания предыдущих бесед, а также полемике с основным положением скептицизма о невозможности познания истины. Известно, насколько трудно опровергнуть, т. е. убедить изменить свою точку зрения того, кто во всем сомневается. Недаром Цицерон отмечал, что сомневающемуся академику каждая эллинистическая школа философии отводит второе место: мудрец скорее предпочтет другого «сомневающегося мудреца», чем мудреца, намеревающегося опровергнуть положения одной мудрости положениями другой41. Тем не менее, возможные упреки со стороны академиков, с которыми начинается спор, мало заботят гиппонского епископа: «[Ведь] гораздо меньшее зло быть необразованным, чем неспособным к обучению»42. Лучше признавать мудрость, но не знать, кто действительно мудр, чем не допускать ее вообще, считая всех безумными. Свою полемику блж. Августин выстраивает следующим образом: во-первых, посредством выявления противоречивости главных положений скептицизма относительно знания и восприятия; во-вторых, посредством аргумента к божественному; в-третьих, посредством аргумента к незнанию; в-четвертых, посредством аргумента к диалектике.
Абсурдность скептического положения относительно знания и чувственного восприятия. Установление причинноследственной связи между «sapientia» и «sapiens»
«Кажется ли тебе, что мудрый знает мудрость?» — вопрос, который блж. Августин обращает к своему другу Алипию, вместо Ликентия выступившего на защиту скептицизма43. Это вопрошание раскрывается как объективно-субъективируемое пространство, в которое, чтобы получить адекватный ответ, Алипий должен поставить самого себя. Однако, ввиду защищаемых им положений, он этого не делает, а напротив, с помощью повторной безличной конструкции «videtur» «разворачивает» его, получая субъективно-объективируемое пространство44. Поскольку источником вопрошания блж. Августина является объективность известного положения45, в которой нужно удостовериться другому, ответить на вопрос так, чтобы субъективность другого стала источником объективности положения, нельзя, поскольку такая «объективность» будет сомнительной46, находящейся где-то между ассерторическими высказываниями как не-утвердительная и не-отрицательная. Утрата ответом своей ассерторической функции, а именно, изначального управления объективного положения субъективным, заставляет блж. Августина признать его в качестве неудовлетворительного.
Только после того, как Алипий по просьбе блж. Августина ставит себя как отвечающего субъекта в предлагаемое вопрошанием объективное пространство, представляющееся теперь здравым смыслом, приходит долгожданный утвердительный ответ: «[Академику] может казаться, что он знает му-дрость»47. Так как ложь не может быть адекватным предметом знания48, о чем говорил еще стоик Зенон, следовательно, кажущемуся знающим академику сама кажимость предстает как правда и твердое знание, т. е. мудрость. Из этого следуют два вывода: 1) мудрецы (sapientes) существуют как знающие (sapientes), 2) сама мудрость (sapientia) мудрецов существует, относясь к бытию- мудрыми (sapere) мудрецов как причина к следствию, и, следовательно, мудрость является чем-то и не является ничем. Противоположных этим выводов — что мудрость есть ничто, что ее нет и что мудрецы не существуют — разум и здравый смысл допустить не могут, не впадая в противоречия. Тогда утверждение академиков, согласно которому мудрость не может быть уделом мудреца, противоречиво в самой своей основе, т. к. в противном случае следовало бы признать, что не существует мудрецов, или мудрецы мудры благодаря незнанию, отсутствию мудрости, которая в таком случае представляется мудрецам ничем, лишенным всяческого интереса. Разум такой бессмыслицы допустить не может49.
Аргумент к божественному
Блж. Августин восхищается замечанием Алипия, что если и признавать постижение истины (т. е. мудрость и бытие- мудрым) возможным и необходимым, то не иначе как с помощью некоего божественного указания51. Остается понять, в чем такое указание выражается, иначе на истину остается смотреть только как на легендарного Протея — мифологическое морское существо, обладавшее способностью принимать разные непостоянные обличья (словно платоновские неустоявшиеся δόξαι), которые скрываются от взора прежде, чем могут быть схвачены.
Хотя блж. Августин и не посвящает отдельной аргументации, почему и в силу чего обладание полнотой истины следует приписывать только Богу (для него такое утверждение просто жест благочестия верующего Алипия52), все же нужно попытаться реконструировать образ мысли блж. Августина на основе расхожих для его времени логических представлений о причастности (participio) или участии-в (participare in).
Мы установили, что, по мнению блж. Августина, мудрость должна находиться в отношении причины к бытию- мудрым, так что кажимость бытия-мудрым — единственная достоверность, которую может позволить себе академик. Иными словами, кажимость того, что мудрый причастен мудрости — единственная достоверная кажимость. О причастности говорится в том смысле, когда нечто получает в ограниченной мере то, что иному принадлежит как универсальное и всецелое. Только более частное может принимать участие в том, что наиболее всеобще, т. е. воспринимать нечто от всеобщего как собственную акциденцию, быть субъектом. Так как Бог есть наиболее всеобщее, следовательно, Ему не свой ственно быть Субъектом, разве что быть Субъектом- Самого- Себя, тем самым — совершенным субъектом, собственным субъектом, о котором Ликентий упоминал в начале диалога. Так, собственновсеобще обладать истиной может только Бог, а человек, участвуя как субъект в божественной истине, становится мудрым и в некотором смысле богоподоб-ным53. Так что истина — это то, что человек вырывает из бездны сокрытости: не той сокрытости бытия, о которой говорили античные поэты, а из сокры-тости самого себя от Бога — т. е. восстановленная (religata) личная открытость. Постижение истины заменяется ее Откровением, а поиск и исследование (σκέψις) — религией (religio). Таким образом, видно, что для блж. Августина ранее доказанная необходимость бытия истины и ее постижения предполагает веру и признание Божественного бытия.
Аргумент к незнанию
Еще один аргумент, который использует против скептического академизма, можно назвать аргументом к незнанию, argumentum ad ignorantiam. Он направляется блж. Августином против Карнеада — основателя Новой Академии, утверждавшего, что человеку недоступно восприятие и знание о предметах философских. Основание для такого заключения Карнеад, согласно блж. Августину, усматривал в бесконечных разногласиях и спорах философских школ. Однако это не означало, что другие, нефилософские, предметы могут быть предметами познания: познание не простиралось и на них, но исключительно ввиду отсутствия интереса к последним54.
Аргумент к незнанию касается тех положений, истинность или ложность которых не доказана, или доказать которую невозможно, суждение о которых выносится исключительно на интуитивном уровне. Выше мы говорили, что существование физического закона для блж. Августина является одним из ряда примеров универсальностей, обусловливающих все остальное существование и многообразие явлений. Но закон может и должен подлежать рассудочной рефлексии. Универсальностями же (или универсальными положениями), истинность или ложность которых воспринимаются только на интуитивном уровне, согласно блж. Августину, являются количество мира, его существование и физическое, время его существования и т. д.55 Все это — примеры интуитивного знания, однако не в том смысле, котором придавал им Платон, говоря об «ἀληθεῖς δόξαι», на которые человек набредает или наталкивается. Значение примеров интуитивных заключений блж. Августина заключается в том, что они не могут быть ни опровергнуты, ни доказаны (выведены из других суждений), а принимаются в качестве аксиоматических, внерассудочных универсальных или априорных положений, гарантирующих нормальное рациональное бытие человека в мире и действительных даже при отсутствии воспринимающего субъекта.
Аргумент к диалектике
Под диалектикой блж. Августин понимает ряд логических законов, следование которым гарантирует непротиворечивость и истинность положений, к которым приходят в результате умозаключений, а также устанавливает границы и компетенцию человеческому познанию. Блж. Августин приводит в пример два таких закона: непротиворечия и исключенного третьего. Логический закон непротиворечия заставляет принять, что если существует четыре стихии, то их не пять; если существует один мир, то их не два; если душа смертна, то она не бессмертна. Закон исключенного третьего заставляет согласиться, что человек не может быть одновременно и блаженным, и несчастным: он либо блажен, либо несчастен; что в одном месте не может быть день и ночь одновременно; что невозможно в одно и то же время бодрствовать и спать. Следование подобным логическим законам, направленным на устранение ложных суждений, с необходимостью приводит к определенному истинному результату или выводу. «[Диалектика научила меня, что] то, что мною изложено в виде противоречий или разделений, — пишет блж. Августин, — имеет такое природное свой ство, что, когда будет отвергнуто нечто одно или многое, останется нечто, что будет подтверждено через устранение всего этого»56.
Иными словами, блж. Августин говорит, что невозможно согласиться с положениями академического скептицизма, не нарушая элементарных законов формальной логики. Даже в случае отрицания всего всегда останется нечто, что отрицать невозможно, или, принимая во внимание главные идеи платоновского «Парменида», а также некоторые положения классической немецкой философии: апофатические (негативные) суждения — тоже суждения, апофа-тическое познание — тоже познание, пусть, возможно, чуть менее продуктивное и совершенное, чем позитивное. Трансцендентальные понятия — вот непреодолимый остаток для любой формы радикального скептицизма.
Итак, обширная полемика блж. Августина против академического скептицизма сводится к нескольким тезисам: невозможно утверждать бытие мудрецом без утверждения бытия истины и возможности ее постижения, так что «ничего не знающий мудрец» — противоречивое и лишенное здравого смысла понятие; необходимо доверять данным чувственных восприятий, зная, что за такостью восприятия этих данных скрывается объективная рассудочная реальность (закон), которая относится к определенному образу восприятия чувственного содержания как причина к следствию, т. е. постигается вместе с ними и через них; следование формальным логическим законам делает невозможным практику радикального скептицизма.
Несмотря на то, что скептическая доктрина опровергнута, в целом отношение блж. Августина к академикам остается нейтральным и снисходительным. Скептицизм не вызывал у него откровенных симпатий тем более, чем менее возможным он считал допустить существование реального, сомневающегося во всем скептика. Реальным скептиком для блж. Августина мог бы быть последователь Пиррона, идеи и сочинения которого не были известны будущему гиппонскому епископу, плохо знавшему в молодости греческий язык. Ведь ничего не утверждать и не воспринимать, — означает молчать и сидеть без движения, что исключает всякую возможность полемики57. Поэтому последовательный скептик должен был более всего опасаться открыть рот, поскольку полемика — это reductio ad absurdum скептической позиции. Собственно, академик — это скептик, открывший рот, решившийся утверждать истинность собственной философской позиции, воплощенное противоречие… Но как объяснить сам факт существования скептической традиции, если теоретически и практически скептицизм невозможен?
Выше было сказано о том, что академический скептицизм не доктрина, а метод исследования истины. Однако теперь можно дать новое определение, отражающее главную интенцию диалога «Contra Academicos»: скептицизм, по мысли блж. Августина, является методом защиты истины, апологетической стратегией отдельных философов. Блж. Августин убежден, что скептики были защитниками чистого платонического учения бытия истины58. Он отказывается видеть в скептике теоретического (и практического) пессимиста, что делает его (скептика) не похожим, и даже противоположным, типу сократического человека — теоретическому оптимисту, главная убежденность которого заключалась в возможности постижения истины сущего и, вероятно, при необходимости его изменения. Таким сократическим человеком и был Платон, чей статус и авторитет защищает блж. Августин. Зачем ему это было нужно? Вероятно, для того, чтобы, защищая авторитет Платона, выказать свое почтение и его учителю Сократу, который, по убеждению ранних христиан, был «христианином до Хри-ста»59. Если же так говорят об учителе, то мы имеем полное право в данном контексте сказать то же самое и об ученике, в чем так старательно блж. Августин и пытается убедить своих собеседников и (по)читателей60.
Но в отличие от Антиоха из Аскалона, также возвратившего, как казалось ему, академическую традицию на путь чистого догматизма Древней Академии через признание стоических идей Зенона единственными интеллектуальными наследниками платонизма, блж. Августин предлагает свою, автономную герменевтику истории философских идей Академии великого греческого философа.
Блж. Августин считает Платона гениальнейшей и непревзойденной фигурой в истории греческой философии, чье учение возникло в результате синтеза диалектики, сократовской этики, пифагорейской физики и теоло-гии61. Основные положения платонизма, по мысли Аврелия Августина, сводились к утверждению бытия двух миров: материального, воспринимаемого посредством чувств, и умопостигаемого. Истинный мир — мир умопостигаемый, к знанию о котором душа приходит через очищение и прояснение форм чувственного восприятия, которым человек руководствуется в мире материальном. Под очищением и прояснением блж. Августин понимает рефлексию, или последующее рассуждение, благодаря которому, согласно Платону, человек переходит от ἀληθεῖς δόξαι к ἀκριβῶς ἐπιστήμη, так что вечные ἀληθεῖς δόξαι — удел только глупых, не желающих перейти к твердо установленному знанию.
В таком виде учение Платона, говорит блж. Августин, сохранялось довольно долгое время, однако преподавалось лишь избранным, приготовившим себя к восприятию подобных истин — очищенным от пороков и ведущим особый образ жизни, — т. е. с самого начала воспринималось как система эзотерического знания62. Так что появление Зенона в Академии было воспринято с настороженностью, ведь до того, как стать учеником Полемона, он уже прошел киническую школу. Полемон, вероятно, не спешил посвящать своего нового ученика в истины платоновского учения, равно как и Аркесилай — его преемник и соученик Зенона. Когда же Зенон начал распространять собственные взгляды, противоречащие учению платонизма (смертность души, наивный материализм, представление об огненной природе Бога), Аркесилай поспешил скрыть, как будто некое сокровище, истинное учение Академии за ширмой скептицизма63.
Блж. Августин, явно симпатизируя платонизму, упрекает Зенона в непостоянстве, упрямстве и даже отсутствии философской проницательности. Учение Зенона оказалось весьма стойким, дойдя до Хрисиппа. Если противником Зенона был Аркесилай, то противником Хрисиппа стал Карнеад, благодаря своему остроумию и бдительности решительно противоставший распространению стоического пагубного влияния в Академии. Все нападки на скептицизм Карнеада блж. Августин считает несправедливыми, т. к. он был исключительно защитной мерой против стоицизма, но все же эти упреки привели к тому, что основателю Третьей Академии пришлось сделать значительные уступки: признать существование истинноподобного. «[Карне-ад] назвал истинноподобным, — объясняет блж. Августин, — то, чем должно руководствоваться стремление к деятельности. Чему же оно было подобно, он и прекрасно знал, и мудро скрыл, что также и назвал вероятным. [Ведь]
тот, кто ясно представляет образ, схватывает и любое ему подражание. Ибо каким бы образом мудрый одобрял [ что-либо], или каким образом следовал бы подобному истине, если бы не знал, что такое истина?»64.
Противостояние между стоиками и сторонниками чистого платонического учения, нуждающегося в защите с помощью скептицизма, продолжалось вплоть Марка Туллия Цицерона, хоть и было уже довольно слабым и распадающимся. Тем не менее, по мысли блж. Августина, также ослабевшему скептическому учению хватило мощи, чтобы опровергнуть учение Антиоха Аскалон-ского, которого будущий гиппонский епископ называет «сделанным из сена платоником»65, вероятно намекая на то, что он, как и Зенон в свое время, до прибытия в Академию прослушал курс стоицизма у Мнесарха66, считал стоическую теорию познания подлинной наследницей платонической традиции: т. е. не настоящим платоником, а чучелом. Догматизм Антиоха, как было сказано, выражался в принятии им стоического учения о «φαντασία καταληπτική», против которого и восстал Филон с оружием скептицизма в руках, однако из-за своей смерти не успел открыть истинного учения Академии всем желающим. До него, к слову, это пытался сделать Метродор Стратоникейский, ученик Кар-неада, заслуживший всяческих похвал от Цицерона67 и, по мысли блж. Августина, первый из всех осознавший, что скептицизм возник в качестве защиты истинного платонического учения против стоиков68. После смерти Филона эту борьбу продолжил сам Марк Туллий Цицерон, когда ушел от догматизма Антиоха и занял противоположную скептическую позицию.
Надо сказать, что в целом такая историко- философская герменевтика платонической традиции, институционально оформившейся в афинскую платоническую Академию, до блж. Августина появилась в текстах Цицерона: «Тот же, кто полагает, что академики так [и] думали, пусть послушает Цицерона. Он говорит, что у них был обычай, требующий скрывать свое учение, которое они имели обыкновение открывать не иному, как только тому, кто прожил с ними до старости. Бог знает, что это было за учение, но мне представляется, что это было [учение] Платона»69. Однако у Марка Туллия она слишком далека от концептуальности, обширности внутреннего содержания и разнообразия привлекаемых сведений, которые можно найти в диалоге «Contra Academicos» блж. Августина.
Скептическое влияние в Академии было окончательно побеждено ко времени жизни Плотина, с учением которого блж. Августин связывает открытие и возрождение подлинного учения Платона. Как и неоплатоники, блж. Августин уверен в непротиворечивости учений Платона и Аристотеля, синтез которых так или иначе воплощен в неоплатонизме70. Поэтому, в силу своей приверженности к учению Плотина, блж. Августин считает себя вместе с тем и наследником Платона и Аристотеля. Развивая мимоходом высказанное Цицероном мнение об академиках, блж. Августин может считаться и продолжателем цицероновской линии, что является еще одним ярко выраженным свидетельством того, какое сильное влияние оказывали на молодого Аврелия Августина не только выдающиеся философы греческой античности и эпохи эллинизма, но и представители латинской философской традиции. Платон, Аристотель, Плотин, Цицерон — все эти имена запечатлел в себе философский и богословский гений блж. Августина.