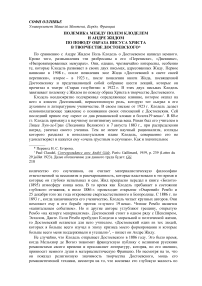Полемика между Полем Клоделем и Андре Жидом по поводу образа Иисуса Христа в творчестве Достоевского
Автор: Олливье Софи
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.3, 1994 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает влияние христианского мироустроения Достоевского на французских католических писателей Андре Жида и Поля Клоделя, исследуя их полемику.
Достоевский, андре жид, поль клодель, христос
Короткий адрес: https://sciup.org/14749075
IDR: 14749075
Текст научной статьи Полемика между Полем Клоделем и Андре Жидом по поводу образа Иисуса Христа в творчестве Достоевского
По сравнению с Андре Жидом Поль Клодель о Достоевском написал немного. Кроме того, размышления эти разбросаны в его «Переписке», «Дневнике», «Импровизированных мемуарах». Они, однако, чрезвычайно интересны, особенно те, которые Клодель развивает в своих двух письмах, адресованных Жиду. Первое написано в 1908 г., после появления эссе Жида «Достоевский в свете своей переписки», второе ‒ в 1923 г., после появления книги Жида, посвященной Достоевскому и представляющей собой собрание шести лекций, которые он прочитал в театре «Старая голубятня» в 1922 г. В этих двух письмах Клодель завязывает полемику с Жидом по поводу образа Христа в творчестве Достоевского.
Клодель неоднократно подчеркивал определяющее влияние, которое оказал на него в юности Достоевский, первостепенную роль, которую тот сыграл в его духовном и литературном ученичестве. В своем письме от 1923 г. Клодель делает основополагающее заявление о понимании своих отношений с Достоевским. Сей последний принес ему «крест со дна ренановской клоаки и болота19 века»1. В 80-е гг. Клодель примкнул к научному позитивизму конца века. Ренан был его учителем в Лицее Луи-ле-Гран (Людовика Великого) и 7 августа 1883 г., при распределении наград, увенчал своего ученика. Тем не менее научный рационализм, взгляды которого разделял в интеллектуальном плане Клодель, совершенно его не удовлетворяет и кажется ему «очень грустным и скучным». Как и значительное ________
* Перевод Н. С. Егорова.
отношению к униженным, несмотря на то, что был покорен им, де Вогюэ отказывается ввести Достоевского в свой литературный пантеон. Он упрекает Достоевского в отсутствии ясности и гармонии, в чрезмерности, которая приводит его в замешательство. Быть может, вследствие его несколько резких суждений французы отвернулись в это время от Достоевского и предпочли ему Толстого, которого де Вогюэ представлял как одного «из самых крупных мастеров из тех, кто запечатлеет свой век»3. Таким образом, предпочтение, высказанное Клоделем Достоевскому, поставило его против течения. Когда в 1908 г. появляется эссе Жида о Достоевском, то, будучи полностью безразличным к Толстому, произведения которого пользуются громадным успехом, Клодель с радостью отмечает данное эссе как «знак почитания этому великому человеку, интерес к которому, _________
-
2 GG ., р. 85.
-
3 Eugène-Melchior de Vogüé, Le roman russe , Paris: Plon, 1886, p. 281.
на счастье, сохранился доныне у небольшого количества почитателей, несмотря на шумный и большой успех Толстого»4.
В начале века благодаря Жиду происходит второе открытие Достоевского во Франции. Жид стремится исправить «плачевно урезанный» образ, составленный о русском писателе де Вогюэ. Формула «религии страдания», изобретенная де Вогюэ, чтобы определить Достоевского, кажется ему неадекватной: «к несчастью, она не давала полного представления о писателе; он перекрывал ее во всех отношениях». Как и для Клоделя, чтение Достоевского для Жида ‒ откровение. Но причины этого разные. Жид находит в русском писателе немного от протестантизма своего детства: любовь к евангелическому Христу и враждебность по отношению к католической религии. Писатель пленяет его постоянным смирением, которое он проявляет на каторге, полным отсутствием бунта против своей судьбы. Этот дух отречения Достоевский приобрел, по мнению Жида, благодаря долгому общению с Евангелием. Эта «этика смирения», которая составляет суть видения мира Достоевского, лежит в основе его творчества, будучи пропитанной евангелическим духом. Среди персонажей Достоевского Жид выделяет Кириллова, ибо он хотел пожертвовать собою для других. Обращаясь к слушателям «Старой голубятни», Жид утверждает, что, задумывая своего персонажа, Достоевский находился во власти мысли Христа о «необходимости жертвы на кресте».
Жид определяет стремление к отречению как типично русскую черту и противопоставляет Достоевского философу типа Ницше, который прославил волю господства, или писателю типа Бальзака, у которого два главных фактора являются ведущими: рассудок и воля. «В творчестве Достоевского, ‒ пишет он, ‒ точно так же, как и в Евангелии, царствие небесное принадлежит нищим духом. У него то, что противостоит любви, это отнюдь не столько ненависть, сколько игра ума... и если я пытаюсь понять, какую роль играет рассудок в романах Достоевского, то я замечаю, что это всегда роль искусительная... Герои Достоевского входят в царствие Божие, только отказываясь от своего рассудка, только отрекаясь от своего проявления воли, только путем отказа от себя»5. Жид противопоставляет Ставрогина и Ивана Карамазова старцу Зосиме, который становится святым, отказываясь от своей воли и смиряя свой рассудок. Ибо, по Жиду, утверждение человека может происходить только через отрицание Бога _________
Достоевский становится, таким образом, для Жида в высшей степени христианским писателем, которого французы должны брать за образец, ибо он видит спасение только в отказе от самого себя и в любви к ближнему. Жид просит своих соотечественников не искать в русском писателе своей собственной логики, своего собственного порядка, но тот евангелический дух, который они склонны слегка забывать. Именно католицизм является объектом его критики, и Жид этого не скрывает, сопоставляя этику Бальзака, создание которой «родилось от соприкосновения Евангелия с латинским сознанием», и этику Достоевского. Жид противопоставляет католицизм французского романиста «чисто евангелической доктрине» русского писателя.
Клодель не мог оставаться бесчувственным к камешкам, бросаемым Жидом в огород католицизма. Сознавая значение книги Жида («прекрасный критический отрывок», ‒ пишет он Жиду), Клодель поздравляет последнего с тем, что он увидел, что Достоевский «не был ни варваром, ни больным», но человеком, которого «пытал безжалостный вопрос свыше», и, кажется, упрекает Жида только в том, что он придал «статическое и застывшее лицо кризису, страсти человека, который беспрерывно меняется»6. В сущности, полемика с Жидом становится очевидной с 1908 г., но особенно в 1923 г., когда после духовного и морального кризиса 19161919 гг. Жид, увлеченный на какой-то момент католицизмом, к которому вернулись его давние друзья, утверждает полный решимости гуманизм, а Клодель знает, что он не может более привлечь его в свой лагерь.
На полемику с Жидом наслаивается полемика с Достоевским. Клодель защищает католицизм одновременно от нападок и Жида, и Достоевского. Обычно преуменьшали полемическое отношение Клоделя к Достоевскому. Критик Жак Мадоль, автор многочисленных работ и эссе о Достоевском, считает, что Клодель совсем не сердится на Достоевского и что он его даже извиняет. Правда и то, что Клодель расценивает атаки Достоевского против католической церкви как «незначительные вещи», которые «проистекают только из наивного воодушевления одинокого невежды». Упрек во временном господстве, сделанный Достоевским католической церкви, расценивается как «забавный». Действительно, напрасно он писал Жиду: «Почему вы считаете, что католик должен испытывать стеснение, разделяя религиозные излияния этого великого сердца?» ‒ или же: «Это был бы подходящий момент для того, чтобы затеять с вами дружескую ссору за те выпады, которые вы делаете то тут, то __________
Христа, Евангелие которого ‒ память о мертвом; Церковь есть обиталище живого Бога, который продолжает вместе с нами все дела нашей жизни. Вы возвращаетесь к Христу историческому, а мы проникнуты Христом бесконечным»8. Сближая православие Достоевского с протестантизмом Жида, Клодель обвиняет обоих писателей в том, что они не понимают, отдавая предпочтение евангельскому Христу, что Церковь, по формуле Святого Августина, берет за образец Святого Павла: «Христос весь в главе ее и теле ее» («Totus Christus»). Довод у Клоделя мощный: церковь покоится не только на Христе как истине, но на Христе как жизни, которая передается верующим чрез таинства. Такова же и концепция православной Церкви, хотя ее восприятие Христа и носит специфический характер. Что касается протестантизма, то известно, что он хотел являть собой возврат к Евангелию и отбросил институационализированную медиацию в католической церкви: «христианская доктрина, каковой она является в Евангелии, ‒ говорит Жид в своей пятой лекции, ‒ предстает перед нами, французами, обычно только через католическую церковь и будучи покоренной церковью. Итак, Достоевский испытывал ужас перед церквами, и перед католической церковью в частности. Он претендует на то, чтобы получать напрямую и только из Евангелия учение Христа, а это как раз то, чего совершенно не допускает католик»9. У Достоевского Жид ищет близких персонажа, хотя он и не уловил все ее значение: «Достоевский, ‒ пишет он Жиду, ‒ впрочем, хорошо почувствовал величие Церкви в своем диалоге братьев Карамазовых, несмотря на то, что он впал в мелочность, отказав в вере в Великого Инквизитора»11. Любопытно, что несмотря на чувствительность к нападкам, высказанным Достоевским против католической церкви, он не понял, что именно она была мишенью и что Достоевский был не на стороне Великого Инквизитора, который являлся для Клоделя грандиозным представителем католической церкви, защитником веры и догмы установленной религии, воплощением _________
-
10 GG ., pp. 85-86.
-
11 Ibid ., p. 85.
неоспоримой власти. В «Атласном башмачке», истинной поэме контрреформации, Клодель воскрешает и прославляет эпоху христианской цивилизации, в которой религиозная история была тесно связана с мирской историей, борьба Инквизиции против еретиков шла наравне с материальными достижениями и научными открытиями и «католический гигант движением плеча пытается поставить прямо накренившуюся повозку христианства»12. „Я расцениваю Возрождение, ‒ заявил он Фредерику Летевру в 1927 г., ‒ как один из самых славных периодов католицизма, период, когда Евангелие завершило свои победы в пространстве и во времени, когда будучи атакованными еретиками в уязвимом месте, защищается со всей Вселенной, когда гуманисты открывают античность, в то время как Васко де Гама открывает Азию, когда Христофор Колумб видит, как перед ним возникает из морской пучины новый мир, когда Коперник открывает небесную Библию, когда Дон Хуан Австрийский сдерживает ислам, когда протестантизм остановлен у Белой Горы13 и когда Микеланджело «поднимает корону Святого Петра»”14. Таким образом, Клодель одобряет властное вмешательство церкви в мире во имя чистоты догмы, даже и против самого Христа, если он не действует «как член Церкви».
Столкнув лицом к лицу Великого Инквизитора и Христа, Достоевский хотел подтвердить как раз обратное: «Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь честность (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня, дан, Христос. Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков ‒ нет. Ну так значит сжигание еретиков есть поступок безнравственный»15. Клодель не задавал себе вопроса об атеизме Великого Инквизитора, который, по его мысли, не мог не иметь веры, и если это так, то потому только, что Достоевский хотел умалить католическую церковь. Но Великий Инквизитор имел веру и __________ который не устоял бы перед тремя искушениями и выслушал бы «Духа смерти и разрушения». Достоевский сделал из Великого Инквизитора самозванца, Антихриста, вдохновителя ордена, основанного на презрении к человеку, лицо, не способное распорядиться отпущенной ему свободой. Иван говорит о любви Великого Инквизитора к людям, но он говорит также, что Великий Инквизитор любит их «на свой манер». Итак, Великий Инквизитор не смог не отвергнуть послание Христа и продолжать любить людей. Он потерял веру в человека, ибо он потерял веру в Бога.
Подчеркивали антиисторизм Достоевского. Однако показателен тот факт, что он избрал город Севилью, где в 1559 и 1560 гг. были организованы в правление Филиппа II аутодафе против лютеран, евреев и где преследовались мистики, такие как Св. Жан де ла Круа, Св. Тереза Авильская, обвиненные в отклонении от религии. Достоевский тщетно заставлял Алешу говорить, что речь идет о том, что есть худшего в католицизме, об инквизиторах, иезуитах (на самом деле инквизиторами были доминиканцы); эпоха инквизиции представляет для него «квинтэссенцию ненавистного католицизма». «Ровно восемь веков назад, ‒ говорит Великий Инквизитор, ‒ как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию»16. Великий Инквизитор делает намек на то время, когда папа Стефан II собирался навестить в 756 году франкского короля Пипина, чтобы помазать его на царство и дать ему титул «патриция римлян и защитника и союзника римской церкви». Повернувшись спиной к Византии, папы ушли под защиту франкских королей и потребовали политической суверенной власти над частью Италии. Когда Достоевский заставляет говорить Великого Инквизитора, что он имеет намерение завершить творение церкви, не желал ли он сказать, что Великий Инквизитор хочет взять в руки два меча. В «Дневнике писателя» и в своих романах (через высказывания Идиота, Шатова, Ивана, отца Паисия) Достоевский выразил свои мысли о католической церкви, которая в качестве наследницы Цезаря превратилась в государство, в церковь Антихриста, ибо она деформировала образ Христа, предала _________ монахами Оптиной пустыни. Именно он должен был выразить идеи Достоевского, касающиеся отношений церкви и государства. В окончательной редакции мы находим эти мысли, вложенные в уста старца Паисия: «...не церковь обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. Это третье диаволово искушение. А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет»17. Достоевский мечтает о всемирной церкви, которая впитала бы государство, о союзе во Христе, основанном на вере, каковую он находит только в русском народе.
Мысль Достоевского о русском Христе, предназначенном спасти Европу, мысль, которая в ту же самую эпоху соблазнила испанских писателей, например Унамуно и Мачадо, глубоко поразила Клоделя: «Можно улыбаться, ‒ пишет он Жиду, ‒ этой претензии обнаружить в мире Христа русского, неизвестного миру... Не существует русского, или английского, или немецкого _________
-
18 GG ., р. 85.
-
19 Pierre Pascal, Dostoevski , Paris: Desclée de Brouwer, p. 102.
-
20 Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 198.
-
21 GG ., p. 86.
целом». И Жид отвечает: «Нет, не к анархизму ведет нас Достоевский, но всего-навсего к Евангелию»22.
Таким образом, в полемике между Клоделем и Жидом сходятся лицом к лицу две концепции христианства: одна, которая отрицает церковь и стремится черпать прямо из источников Евангелия, и вторая, которая признает необходимость в догме и во власти для ее поддержания. Творчество Жида в сильной степени отмечено печатью Достоевского: герои, мятущиеся между добром и злом, светотень à lа Рембрандт, «бескорыстие», присутствие дьявола в мире и в человеческом сознании, ангельское и демоническое. Но желание быть свободным от всякого морального и религиозного стеснения, которое он воспевает начиная с 20-х гг. и которое обнаружил у некоторых героев Достоевского, удаляет его от евангельских идей русского писателя, которые он, однако, столь метко подметил и выразил в своих лекциях.
Напротив, эта идея гораздо ярче выражена в творчестве Клоделя, в котором можно найти большое сходство с работами Достоевского23: противопоставление святых и сатанинских героев, музыкальная композиция crescendo, сосуществование гротескного и трагического, открытие «я», пропущенного через души других, полифония голосов... Хотя Христос явно не представлен (Достоевский ‒ один из редких писателей, сделавших это), его присутствие чувствуется во всем творчестве Клоделя. Критик Луи Баржу писал, что в пьесах Клоделя распятие понатыкано повсюду, как спасительные колючки. Самопожертвование превосходно воплощено в образе Виолены в «Благовещании». Как и Достоевский, Клодель ‒ писатель религиозный. Но своим религиозным опытом (Клодель не прошел через «горнило сомнения», но был мучим требованием непреклонной веры), своей концепцией искусства, которое должно быть культом, открытым для тайны, расшифровкой загадки бытия, в которую он должен привнести свое решение, прославлением единства и порядка мира, песнью в честь Бога, подражателем которому поэт хочет стать, Клодель решительно отличается от Достоевского.
Мы хотели бы заключить нашу работу тремя замечаниями. Полемика Клоделя с Жидом направлена не на природу Христа, но на его отношение с церковью. В своем ответе Жиду Клодель _________
Список литературы Полемика между Полем Клоделем и Андре Жидом по поводу образа Иисуса Христа в творчестве Достоевского
- Paul Claudel, Correspondance avec André Gide, Paris: Gallimard, 1959, p. 239 (Lettre du 29 juillet 1923)
- Eugène-Melchior de Vogüé, Le roman russe, Paris: Plon, 1886, p. 281.
- André Gide, Dostoevski, Paris: Gallimard, 1964, pp. 128-129.
- Paul Claudel, Oeuvres en prose. Paris: Gallimard, 1965, p. 221.
- Frédéric Lefèvre, Une Heure avec.. Paris: Gallimard, 5ème série, 1929, p. 115.
- Michel Lioure, L’esthétique dramatique de Paul Claudel, Paris: Armand Colin, 1971, p. 388.
- Достоевский Ф. M. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 27. С. 56 (Записные книжки 1881 г.).
- Pierre Pascal, Dostoevski, Paris: Desclée de Brouwer, p. 102.