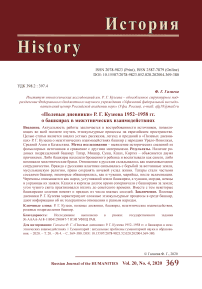"Полевые дневники" Р. Г. Кузеева 1952-1958 гг. о башкирах в межэтнических взаимодействиях
Автор: Галиева Фарида Габдулхаевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуальность работы заключается в востребованности источников, позволяющих во всей полноте изучать этнокультурные процессы на евразийском пространстве. Целью статьи является анализ устных рассказов, легенд и преданий в «Полевых дневниках» Р. Г. Кузеева о межэтнических взаимодействиях башкир с народами Урало-Поволжья, Средней Азии и Казахстана. Метод исследования - выявление исторических сведений из фольклорных источников и сравнение с другими материалами. Результаты. Наличие родовых подразделений башкир: Татар, Мишар, Суаш, Казах, Киргиз - объясняется двумя причинами. Либо башкиры находили брошенного ребенка и воспитывали как своего, либо возникали межэтнические браки. Отношение к русским складывалось как взаимовыгодное сотрудничество. Вражда с русскими властями связывалась с борьбой за вотчинные земли, мусульманскую религию, право сохранять кочевой уклад жизни. Татары стали частыми соседями башкир, некоторые обашкирились, как и чуваши, марийцы, после исламизации. Черемисы описываются как народ, уступивший земли башкирам, а чуваши, мордва, немцы и украинцы их заняли. Казахи и киргизы долгое время соперничали с башкирами за земли; угон чужого скота практиковался вплоть до советского времени. Вместе с тем некоторые башкирские селения помнят о предках из числа южных соседей. Заключение. Полевые дневники Р. Г. Кузеева характеризуют сложные этнокультурные процессы в среде башкир, дают информацию об их толерантном отношении к разным народам.
Р. г. кузеев, полевые дневники, башкиры, межэтнические взаимодействия, родовые подразделения башкир
Короткий адрес: https://sciup.org/147218393
IDR: 147218393 | УДК: 398.2 | DOI: 10.15507/2078-9823.52.020.202004.369-380
Текст научной статьи "Полевые дневники" Р. Г. Кузеева 1952-1958 гг. о башкирах в межэтнических взаимодействиях
Гуманитарная наука на современном этапе находится в поиске все новых источников, подтверждающих либо опровергающих общепринятые научные концепции, уточняющих, дополняющих ранее не известными сведениями. К числу уникальных источников относятся «Полевые дневники»1 выдающегося российского этнолога, члена-корреспондента Российской академии наук, академика Академии наук Республики Башкортостан, профессора, заслуженного работника науки Россий- ской Федерации Раиля Гумеровича Кузеева (1929–2005). К настоящему времени Институтом этнологических исследований УФИЦ РАН, носящим имя Р. Г. Кузеева, в серии «Документы и материалы по истории и этнографии народов Южного Урала» опубликована первая часть его полевых дневников, характеризующих начало творческого пути ученого – в 1952–1958 гг. [2]. Другие мате-риалы2 готовятся к печати.
На протяжении творческого пути многие полевые материалы Р. Г. Кузеев уточнял, а затем использовал при написании моногра- фий и статей по этногенетической истории башкир, их родоплеменной организации [4–6], этногенетической истории Среднего Поволжья и Южного Урала [3; 6]. Вместе с тем творческим методом Р. Г. Кузеева была фиксация самых разнообразных источников по истории и этнографии народов, с которыми башкиры вступали в межэтнические взаимодействия. Значительная часть его записей ранее не вводилась в научный оборот и актуальна в наши дни.
Другая особенность творчества Р. Г. Кузеева заключалась в том, что в процессе изучения исторических вопросов большое внимание уделялось не только архивным документам, статистическим сведениям, другим опубликованным материалам, в том числе по смежным дисциплинам, но и фольклорным источникам. В ходе полевой работы он в большом количестве записывал устные рассказы, легенды и предания, тексты других фольклорных жанров. Некоторые его записи использованы при подготовке фундаментального свода «Башкирское народное творчество» [1, № 137, 138, 140, 141, 149, 150]. Предания, легенды, пословицы, поговорки, фрагменты эпосов и песен часто приводятся в историко-этнографических трудах ученого [4; 6].
Целью статьи является анализ фольклорных записей в «Полевых дневниках» Р. Г. Кузеева о разнообразных взаимоотношениях башкир с другими народами. Научная и научно-практическая значимость работы заключается в актуализации фольклорных источников о народах, которые представляют собой одни из ранних академических записей, собранных от носителей традиций в их непосредственном ареале бытования, при изучении истории и культуры Урало-Поволжья и других регионов Евразии. Материалы Р. Г. Кузеева охватили башкирские селения практически всех районов Башкор- тостана и Челябинской области3. При этом ученый всегда работал интенсивно, несмотря на большие сложности послевоенного времени, проблемы с дорогами и транспортом, финансированием, отсутствием способов фиксации, доступных в наше время. Лишь за 1953 г. он посетил за период чуть больше месяца (с 16 июня по 19 июля) 18 районов Башкирской АССР и Челябинской области, только в Башкирии – 77 башкирских населенных пунктов. Поэтому материал очень богатый и разнообразный.
Обзор литературы
Ранее не рассматривались исторические сведения, извлеченные из полевых фольклорных материалов, о взаимоотношениях башкир и других народов. Более того, до настоящего времени в научный оборот не вводились записи полевых материалов (в том числе фольклорных) классиков этнографической науки Башкортостана (Р. Г. Кузеев, Н. В. Бикбулатов, С. Н. Шитова), как и некоторых других регионов Ура-ло-Поволжья.
Метод исследования – выявление историко-этнографических сведений из фольклорных материалов, собранных Р. Г. Кузеевым, о народах и межэтнических взаимодействиях башкир, их сравнение с другими источниками. Круг этносов охватывает народы Урало-Поволжья, Средней Азии и Казахстана. В их числе башкиры, русские, татары, чуваши, мишари, марийцы (черемисы), мордва, казахи, узбеки (сарты), украинцы и немцы.
Результаты
Представленные в «Полевых дневниках» сведения демонстрируют один из выводов монографии «Очерки исторической этнографии башкир» (1957), опубликованной 28-летним Р. Г. Кузеевым. Он пишет, что накануне присоединения Башкирии к Русскому государству (и даже раньше)
башкирские племена и роды не были кровнородственными и объединялись на базе хозяйственных и военно-политических интересов. Границы родоплеменных организаций башкир были подвижными, о чем говорят неустойчивая этнонимия и названия родовых подразделений. Межэтнические связи были очень активные [4; 6, т. 1, с. 200].
Русские в «Полевых дневниках» характеризуются с позиций хозяйственных и даже родственных отношений для некоторых групп башкир. В легенде4, записанной в д. Табулда Стерлибашевского района, говорится: «Старое название деревни – Кутлуюл. Когда [башкиры] стали в составе России, русские сюда переселились, и у них свои бояре были. Когда наши башкиры недалеко от деревни сено косили, показались русские. Они в метрах 150 остановились, и после них остался сверток. Это оказался ребенок. Его так и назвали Табылды. В этой деревне потомков Табылды стало много, и деревня постепенно из Кутлуюла превратилась в Та-былды. Деревня Табылды разрасталась. Постепенно Кутлуюл забылся» [2, с. 103].
Аналогичная легенда записана в д. Ново-Бабичево Кармаскалинского района. В ней рассказывается о происхождении рода башкир от оставленного во время войны русского ребенка: «Наш род пришел из Ак-куля (Белое Озеро). Оттуда наши деды 110 лет назад, испугавшись, пришли сюда. Во время Пугачевского бунта здесь оставили ребенка в люльке. Одна старуха нашла его и, приласкав, сказала: “Эй, малыш, малыш (бәпес)” и воспитала его. Его потомки и живут в деревне Бабис, так как ему имя дали Бабис» [2, c. 88].
Другая мысль, проходящая красной нитью через труды Р. Г. Кузеева, – о взаимодействии народов и культур в процессе жизнеобеспечения. По записям рассказов в полевых дневниках, русских плотников приглашали в башкирские селения для строительства домов [2, с. 142]. С русскими соседями обменивались продуктами. Так, в д. Азнаево Бишбулякского района около речки сеяли коноплю и лен, изготавливали шаршау (большой занавес), полотенца, платье, подкрашивая полотно в зеленый или красный цвет. Однако сырья было недостаточно, поэтому его обменивали у русских на скот или на лесные ягоды, например, калину. У русских покупали картофель либо производили обмен: ведро картофеля на ведро калины [2, с. 110]. Негативного отношения к русским крестьянам в полевых дневниках не зафиксировано, хотя многие башкирские земли были переданы под многочисленные поселения русских.
Русские власти, напротив, для башкир были объектом вражды, прежде всего по причине земельных и религиозных конфликтов. В одном из рассказов, записанных в с. Старомещерово Мечетлинского района, повествуется о договоре с русскими властями: «Родина башкир – Монголия. Они – кочевой народ, часто вступали в сражения. Верхом на лошадях они дошли до Москвы, воевали с русскими. Там у них был свой князь. В Москве московский и башкирский князья составили договор о примирении. Потом неверные прогнали башкир. Переговорив с русским царем, составили договор и взяли эти земли. Здесь были леса, много лесов они сожгли, и здесь занимались скотоводством. Татары пришли с Кавказа, а башкиры – из Монголии. Занятие было кочевое скотоводство и охота» [2, с. 69].
В рассказе неслучайно говорилось о русских как о «неверных». В указанной деревне «некоторые старики рассказывают, что наши деды испугались церквей. Все эти события были во времена Ивана IV и позднее, когда начали строить Стерлитамак. Туда пришли бояре: Наумов, Стрелков, Левашов. Эти бояре вытесняли башкир» [2, с. 103]. О попытке насильственной христианизации сообщили также жители д. Меле-касово Дуванского района: «Давно, еще до прихода сюда русских, здесь была Салкау-война. Пришел во времена Ивана Грозного его полководец Салкау с армией и хотел крестить башкир. Башкиры прятались в пещерах. Наши батыры собрались и выступили против Салкау, только тогда винтовок не было, а стреляли из лука. Наши победили, потом башкирам дали волю» [2, с. 79].
В некоторых рассказах об Иване Грозном сообщается как о правителе, который решил проблемы постоянных набегов: «Здесь была борьба. Ханство было. Сражение было. Убивали и отбирали скот. После совещания башкиры решили пойти к Грозному. Царю привезли подарки. Наши взяли птиц, шкуру куницы. Грозный сказал, что вы желаете в ответ на ваши подарки? Башкиры сказали: “Нам бы землю от царя”» [2, с. 76]. Этот сюжет известен по другим опубликованным источникам [1, № 143 и др.], как и сюжет об изъятии у башкир вотчинных земель, вынужденном переселении с насиженных мест [1, № 228, 229 и др.; 2, с. 79]. Согласно рассказам, недовольство башкир также вызывала невозможность кочевок в процессе изъятия у них земель, государственной политики закрепления за землями, насильного перевода к земледелию. В д. Мурдашево Стерлитамакского района рассказывали о том, что при Екатерине II «кочевки кончились, стали оседать, вот тогда и поделили земли. А до этого занимались скотоводством, кочевали. А когда осели, стали сеять. Екатерина насильно заставляла сеять. Башкиры боролись против русских. Эту борьбу возглавил Касым-түрә, сын Мырҙаша. Но борьба была безуспешной» [2, с. 98].
Были и общие сражения с русскими за независимость страны. Информаторы часто вспоминали не только совместные военные подвиги, особенно во время Отечественной войны 1812 г. [2, с. 107], но и внешний вид башкир – верхом на лошадях, украшенных серебряной сбруей, с луком и стрелами [2, с. 93, 107]. За успешную военную службу некоторые получили дворянское звание и освободились от многих налогов, стали жить обособленно; даже на кладбище для них отводилось отдельное место [2, c. 122].
Татары в записях Р. Г. Кузеева отмечаются как частые соседи башкир, в том числе в пределах одного с башкирами села, как талантливые ремесленники и как основатели родовых подразделений (ара) башкир. В «Очерках исторической этнографии башкир» он писал, что почти в каждой деревне есть родовые подразделения Татар, Калмак, Казах, довольно часто встречаются Мишар, Сарт, Тажик (Таджик), Каракалпак, Черемис [6, т. 1, с. 199–200].
По «Полевым дневникам», в д. Малоша-рипово Мелеузовского района зафиксированы ара Татар, Мишар и Суашлар, т. е. татары, мишари и чуваши [2, с. 132]. В д. 1-е Иткулово Баймакского района – ара Татар, hартлар (сарты) и др. [2, c. 179]. В д. Халилово Абзелиловского района наличие родового подразделения Татар объясняется тем, что, по рассказам стариков, Халил был татарином. За мостом находились усадьбы рода Кушек, они позднее присоединились; их дед Аллагул тоже был из рода татар, а потом стал башкиром [2, с. 212]. В д. Тюбетееево Альшеев-ского района причину появления ара Татар и Суаш связывают с тем, что их деды взяли в жены из этих народов. Тамги (родовые знаки) проживающих в деревне ара однотипные и одинаково назывались – сукиш тамга (тамга-молоток): т Татар, ^ Суаш, Н Карга, к-Коҙрай [2, с. 114].
В д. Сапыково Кугарчинского района есть ара Жильдәры. По рассказам информаторов, это обашкирившиеся татары, ко- торые пришли с местности или деревни с этим названием «во время 8-ой или 9-ой ревизии». Несколько башкирских дворов оказали им поддержку, кормили их, за что получили название Кошевар. Помимо Ко-шевар и Жильдәр, в деревне есть Каир и Торкмән. Последние считают туркменов родственниками [2, с. 142].
Башкиры помнят обстоятельства прихода на башкирские земли и других татар. В д. Юлук Баймакского района в свое время расселилось 40 дуг, т. е. 40 семейных пар из числа татар, «Ям сабу есөн», т. е. за ямскую гоньбу [2, с. 185]. В д. Кугарчи Кугарчин-ского района пришлых со стороны Мензелинска называли татары-килмешәк, т. е. пришлые татары [2, с. 144]. Деревня Бик-Карамалы Давлекановского района считалась татарской. Правильное название – Биктимир-Карамалы. Там живут выходцы из Имай-Карамалы. Биктимир, Искандәр и Имай (Имаметдин) – братья, пришедшие в 1814 г. из Мензелинского уезда, из д. Дюсмет. Они заняли земли, на которые указали башкирские старики, – по р. Карамалы, основали три деревни и стали тептярями, т. е. припущенниками. «Это те же татары, только они разговаривают тверже, а мишари мягче разговаривают» [2, с. 114].
Татары сеяли картофель и оказали влияние на развитие земледелия, прежде всего в башкиро-татарских семьях [2, с. 121]. В д. Кусеево Баймакского района у нескольких башкирских женщин есть серебряные браслеты с чернением, изготовленные за финансовое вознаграждение татарином-ремесленником из монет, снятых с нагрудных украшений [2, с. 204]. В башкирской деревне Баимово Абзелиловского района наличники домов сделаны мастером-татарином из д. Абзаково [2, с. 233]. В д. Сырт-ланово Мелеузовского района для нового дома сруб сделал русский плотник из соседней деревни Привольное, а окна, двери, крышу, наличники – мастер-татарин из соседнего села. На вопрос: «Не делают ли все это сами башкиры?» – информатор ответил: «Делают», но: «У колхозника разве время есть?» [2, с. 140]. Изделия татарских мастеров можно встретить даже на башкирском кладбище, например, д. Сапыково Кугарчинского района. Там есть несколько ажурных надгробных камней с изречением из Корана над татарскими могилами. Эти камни делали в Каргалах и Оренбурге мастера-татары [2, с. 142].
Мишари у информаторов нередко получали негативную оценку. В записи Р. Г. Кузеева, сделанной после посещения Буздяка, сообщается: «Многие считают их “плохим” народом. Башкиры считают мишарей особой нацией, но откуда они и каковы по происхождению, никто толком не знает. Некоторые говорят, что это в прошлом дворяне» [2, c. 37]. В д. Новый Калкаш Стерлибашев-ского района: «Когда башкиры сюда переселились, здесь был 1 дом мишарей. Башкиры не любили их и мишарей прогнали. У мишаря осталась жена беременная. Дед ребенка, старик, просит: “Баланы ярлыка-гыз”, т. е. “Простите, не убивайте ребенка”. Его оставили. Ребенку дали прозвище – Ярык чумис. Потомки его называют Ярлы-кап» [1, c. 102].
Причина такого отношения объясняется в следующем примере, записанном в д. Кашка Аскинского района, повествующем о том, что судьба башкир и мишарей решалась Иваном Грозным в одно время: «<…> Рус[ский] царь башкирам дал леса и земли, а мишарям – деньги. Но вскоре и им земля понадоб[илась], и началась борьба между рус[скими] и баш[кирами]» [2, с. 53]. В д. Новоябалаклы Чишминско-го района также сообщалось: «Наши деды 400 лет назад, 15 человек верхом поехали к царю и повезли ему ценные подарки – меха. Поехали к царю и татары. Они попросили деньги, а башкиры попросили земли. Когда межевали, на душу положили 90 дес[ятин]
земли. Наши земли были и на Ирендыке и около озера Асылы-Куль (у Корятмаса). Но много земли продали. Некоторые башкиры там остались» [2, с. 125].
Чуваши стали основателями некоторых башкирских родовых подразделений, что показано выше и в следующем примере. Согласно легенде, записанной в д. Малоша-рипово Мелеузовского района, «был пастух Суаш. Ему дали башкирку в жены, и их потомков назв[али] Суаш. Сам относится к ара Мишар. У них бабушка была мишаркой» [2, с. 132]. Башкиризация чувашей происходила после принятия ислама. В д. Новобаби-чево Кармаскалинского района одно из родовых подразделений под названием Таулы появилось так: 16 чувашей сюда пришли со стороны Уфы и осели здесь. К 1957 г., когда их деревню изучал Р. Г. Кузеев, здесь насчитывался 21 дом Таулы. «Сейчас они башкиры, но их предки – чуваши» [2, с. 89].
Информаторы вспоминали, что очень много земель продали русским, чувашам, татарам, немцам и мордве. В Бижбуляке было много башкирских земель, деды их продали чувашам [2, с. 112]. На территории Давлекановского района при царе Николае башкирские земли были переданы в казну, там поселили чувашей и немцев [2, с. 116]. Более того, к чувашам нанимались на работу: «При отцах и дедах кочевали (около Чуюнчи), кумыс пили. Бедных было много. Они брали скот у чувашей и пасли их целое лето» [2, с. 116].
Мордва. О том, как часть земли продали мордве-мокше, сказано в записи в д. Хусаиново Давлекановского района: «От бедности наши отцы стали продавать земли. Филипповским, например, продали 2 200 дес[ятин] земли (Филипповка – мокша). Сначала договорились по 12 руб. за дес[ятину], а в конце концов продали по 8 руб. Это было примерно в 1890 г. Деньги получили через банк и разделили деньги по душам. Земли были проданы по ревизским душам, а разделили по наличным. Земли делили по жеребьевке. Я помню, что первым получать деньги по жеребьевке выпало Гибадулле-карту. Он хотел деньги в шляпу насыпать, но шляпа худая, затем в полу жиләна – тоже в лохмотьях. И все были такие бедные. Когда получили деньги, люди немного подправились, дома бревенчатые построили. А то многие жили в плетенча-тых (ситән) домах с бычьими пузырями вместо окон. Двери открывались и внутрь, и наружу. Бедно, очень бедно жили» [2, с. 116].
Украинцы упоминаются в песне, приведенной в полевых дневниках полностью, сочиненной на башкирском языке в 1910 г. в д. Новояппарово Давлекановского района. В ней повествуется о красоте долины Идряк, где в прошлом кочевали башкиры, и богатые, и бедные, со своим скотом. Вспоминаются белые юрты, веселое времяпровождение, песни и пляски, выражается сожаление о прошедшей прекрасной кочевой жизни, которая закончилась с приходом «хохлов» [2, с. 120].
Черемисы (марийцы), напротив, описаны как народ, уступивший земли башкирам либо пополнивший число башкир. Легенда, записанная в д. Карткисяк Аскинского района, гласит, что еще 200–300 лет назад здесь жили черемисы, но затем они ушли и поселились башкиры рода старика по имени Карткисяк [2, с. 55]. В районном центре Караидель сообщалось, что в д. Алый живут потомки марийцев, принявшие ислам и ставшие башкирами. В переводе с башкирского языка на русский: «Мы – марийцы, настоящий марийский род. Дальше Челябинска жил царь марийцев. Он восседал как Тенгри. Наши предки марийцы в лесах охотились на львов, медведей. Пошли к царю марийцев. Он сказал: “Моя вера неправильная, я неверный <…>. Вы идите на Владикавказ, там настоящая вера”. Поэтому мы народ, оставшийся от марийцев и пе- решедший в исламскую веру. Царь марийцев сказал им: “Вы стали вожаками самых хищных зверей: львов, медведей, волков, всех животных, поэтому будьте башкирами”. Потом наши предки марийцы пошли в сторону Владикавказа, и вернулись оттуда, приняв исламскую веру» [2, с. 57–58]. У местных женщин была металлическая бляха, где изображена змея (по-марийски рѳфия тангәсә). Ее пришивали на кусок материи, женщины носили на груди или на лбу (маңгайса), сохраняя обычаи марийцев [2, c. 58]. Эта легенда с изменениями и сокращениями приведена в своде «Башкирское народное творчество», где вместо Владикавказа – Истамбул. Также говорится о поклонении марийцев змеям, в связи с чем у многих дедов были бляшки с изображением змей [1, № 150].
Народы Средней Азии и Казахстана, по исследованиям Р. Г. Кузеева, длительное время и вплоть до середины XIX в. имели тесные этнические контакты с башкирами, особенно восточными и южными. Наблюдалось проникновение в башкирскую среду казахов, каракалпаков, туркменов, калмыков и других народов [6, с. 481–482]. Узбеки (сарты), по фольклорным источникам, записанным в Дуванском районе, участвовали в формировании сартских башкир. Согласно первой версии, деды местного населения пришли из Бухары в качестве мусульманских миссионеров. Затем женились на местных девушках с приданым – землями и остались здесь жить. Название роду дал старик по имени Харт (Сарт) [2, с. 59]. По другой версии, прародина сартских башкир – Киргизия. Там они кочевали с киргизами, и, когда скота стало много, перебрались сюда [2, с. 62]. По третьей версии, отцы и деды сартских башкир пришли в Дуванские леса из Узбекистана в поисках затерявшегося стада. Место им очень понравилось, и они решили здесь остаться [2, с. 63]. Местные баш- киры их называли «ҡара ҡыйрыҡ hарттар», т. е. «чернохвостые сарты»: по преданию, сарты пришли вслед за черными овцами [2, с. 63]. Как вариант – легенда о парне-пастухе, который пришел сюда из Сарта, что возле Бухары, вслед за черной овцой [2, с. 65]. По четвертой легенде, из Узбекистана сюда пришел Сарт, женился на девушке с приданым – землей: часть земли дали баш-киры-Мурзалар, часть – Кусинские башкиры. У Сарта было шесть сыновей: Маржан-гул, Мясогут и др., которые дали названия поселениям. Имя деда было Арый, отсюда д. Арый (Ариево) [2, с. 63]. Согласно пятой записи, деды сартских башкир пришли с Сартской стороны. Сначала в Дуван-Мечет-лино поселился Кара-косок (букв. Черный щенок), он женился на девушке из Дувана. Шестеро их сыновей расселились в шести деревнях. Отец Кара-косока – Малик-хужа [2, с. 65]. По шестой версии, вначале здесь проживали Дуванские, Тырнаклинские (Кигинские) и Мечетлинские башкиры. Затем сюда пришли три парня из рода Сарт. Они долго служили местным башкирам, занимались животноводством, и за хорошую службу три башкирских рода дали им девушек. Они здесь остались жить, поселились там, где сейчас Месягутово. После того, как туда пришел русский по имени Месягут, им пришлось уйти на земли, переданные в виде приданого за девушек – 6 тыс. дес. [2, с. 66]. Еще одна версия: деды сюда пришли из-за Урала, из Учалинского района, где есть Сарты [2, с. 66].
По книге «Происхождение башкирского народа» Р. Г. Кузеева, род сарт-айле входил в состав айлинских родов айлинской-юрю-занской подгруппы северо-восточных башкир. Причем предания и легенды разных родов айлинской группы одинаково рассказывали о приходе на Урал в поисках затерявшейся отары овец (или лошадей) с Сырдарьи или с острогов «Башкуртских гор» близ Бухары. Предания и легенды поя- вились, по мнению Р. Г. Кузеева, в X–XI вв. как творческая переработка под влиянием ислама сюжета юго-восточных башкир о волке-прародителе и путеводителе башкир [5, с. 191–192]. На территории сырдарьин-ских и приаральских степей в VII–IX вв. существовала историческая и этническая общность и тех и других башкир – пече-нежско-огузско-кыпчакских племен. Поэтому этнонимы «сарт» и «ай» имеются в родоплеменных образованиях башкир и практически всех среднеазиатских народов, в том числе нуратинских туркменов и киргизов [5, с. 192–193]
В преданиях, зафиксированных Р. Г. Кузеевым в «Полевых дневниках», происхождение башкир д. Трубкильдино связывается с Мединой: «Здешние башкиры Дуванцы пришли из города Медина. Два старика пришли. Они сказали: будут разные времена, народу много будет, земли хватать не будет. Давайте разделим земли и расселимся. Одного звали Батыр-кармый. У него 14 сыновей. Он всех их расселил. Как только сын женился, он выделял их и поселял отдельно. Сюда поселился его сын по имени Ыласын. У него было 13 сыновей и 14-й был найденышем. Его нашли у реки. Его воспитали, и он стал дуванцем. Вот так Дуванский народ распространился. Другой старик основался в Косчеге. Они пришли из Медины» [2, с. 70–71]. В своде «Башкирское народное творчество» говорится об исходе группы башкир из некоего города Макина у Аральского моря [1, № 137].
Казахи, как известно, воевали с башкирами за земли и скот, женщин и детей. Согласно полевым записям Р. Г. Кузеева, барымта, т. е. угон скота, практиковалась даже в первые годы советской власти. Считалось, что «это и не кража, и не грабеж, просто приходили и угоняли скот» [2, с. 143]. Угоняли в плен людей. В предании «О Бузане» рассказывается, как башкиру удалось бежать из плена и вернуться на родину: «Однажды
Бузан поехал к казахам и жил у одного богатого казаха. Вернее, жил он в плену, его захватили во время сражения. Однажды казаха пригласили на свадьбу. Он, несмотря на просьбы, не взял с собой младшего брата. Он в отместку решил отпустить Бузана, кот[орый] был племянником брата. Дал ему коня, скот из многочисленного стада брата. Он бежал и, несмотря на погоню, переплыл Яик и бежал сюда, на Дему, на свою родину. Здесь, около Демы, он и кочевал. Башкиры здешние, деды пришли и спрашивают: “Кто ты такой?”. “Я, – сказал он, – сын Азная. Меня увезли казахи, когда мне было 3 года”. Одна старуха узнала его, и он остался жить со своими сородичами» [2, с. 109]. В опубликованных источниках встречается сюжет о взятии в плен вместе со скотом казахского мальчика, который затем женился на башкирке и был принят башкирским обществом как свой [1, № 145]. В другом случае в плен попал башкирский мальчик, его усыновил казахский бай, женил на казахской красавице, но тот все равно сбежал на родину вместе с женой и детьми, прихватив скот [1, № 146]. Это объясняет наличие в ряде башкирских селений, например в д. Ташбулат Абзелиловского района, рода Казахов (казах ырыу) – «память о том, что и башкиры, и казахи крали друг у друга детей, жен, девушек» [2, с. 219].
Казахи вынуждали башкир покидать земли, например, жителей д. Тюбетее-во Альшеевского района, пришедших из Ирендыка: «Мы – Бурзяне из Темясовской волости. Мы – из дер. Басай Темясовской волости. Пришли давно, лет 300 назад. Там казахи и киргизы покоя не давали, скот угоняли, девушек крали, и наши деды, не стерпев, переселились сюда. Здесь мы переселились на Себенлинские земли, и мы стали припущенниками» [2, с. 114].
О былых сражениях башкир с казахами напоминает название горы Сары Гайса (букв. Желтый Гайса) у д. Сапыково Кугар- чинского района. Гайса был казахом, предводителем казахов. На этой горе казахи собирались, прежде чем идти на башкир барымтой или воевать. Напротив стоящая гора названа Сирегул в честь башкирского батыра. На этой горе он собирал воинов. Между этими горами – широкая долина, где и происходили сражения [2, с. 143].
Киргизы и казахи во многих рассказах информаторов обобщены как беспокойные степные соседи. Например, в д. Якутово Куюргазинского района информаторы сообщили, что их деды пришли с Ирендыка, потому что «казахи (киргизы) часто набеги устраивали, скот угоняли. В этих местах деды искали возможность для скотоводства» [2, с. 93–94]. Вместе с тем в ряде башкирских селений есть ара Киргиз, например, в д. Шарипово Давлекановского района. Здесь рассказали легенду, схожую с вышеприведенными, о временах, когда кан-тонным начальником был Лукман. «Однажды он нашел младенца. Он оказался киргизом. Звали его Колья. Его потомки и входят в ырыу Киргиз» [2, с. 124].
Богатые жители башкирской деревни во время кочевок жили в юртах, всего было пять – шесть юрт. Остальные жили во временном летнем жилище – лубовых аласы-ках. Причем юрты «в основном покупали у киргизов. У башкир не было столько овец, чтобы делать кошмы. У нас больше лошади и коровы. На летовках пили кумыс, ели мясо, ходили друг к другу в гости» [2, с. 145–146].
Р. Г. Кузеев изучал киргизов и казахов еще во время обучения в аспирантуре Института этнографии АН СССР в составе Памиро-Ферганского отряда в Киргизской ССР в 1952 г. Под руководством С. М. Абрамзона и других опытных наставников он собирал материал по вопросам социально-экономических, родоплеменных отношений в киргизском ауле, попутно выявляя общность киргизов и казахов с башкирами. Объездив несколько селений, Р. Г. Кузеев пишет об одинаковых формах родоплеменной организации из ряда семейно-родственных групп, которая определяется кочевым бытом [2, с. 19]. В материальной культуре находит много различий – в типах хозяйствования, построек, похоронном обряде, который Р. Г. Кузеев имел возможность наблюдать у киргизов. Большой интерес он проявил к киргизскому фольклору. При встрече со знатоком генеалогии и сказителем он попросил исполнить раздел киргизского эпоса «Манас», затем незабываемые впечатления отразил в виде зарисовки. С целью показать незаурядный литературный талант Р. Г. Кузеева приведем лишь несколько строк: «“Манас” бурлит в его губах, нет, не губах, а в душе, сердце его. Я представляю: сотни лет назад, голые скалы подставляют свои груды навстречу ветру, ледяные брызги горной реки тщетно точат гранит горы, высоко в небе парит беркут, острым глазом своим, высматривая добычу. Над всем этим грустная, но смелая, протяжная, но широкая и мужественная песнь киргиза о своей родине, любимом народе своем. Это Семетей возвращается на родину из Бухары, чтобы начать великие творения, которые народ красивым стихом воспел в “Манасе”. Ну, как не любить такой народ?» [2, с. 20].
Обсуждение
В 2020 г. исполняется 15 лет со дня смерти Р. Г. Кузеева. Его ученики и коллеги пытаются найти все полевые дневники, отдельно – полевые записи многочисленных экспедиций, а также рукописи неизданных монографий, в том числе о тамгах, циклы лекций, которые он блестяще читал студентам, другие материалы для дальнейшего обнародования. К сожалению, в личном фонде Р. Г. Кузеева, хранящемся в Научном архиве УФИЦ РАН, пока многого нет. Но есть полевые дневники, которые дают возможность проследить становление идей ученого, разнообразие талантов (организатор крупных экспедиций для изучения декоративно-прикладного искусства башкир при участии московских ученых в 1957–1958 гг., писатель, художник, зафиксировавший особенности орнаментов, планы селений, конструкцию печей и т. д.). Полевые дневники представляют уникальные, в большинстве случаев неопубликованные материалы. Фольклорные тексты могли бы дополнить своды башкирского фольклора. При этом недопустимы вольная трактовка составителей и редактирование сюжетов, как это позволялось в прошлом. Видится перспективной и актуальной публикация полевых материалов этнографов разных регионов России. Эти первоисточники могут внести весомый вклад в изучение этнокультурных процессов в Евразии.
Заключение
Полевые дневники Р. Г. Кузеева содержат устные исторические рассказы, предания и легенды, другие фольклорные жанры, зафиксированные при сборе историко-этнографического сведений. Они характеризуют взаимоотношения башкир с русскими, татарами, чувашами, марийцами, мордвой, казахами, киргизами и другими народами. Фольклорные материалы касаются прародины башкир и вхождения в состав Русского государства, формирования многочисленных башкирских родов и племен с включением представителей других этносов, сложения полиэтнического состава региона, а также земельных, хозяйственных и этнокультурных контактов, брачных отношений, влияния башкир на ход исламизации «языческих» народов.
Наличие родовых подразделений башкир, где этнонимы показывают на иноэтнический компонент, в легендах и преданиях объясняется двумя основными причинами. Либо башкиры находят брошенного ребенка и воспитывают как родного, либо возникают межэтнические браки. Согласно устным рассказам, также случается, что основателем селения становился не башкир, но затем происходила башкиризация населения. В любом случае фольклорные записи показывают толерантное отношение к другим народам, что привело к формированию и развитию Башкортостана как многонационального региона, где народы живут в добрососедстве.
Список литературы "Полевые дневники" Р. Г. Кузеева 1952-1958 гг. о башкирах в межэтнических взаимодействиях
- Башкирское народное творчество. Т. 2: Предания и легенды / сост., автор вступ. ст., комм. Ф. А. Надршина. - Уфа: Башкирское книжное издательство, 1987. - 573 с.
- Документы и материалы по истории и этнографии народов Южного Урала. Вып. 3: Полевые дневники Р. Г. Кузеева 1952-1958 гг. / сост., вступ. ст. И. Г. Петрова; отв. ред. Ф. Г. Галиева. - Уфа: ООО "Первая типография", 2019. - 252 с.
- Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. - М.: Наука, 1992. - 347 с.
- Кузеев Р. Г. Очерки исторической этнографии башкир. Ч. 1: Родоплеменные организации башкир в XVII-XVIII вв. - Уфа: Башкирское книжное издательство, 1957. - 184 с.
- Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. - М.: Наука, 1974. - 571 с.
- Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов: в 7 т. - Уфа: Китап, 2015-2016.