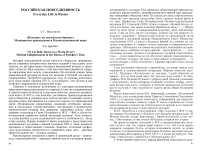«Полежать на теплой печи брюхом»: медицинское просвещение в России пушкинской поры
Автор: Ипполитов Сергей Сергеевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская повседневность
Статья в выпуске: 74, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории медицинского просвещения в Российской империи в первой половине XIX в. На основе архивных документов и различных опубликованных источников исследуется правительственная политика в области медицинского просвещения, болезни и их лечение как составная часть повседневной жизни обывателя пушкинской эпохи, суеверия и обычаи в лечении болезней, деятельность профессиональных врачей и знахарей в восприятии населения. Автор приходит к выводу, что, несмотря на суеверные истолкования болезни и понимание способов ее лечения, которые в XIX в. часто появлялись на страницах специализированных изданий, медицинское просвещение набирало силу и постепенно проникало в сознание обывателей Российской империи. Охватившие страну эпидемии холеры способствовали пробуждению интереса к профилактике заболеваний и охране здоровья. Постепенно разумные идеи и достижения современной медицины в области гигиены и санитарии, а также здорового образа жизни, в понимании современников первой половины XIX в., проникали в среду образованного и имущего класса. Отголоски этих знаний достигали и крестьянской среды. Целенаправленная правительственная политика по пропаганде современных медицинских взглядов и рекомендаций, безусловно, играла в этом процессе свою положительную роль.
Здравоохранение, медицинское просвещение, министерство внутренних дел, эпидемия, холера, карантин, врач, знахарь, суеверие, а.с. пушкин
Короткий адрес: https://sciup.org/149141242
IDR: 149141242 | DOI: 10.54770/20729286_2022_4_84
Текст научной статьи «Полежать на теплой печи брюхом»: медицинское просвещение в России пушкинской поры
“То Lie Belly Down on a Warm Oven”: Medical Enlightenment in the Russia of Pushkin’s Time
История повседневной жизни простого обывателя, прорвавшаяся на страницы авторитетных научных изданий в последние десятилетия, не зря продолжает вызывать неизменный интерес и тревожить читателя. Ведь именно в этой простой повседневности сокрыта связующая нить между поколениями, без которой единая ткань национальной истории не была бы цельной и близкой для нашего современника. Попробуем воскресить одну из страниц повседневного быта наших предков XIX в., и посмотреть, чем болели и как лечились современники пушкинской поры.
Высокомерное отношение к врачу в дворянской среде - занимается «черной работой» - занимало прочное место в сознании приви- легированного сословия. Под прицелом общественной критики находились корыстолюбие, непрофессионализм врачей при завышенных ожиданиях общества к ним. По свидетельствам современников, общество того времени неспособно было оценить знания врача и его труд. Профессор Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии И.Т. Спасский (1838 г.) писал о врачах: «Всякий об них судит и тем более, чем менее понимает Врачебную науку <.. .> [Врач] часто за свои труды и пожертвования встречает лишь неблагодарность. Едва ли есть другое состояние, которое бы так зависело от людских суждений»2. Генерал-штаб-доктор по гражданской части А. Крейтон в докладной записке Медицинскому совету Министерства полиции (1811 г.) писал о бедности врачей, что доводит их «до худого поведения» и «лишает тотчас уважения и доверенности сограждан». «Нынешнее состояние медицинских чиновников по гражданской части, особливо уездных врачей, - писал Крейтон, - ... есть состояние скучное, трудное и соединенное с великой ответственностью. ... Если правительство не обеспечит врачей гражданской части, особливо уездных, честным и пристойным содержанием ... то нельзя ожидать, чтобы попечение о здравии народном было всегда успешным»3.
Тема отношения общества к врачебному сословию нашла свое отражение в художественной литературе. Широко известны строки А.С. Пушкина: «Я ускользнул от эскулапа, / худой, обритый, но живой; / Его мучительная лапа / Не тяготеет надо мной»4. В «биографии» И.П. Белкина Пушкин с добродушной иронией упоминает о «неусыпных», но безуспешных стараниях уездного лекаря, «человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного» спасти жизнь Ивана Петровича Белкина5.
Менее известный автор В.Н. Нарежный в романе «Российский Жильблаз, или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1812 г.) остроумно описал консилиум, собравшийся для определения тактики лечения главного героя. В тексте отражены не только представления о невежестве и бесполезности врачей, но и стереотипы восприятия русских и иностранных медиков6.
Во время холерных эпидемий в XIX в. распространялись нелепые слухи о том, что «врачи морят народ» и т.п. Эти слухи провоцировали холерные бунты, которые вспыхивали вплоть до конца столетия, и сопровождались разорением больниц, насилием над медицинскими работниками: в 1830-1831 гг. в Санкт-Петербурге, Тамбове, Севастополе, Старой Руссе (Новгородская губ.)7.
С точки зрения «простого» народа врачебная деятельность всту- пала в противоречие с православной верой, традиционными моральными ценностями. В начале XIX в. иностранцы (стало быть, еретики!) численно преобладали в профессиональной медицинской среде: 1807-1811 гг. в составе врачей, направляемых Министерством внутренних дел на службу в гражданские учреждения, иностранцев было в четыре раза больше, чем русских. Имеются многочисленные указания на то, что «простой» народ предпочитал «своих» знахарей. Крестьяне отказывались от рациональной медицинской помощи, в том числе и от профессионального родовспоможения. На рубеже XVIII-XIX вв. ярославский врач доктор медицины М.И. Багрянский констатировал: «По причине непривычки, помощи у врачей больные совсем мешкали»8.
Отношение к врачу и к медицине нашло отражение в народной культуре, в частности в пословицах, собранных В.И. Далем во второй четверти XIX в.: «Не дал Бог здоровья - не даст и лекарь»; «Та душа не жива, что по лекарям пошла»; «Полечат, авось даст Бог и помрет» и т.п.9 Существовало сильное предубеждение населения против оспопрививания, решительно уклонялись от вакцинации старообрядцы.
Вместе с тем, польза медицинских просветительских изданий была очевидна: несмотря на порой абсурдные с точки зрения современной медицины рекомендации, медицинское и санитарное просвещение постепенно проникало в народную среду. «Руководства к повивальному искусству»10, «Наставления городским и деревенским жителям в пользовании себя мылом от различных болезней»11, «Краткое, но достаточное наставление, как утопших, когда еще искра жизни несовершенно угасла, паки оживлять»12, «Способы и наставления, по которым зараженные французской болезнью поселяне и прочие старанием своих помещиков и управителей сами собой вылечиваться и от оной болезни предохранять себя могут»13 - эти и множество подобных медицинских пособий, без сомнения, сыграли свою роль в деле медицинского просвещения народа.
Уникальным источником для изучения медицинских предпочтений и врачебных обычаев являются хозяйственные книги дворянских имений, где отражались закупки лекарственных препаратов как для нужд хозяев, так и для оказания помощи дворовым и крепостным. К источникам такого рода относится и Книга расходов на хозяйство имения Полотняный Завод, принадлежавшего роду Гончаровых, и хранящаяся ныне в Государственном архиве древних актов.
Особое место среди заболеваний, оказывавших серьезное влияние на российское общество XIX века, занимала холера, эпидемии которой свирепствовали не менее пяти раз за столетие: в 1817-1823 гг; 1826-1837 гг; 1846-1862 гг; 1864-1872 гг. и 1883-1896 гг.
Главными причинами, благоприятствовавшими распространению заболеваний, были, безусловно, социально-экономические:
голод, нищета, несоблюдение элементарных гигиенических и санитарных правил. Отмечалось исследователями и отсутствие санитарного законодательства, неразвитость сети необходимых лечебных и санитарных учреждений.14 Однако отсутствие элементарных санитарных и гигиенических знаний; неразвитость системы медицинского просвещения в стране являлись ничуть не меньшей опасностью, которая влекла за собой стремительное распространение инфекционных заболеваний.
Понимание этой опасности постепенно приходило в правящее сословие, заставляя предпринимать усилия для санитарного просвещения народа, в подавляющей своей массе не имевшего возможности в этот период пользоваться достижениями современной медицины и не доверявшего рациональной медицине, не имевшего санитарно-гигиенических навыков.
Плоды медицинской мысли постепенно начинали достигать «простого народа» - правительство нередко обращалось к подданным с «Наставлениями простому народу», призванными в периоды массовых эпидемий внедрить в повседневный быт элементарные понятия о предохранении от болезней и гигиенические навыки. При этом рассылка правительственных Наставлений осуществлялась через аппарат губернаторов по всем находящимся на вверенной им территории помещикам, в чьи обязанности входило ознакомление крестьян с содержавшимися в наставлениях медицинскими рекомендациями.
Вспомним, хотя бы, знаменитую пушкинскую «проповедь» бол-динским крестьянам, дошедшую до нас в пересказе известного писателя П.Д. Боборыкина: «Нижегородская губернаторша А.П. Бутурлина спрашивала Пушкина о его пребывании в Болдине: “Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич? Скучали?” - “Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди”. - “Проповеди?” - “Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их: мол, холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!”»15.
Современники восприняли слова поэта как шутку, но здесь Пушкин почти цитирует строки Наставления, где, среди прочего, действительно пропагандировалось воздержание в качестве профилактической меры к распространению холеры: «Чтобы жили воздержанно и смирно. Потому что холера пристает больше к людям пьяным, вздорным, неопрятным, которые привыкли бездельничать и свое здоровье портить. В низовых городах в Астрахани, Саратове, на Дону, в Пензе, Нижнем, Москве и в других местах такие худа-го разбора люди почитай все занемогли холерою и примерли, а те, которые остепенились и стали жить смирно, трезво, чист, опрятно, как следует добрым людям и христианам, все с божией помощью от злой болезни избавились»16.
Упоминал эту «проповедь» и сам А.С. Пушкин в переписке с П.А. Плетневым 29 сентября 1830 г. В ее основу, скорее всего, было положено именно такое «Наставление»: «Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка»17.
Пушкин в своей излюбленной в переписке с друзьями ироничной манере на самом деле рассказывает об исполненном им весьма важном государственном долге: информировании своих крестьян о надвигающейся эпидемии и средствах ее профилактики. Как законопослушный помещик, под чьим «отеческим оком» находились крепостные крестьяне, он просто обязан был донести до них содержание правительственных циркуляров. Разумеется, современные историки и литераторы много отдали бы за то, чтобы прочитать хотя бы конспект пушкинской «проповеди» крестьянам, однако неоспоримым является тот факт, что основой «проповеди» стало Наставление, полученное осенью 1830 г. и доведенное поэтом до «аудитории» в свойственной ему ироничной манере.
Автором оригинального Наставления, одна из многочисленных копий которого сохранилась в фонде Полотняного Завода в РГАДА, очевидно, является Матвей Яковлевич Мудров (1775 - 1831), врач, профессор Московского университета и популяризатор медицинского знания, внесший значительный вклад в народное просвещение. В 1830 г. М.Я. Мудров был назначен членом Центральной комиссии по борьбе с холерой. На этом посту он и скончался, заразившись при исполнении своих служебных обязанностей. Его перу принадлежат несколько наставлений о борьбе с холерой, эпидемия которой разразилась в Российской империи в 1830-1831 гг.18
Подобное Наставление было получено в самом начале 1831 г. и дедом Н.Н. Гончаровой, сопроводительное письмо к которому содержало недвусмысленное указание на необходимость его обязательного исполнения: «Милостивый государь Афанасий Николаевич, при сём имею честь препроводить к вашему высокоблагородию в копии отношение, полученное мною от господина медынского дворянского предводителя Челесова прошлого генваря месяца от 28 числа за № 35, для должного сведения и непременного исполнения. Согласно предписанию его сиятельства г. калужского гражданского губернатора и кавалера, покорнейше прошу вас, милостивый государь, сделать о сём ваше распоряжение. С истинным почтением и преданностью имею честь пребыть вам, милостивый государь, покорнейший слуга Михайло Трофимов. 6 февраля 1831 г.»19.
В обязанность каждого законопослушного помещика входило ознакомление крестьян с рекомендациями этого правительственного документа. Написанное «простым», псевдонародным языком, Наставление было предназначено для широкой огласки в крестьянской и разночинной среде. Оно не содержало упоминаний и рекомендаций сложных химических веществ, потребных для лечения, или про- фессиональных медицинских процедур. Напротив, этот документ являлся в полной мере «просветительским», а не медицинским: он содержал перечень бытовавших в середине XIX в. представлений о гигиене, вспомоществовании больным и лечебных средствах, имевших широкое хождение в быту того периода.
Если сравнить перечень рекомендуемых Наставлением снадобий и лекарств с типичной «аптечкой», бывшей практически в каждой дворянской усадьбе, то можно убедиться, что этот список почти идентичен: и холеру, и грудную жабу, и «обмирание от стужи» принято было лечить одними и теми же снадобьями.
Вот какие лекарственные средства закупались «клюшником» имения Полотняный Завод, принадлежавшего деду Н.Н. Гончаровой, в Калуге в начале 1830-х гг: «Вина простого, серы, скипидару, сало свиное, декохт, бузинный цвет, ромашка, купорос белый, камфора, сок солодковый, нашатырь, мята английская, арканум дупли-катум, гумозовый пластырь, хинная соль, магнезия, еловая смола, винный белый камень, лимонная соль, купорос синий, мазь бабко-вая, мазь алтейновая, шалфей, тинтура опия, рвотный камень, розмарин, бодяга красная, масло мятное, воск желтый, масло деревянное, горчица»20.
А вот перечень снадобий, рекомендованных Наставлением для борьбы с холерой: «Надобно припасти душистых трав и других сна-добьев, например, аглицкой и русской красной мяты, липового и бузинного цвету, ромашки, корню ирнаго [Корневища аира. - С.И.], булдырьянного [Валериана. - С.И.], маковых головок белого мака, стручкового перцу, горчицы, хрену, бадяги, льняного семени, ашной и овсяной крупы, крахмалу, меду, уксусу, пенного вина и т.п.»21.
Нетрудно заметить, что наиболее популярными медицинскими средствами в ту эпоху были производные лекарственных растений, которые вряд ли могли оказывать профилактическое действие к лечению холеры, однако обладали несомненными тонизирующими и укрепляющими свойствами.
Однако их доступность и наличие практически в каждой дворянской усадьбе не могли застраховать современников от мошенников, которые уже в начале XIX в. активно занимались фальсификацией лекарственных средств. Российский врач ВТ. Ремер отмечал в 1818 г, что «особенные причины подделывания лекарств суть следующие. .. Редкость и дороговизна лекарств, через что продающий оные получает при удачном обмане весьма знатную прибыль»22.
Дело помощи страждущим существовало в ту эпоху в двух «ипостасях»: собственно медицина, к занятию которой были допущены только люди, получившие медицинское образование, (то есть профессиональная медицина) и огромное количество «народных целителей», которые в своей деятельности руководствовались исключительно верованиями и опытом, передаваемыми из поколения в поколение.
Попытки введения преподавания медицинских дисциплин в духовных академиях и семинариях начали предприниматься с 1802 г, когда по указу Александра I преподавание медицинских дисциплин было включено в программу обучения духовных училищ. Причиной появления «класса медицины» в духовных училищах послужило бедственное положение крестьян, связанное с практически полной невозможностью получения ими медицинской помощи. Инициатором введения преподавания медицины в духовных училищах выступила Русская православная церковь. Курс медицины, читавшийся в духовных училищах, включал в себя анатомию, физиологию, терапию, ботанику, фармакологию, а также оказание неотложной медицинской помощи. Однако из-за нехватки преподавателей во многих семинариях курс медицины так и не был введен. В итоге в 1808 г. указ был отменен. Тем не менее в последующем, на протяжении XIX-XX вв., попытки наладить подготовку священнослужителей, способных оказывать медицинскую помощь, и тем способствовать распространению медицинского просвещения предпринимались неоднократно23.
Но и в профессиональной среде российских медиков и бюрократического аппарата, в обязанности которого входила забота о народном здравии в условиях эпидемий, в середине XIX в. не существовало единой позиции по профилактике и купированию массовых заболеваний. Так, с согласия Николая I управляющий Министерством внутренних дел В.С. Ланской издал циркуляр от 23 августа 1827 г. об отмене карантинов, указав, что холера не заразна. Медицинский совет - коллегиальный совещательный орган при Министерстве внутренних дел - на протяжении 1830 г. трижды менял свою точку зрения в зависимости от позиций руководства министерства24.
Тем не менее образованные, профессиональные медики очень медленно увеличивались числом, росла их роль в российском здравоохранении. Прежде всего это фельдшеры и повивальные бабки (то есть акушерки, не повитухи). В деревне повивальных бабок не было до появления земской медицины. По штатному расписанию в первой половине XIX в. на уезд полагалось две бабки, и тех не хватало. В Ярославской губернии, например, вакансии бабок были заполнены только к середине века по причине неразвитости системы подготовки кадров. Особым доверием простонародья они не пользовались: для крестьянок и мещанок они были «чужими» - барынями, да вдобавок, что встречалось нередко, с немецкой фамилией25. Фельдшерские школы начали открываться с 1829 г, и в доземский период фельдшера чаще можно было встретить в казенных селениях или в помещичьей усадьбе26.
Острый дефицит образованных медиков восполнялся знахарями и шарлатанами, деятельность которых зачастую приводила к трагическим последствиям. Чего стоило, хотя бы, стойкое поверье, согласно которому роженица во время родов должна была находиться 90
на очень грязном белье, что, по верованиям, должно было снизить кровопотерю: «Простой народ ложно мечтает, будто почаще переменяемое чистое белье еще более умножает течение и очищение крови, в великом изобилии истекающей после родов... В уважение сего некоторые повивальные бабки нарочно велят родильницам носить замаранную рубаху, и сверх того ложиться на весьма замаранных простынях»27. Можно лишь догадываться, сколько детских и женских жизней было потеряно при соблюдении этих рекомендаций. Несмотря на то, что принципы асептики были открыты позднее, в мае 1847 г, когда венгерский врач-акушер Филипп Земмельвейс впервые обязал персонал больницы перед манипуляциями с беременными и роженицами мыть руки в растворе хлорной извести, врачи того времени понимали опасность, проистекавшую от таких заблуждений: «Сия нечистота может породить начатки гнилости, чему роженицы часто подвержены бывают, и произвесть от них разные кожные болезни, лихорадки, огневицы...»28.
Вот, например, как в 1841 г. предлагал лечить боль в животе любой этиологии «Сельский домашний лечебник, или Врачебные наставления для государственных крестьян»: «В легчайших случаях достаточно полежать на теплой печи брюхом, или же в летнее время на брюхо положить теплую припарку из сенной трухи, отваренной наперед кипятком, или привязать разрезанный теплый хлеб к животу; а в зимнее время прикладывать нагретый овес или золу, и пить чай из липовых цветов, толченого льняного семени»30.
Особенно шокирующими выглядели рекомендации по спасению замерзающих, для которых рекомендовалось, прежде всего, «обратить внимание на хрупкость и ломкость членов». Замерзающего советовалось «перенести в совершенно холодное здание, снять с него, или лучше спороть и удалить платье». Затем замерзшего человека необходимо было положить на толстый слой снега, и, за исключением рта и ноздрей, покрыть «со всех сторон толстым слоем снега, плотно прижимаемым к телу». Растаявший снег требовалось заменять свежим, «и в этой снежной постели держать обмершего до тех пор, пока не наступит гибкость и некоторая теплота членов. При недостатке снега должно обмершего покрыть со всех сторон простынями, намоченными в холодной воде со льдом, и этою же водою часто поливать его. Как скоро члены одеревенелые получили уже некоторую гибкость, тогда все тело обмершего обсушивается холодными полотенцами и кладется в совершенно холодную постель. Вместе с сим, ставится клистир из воды и льняного масла, а на предсердие пускается со значительной высоты холодная вода по каплям».31 Какое количество «обмирающих от стужи» было спасено таким способом, источник не сообщает.
Примерно в этом же направлении развивали «медицинскую мысль» и ряд других авторов популярных медицинских справочников того периода. Так, по мнению П. Енгалычева, автора домашнего лечебника 1825 г, причины мужского облысения были сокрыты «в частой потери семени в любовных утехах и большом напряжении ума». Лечить «плешивость» рекомендовалось жженой поваренной 92
солью с пудрою32.
Автор «Врачебно-народного наставления для духовных училищ» С.Ф. Хотовицкий настоятельно советовал «обмершего от удара молнией» человека обложить свежевырытой землей, для чего вырыть в земле плоско-продолговатую яму, «в которую обмерший кладется на два часа и более, а между тем лицо его спрыскивается уксусом... Если и это средство не пособило, то, до прибытия образованного врача, надобно подносить к носу свежеистертый хрен, накапывать и намазывать на язык хлебное вино, щекотать полость зева и носа бородкою пера, ставить клистиры из воды с поваренной солью или огуречным рассолом»33.
-
* * *
Несмотря на суеверные истолкования болезни и понимание способов ее лечения, которые в XIX в. часто появлялись на страницах специализированных изданий, медицинское просвещение набирало силу и постепенно проникало в сознание обывателей Российской империи. Охватившие страну эпидемии холеры способствовали пробуждению интереса к профилактике заболеваний и охране здоровья.
Постепенно здравые идеи и достижения современной медицины в области гигиены и санитарии; здорового образа жизни, в понимании современников первой половины XIX в., проникали в среду образованного и имущего класса. Отголоски этих знаний достигали и крестьянской среды. Целенаправленная правительственная политика по пропаганде современных медицинских взглядов и рекомендаций, безусловно, играла свою положительную роль.
Список литературы «Полежать на теплой печи брюхом»: медицинское просвещение в России пушкинской поры
- Egorysheva, I.V. Gosudarstvennaya politika v svyazi s pervymi epidemiyami kholery v Rossii (1823, 1829 - 1831) [State Policy during the First Cholera Epidemic in Russia (1823, 1829 - 1831).]. Byulleten Natsionalnogo nauchno-issledovatelskogo instituta obshchestvennogo zdorovya imeni N.A. Semashko, 2022, no. 1-2, pp. 160-165. (In Russian).
- Oleynikova, V.S. Pervaya popytka vvedeniya prepodavaniya meditsinskikh distsiplin v dukhovnykh akademiyakh i seminariyakh [The First Attempt of Introducing of Teaching of Medical Disciplines in Theological Academies and Seminaries.]. Problemy sotsialnoy gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny, 2016, vol. 24, no. 5, pp. 317-320. (In Russian).
- Pushkareva, N.L. and Mitsyuk, N.A. Povivalnyye babki v istorii meditsiny Rossii (XVIII - ser. XIX v.) [Midwives in the History of Medicine in Russia. 18th - Mid. 19th Centuries.).]. Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii, 2018, vol. 17, no. 1, pp. 179-189. (In Russian).
- Smirnova, E.M. Feldsherskiy personal v dorevolyutsionnoy Rossii (po materialam Yaroslavskoy gubernii) [Paramedics Staff in Pre-Revolutionary Russia (Based on the Materials of Yaroslavl Province).]. European Social Science Journal, 2014, no. 4-2 (43), pp. 365-371. (In Russian).
- Smirnova, E.M. Materialnoe obespechenie grazhdanskikh Vrachey rossiyskoy provintsii v XIX - nachale XX veka [The Material Provisioning of Civilian Doctors of Provincial Russia in the 19th - Early 20th Centuries.]. Vrach, 2014, no. 11, pp. 84-87. (In Russian).
- Smirnova, E.M. Sovremennaya istoricheskaya literatura o razvitii meditsiny i zdravookhraneniya v Rossiyskoy imperii [Modern Historical Literature on the Development of Medicine and Healthcare in the Russian Empire.]. Vestnik RGGU. Seriya: Istoriya. Filologiya. Kulturologiya. Vostokovedenie, 2013, no. 10 (111), pp. 198-213. (In Russian).
- Smirnova, E.M. Zhenshchina v meditsine: ternistyy put k vrachebnomu zvaniyu [The Woman in Medicine: A Thorny Path into the Medical Ranks.]. Istoriya v podrobnostyakh, 2012, no. 11 (29), pp. 52-59. (In Russian).
- Tarasova, I.A. Deyatelnost Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy imperii po organizatsii protivoepidemicheskikh meropriyatiy v pervoy polovine XIX veka [The Activities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire for the Organization of Anti-Epidemic Measures in the First Half of the 19th Century.]. Probely v rossiyskom zakonodatelstve, 2012, no. 5, pp. 179-183. (In Russian). (Monographs).
- Smirnova, E.M. Vrachevanie i miloserdie: Zdravookhranenie Yaroslavskoy gubernii v XVIII - seredine XIX vv. [Doctoring and Mercy: Healthcare in Yaroslavl Province in the 18th - mid-19th Centuries.]. Yaroslavl, 2011, 175 p. (In Russian).