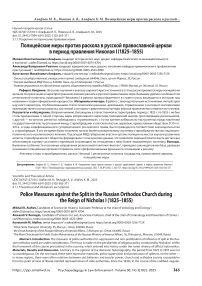Полицейские меры против раскола в русской православной церкви в период правления Николая I (1825–1855)
Автор: Алафьев М.К., Ревягин А.В., Алафьев К.М.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Общетеоретические и отраслевые проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 3 (102), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. На основе изучения и анализа широкого круга источников в статье рассматриваются меры полицейских органов по пресечению и нераспространению влияния раскола в русском православном мире. Внимание уделено особенностям религиозной политики, проводимой Николаем I в рамках провозглашенного в стране курса, вошедшего в историю под названием «теория официальной народности». Материалы и методы. В работе с законодательными источниками, литературой научного характера, опубликованными статистическими данными, архивными, справочными и интернет-материалами преимущественно использовались системный и историко-сравнительный методы анализа привлеченного перечня источников. Результаты и обсуждение. Вопреки мнению, бытующему в отечественной историографии, период с 1825 г. по 1855 г. не был столь однозначным. С одной стороны, меры репрессивного характера, полицейский надзор, преследование раскольников, с другой — во многих регионах наблюдались «приемлемые», с точки зрения либерально настроенных представителей государственной власти, отношения между старообрядцами и светской властью, церковью, православным обществом. В 30-х гг. XIX в., в ходе кодификационного «упорядочения» российского права, было приведено в соответствие законодательство о старообрядцах. В это же время было положено начало более основательному изучению старообрядчества как социально- политического и религиозного явления. Под эгидой МВД губернские власти и органы полиции на местах изучали различные аспекты старообрядческого общества, формировали статистические данные, что позволило коронной власти иметь достаточно объективную картину состояния староверия и проводить по отношению к нему более «выверенную» политику. Выводы. Выявлены особенности и основные направления религиозной политики Николая I, приведена законодательная база, дававшая основания полицейским органам отправлять свои профессиональные функции по отношению к расколу.
Старообрядчество, раскол, Николай I, религиозная политика государства, православная церковь, полицейские меры
Короткий адрес: https://sciup.org/149149245
IDR: 149149245 | УДК: 347(47+57)18 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-3102-365-371
Текст научной статьи Полицейские меры против раскола в русской православной церкви в период правления Николая I (1825–1855)
Мikhail K. Аlafiev, Candidate of Science (in History), Associate-Professor at the chair of Valeology and Ecology 1; ;
Аlexandr V. Reviagin, Candidate of Science (in Law), Associate-Professor, chief of the chair of Criminology and Prevention of Crimes 2; ;
Konstantin М. Аlafiev, senior inspector 3; ; Х
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Более чем двухвековая история «никоновской» реформы свидетельствует о диаметрально противоположных подходах в ее разрешении. Конфессиональная политика, ее характер и методы реализации могли не только диктоваться объективной государственной необходимостью, но и зависеть от воздействия субъективных воззрений самодержца как главного охранителя незыблемости русского православия. Период правления Николая I, его понимание раскольнического явления в православии стали продолжением его династических предшественников — Алексея Михайловича, Петра Алексеевича, расценивающих старообрядчество как «отступничество от православной веры» [1]. Ужесточение конфессиональной политики второй четверти ХIХ в. вызывалось, как полагал Николай I, объективной реальностью последствий не только легализации раскольников-старообрядцев, но и роста «сект мистического христоверия» — скопцов, хлыстов, духоборов, представителей других толков.
В качестве предмета данного исследования выступают меры государственной политики в отношении старообрядцев-раскольников в годы правления Николая I. Деятельность МВД, органов полиции на местах рассматривается в качестве механизма реализации предпринимаемых государством мер. Исследуются законодательная база, компетенции и правовые основания деятельности органов полиции по ограничению распространения влияния раскольничества.
Цель — особенности реализуемого Николаем I конфессионального курса Российского государства в рамках провозглашенной им «теории официальной народности»; анализ функционирования МВД, органов полиции на местах по противодействию распространения раскола.
Материалы и методы
В процессе работы с источниками законодательного характера, научной литературой, опубликованной статистической информацией, архивными, справочными и интернет-материалами применялись как системный, так и историко-сравнительный методы анализа. Данные методы поспособствовали комплексно и объективно рассмотреть предмет изучения, обнаружить особенности конфессиональной политики Николая I, компетенции и правовые основы деятельности полицейских органов Российской империи по пресечению и нераспространению влияния раскола.
Результаты и обсуждение
Период царствования Николая I, методы и результаты проводимого им в стране и обществе политического курса занимали и продолжают притягивать внимание исследователей многих направлений гуманитарной сферы. Не стала исключением вероисповедная политика государства против раскольников. К фундаментальным исследованиям по данной проблематике историко-правового характера XIX–XX вв. следует отнести работы С. П. Мельгунова, Г. П. Добротина, Н. И. Ивановского [2–4]. Период конца 1990-х — 2000-х гг. характеризуется появлением ряда исследований, посвященных анализу государственной политики в отношении раскола, реализуемой в отдельных регионах и на окраинах Российского государства. Исследователи И. Р. Латыпов, С. В. Васильева, В. А. Рябцева изучали этапы и процессы заселения и дальнейшего освоения старообрядцами таких регионов, как Урал, Западная Сибирь, Забайкалье [5–7]. Значительная часть исследований С. А. Лукьянова, Ю. В. Сидоркина, И. В. Гурлева посвящена рассмотрению деятельности российской полиции в реализации вероисповедной политики, проводимой коронной властью [8–10]. Несомненно, введение в научный оборот новых источников по данной проблематике, в целом изучение роли отдельных институтов государственной власти в реализации вероисповедной политики, одним из которых является российская полиция, обосновывает значимость изучения рассматриваемой темы.
Тридцатилетнее правление Николая I вошло в отечественную историографию как время наивысшего расцвета самодержавной власти. Развитие общественнополитической жизни российского общества происходит в русле национальных традиций, в основе которых «православие, самодержавие, народность», являющие собой национальные скрепы, незыблемость монаршей власти. Политика «теории официальной народности», таким образом, закрепляет за «официальным» православием господствующее положение в обществе. Император исходил из того, что лучшим лекарством от революционных настроений, брожений «декабризмом» в самой России, от проникновения западных якобинских идей может послужить обращение народа к истинному православию. По мнению российского мыслителя М. А. Полиевктова, борясь за чистоту православия, государь стремился сохранить основы политического строя, «создать путем законодательных… и административных мероприятий преобладающее положение для православного исповедания» [11, с. 233].
Как известно, разделение некогда единой церкви на старообрядцев (староверов) и новоoбрядцев (никoниан) стало следствием проведенной патриархом Никоном церковной реформы XVII в. С начала раскола официальная власть, одобрившая реформу церкви, применяет к староверам различные меры воздействия, включая репрессивные. К противникам никонианства власть применяла нормы Соборного уложения 1649 г., предусматривающие смертную казнь за преступления против православия и самой церкви. Физическое преследование старообрядцев, изъятие имущества, высылка с мест проживания нередко заканчивались единичными и массовыми самосожжениями верующих. Одной из мер спасения от преследования со стороны власти и церкви стало бегство староверов в «пустыни», необжитые окраины, глухие места Сибири, Яика и Дона, Поморья и Заволжья.
Происшедшее в жизни православной церкви коронная власть и церковь объявили расколом, а старообрядцев вплоть до революции 1905 г. официально нарекли раскольниками.
Со времен принятия православия конфессиональная политика, методы ее проведения коронной властью диктовались складывающимися объективными условиями внутренних и внешних факторов, особенностями развития внутриконфессиональной жизни в самом русском мире. Исходя из имеющихся обстоятельств, отношение, характер и механизмы проводимой политики к старообрядцам также менялись, что, несомненно, накладывало отпечаток на деятельность правоохранительных органов страны.
К исполнительным органам созданного в 1826 г. III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (СЕИВК), высшего органа политической полиции Российской империи в правление Николая I, были отнесены организации, воинские силы Корпуса жандармов. Из пяти экспедиций III Отделения СЕИВК второй поручалось контролировать религиозные секты, проводить негласные следственные действия в среде старообрядцев, в целом осуществлять «действенные меры» по пресечению раскола. Начиная с 1819 г. делами об общинах старообрядцев занималось МВД, продолжившее играть основную роль и в правление Николая I. В 1826 г. коронная власть отдает приказ губернаторам вести статистический учет раскольников. Ежегодно к 1 января губернаторам вменялось предоставлять статистические отчеты о количестве староверов в III Отделение. В губернии, наибольшее сосредоточение скрывающихся раскольников, откомандировывались чиновники МВД для «изучения дел на местах».
В период с 1838 г. по 1852 г. работа с раскольниками значительно расширяется: помимо формирования статистических сведений, власть создает и губернские Совещательные комитеты, призванные «более досконально изучать раскол». Государственная власть осуществляет «всестороннее изучение старообрядчества» с разработкой мер противостояния с раскольническими группами.
С 1853 г. по 1855 г. на основе всестороннего изучения раскольничества государство проводит реализацию радикальных мер борьбы с этим явлением.
Таким образом, обозначенные политические вехи к носителям старой веры свидетельствуют об ужесточении кардинально изменившегося внутриполитического курса России второй четверти XIX в. Так, после завершения политического процесса над организаторами декабрьского мятежа в апреле 1826 г. в МВД для руководства к действию поступает рескрипт № 277 «Об истребовании от чиновников обязательств о не состоянии в тайных обществах», по которому монаршей волей запрещалось наличие в империи каких-либо тайных обществ. Двумя месяцами позже этого же года начинает действовать закон № 403 «Устав о цензуре», ограничивающий влияние запрещенной в стране литературы, поступающей из Европы. В принятом двумя годами позже, уже обновленном «Уставе о цензуре» появились дополнительные статьи, запрещающие любые сочинения, подрывающие «основы русской православной веры» [12].
Расценивая проводимую политику своего предшественника к раскольникам чрезвычайно мягкой, монарх прекращает действие его узаконений, а сам начиная с 1830-х гг. проводит тактику наступления на лидеров и идеологов староверов, предписывает полиции отыскивать и уничтожать принадлежащие им скиты, монастыри, избы-молельни, прививая тем самым в сознании людей «нелегитимность» такого явления, как раскол. Сам факт принадлежности к расколу дает господствующей власти право лишать таковых прав гражданства, не признавать законность рождения их детей, запрещать действие раскольнических школ.
Политика ужесточения, применяемая к раскольникам, лично формулировалась и могла корректироваться Высочайшими повелениями монарха. В МВД «Собрания постановлений по части раскола» изобилуют множеством таких «повелений», имевших силу закона и применяемых полицией к исполнению. Так, в октябре 1830 г. Николай I повелевал прибывающих на поселение в Закавказье староверов не «скучивать в одном месте», а расселять малыми группами, «не составляя из них особой области». Заботясь о пресечении воздействия внешнего влияния на раскол, в сентябре 1834 г. царь предписал «не впускать в пределы государства» староверов-чужестранцев. В марте 1835 г. по повелению монарха закрываются училища для детей-подростков в Москве, так как среди преподавателей были раскольники. Резолюция гласила «исполнить с осторожностью и без насилия», детей, у которых есть родители, «раздать» на их попечение, а остальных надлежало определить в кантонисты.
Собрания постановлений содержат значительное число «повелений» непосредственно полицейским органам на местах. Например, в марте 1836 г. руководству Архангельской и Олонецкой губерний вменялось, чтобы их чиновники систематически посещали жилища староверов, обеспечивали неукоснительное исполнение ими законов по части раскола, а становому приставу Олонецкой губернии при Выгорецком старообрядческом центре надлежало нести службу при нем на постоянной основе 3. От полиции на местах монарх требовал усилить надзорные меры за староверами, обязывал отслеживать, чтобы проживающих среди православных раскольников не выдвигали в органы крестьянского самоуправления, не допускать, чтобы они выступали свидетелями в судебных процессах. Мерами разъяснительной работы требовал «возвращать» раскольников в лоно православия; не допускать, чтобы староверы «совращали заблудших» в свою веру, не крестили, не вступали в брак. Погребение раскольников согласно их обряду допускалось только для взрослых. Детей раскольников надлежало крестить по православному обряду. Крещеные «по православию» дети не должны были причисляться к старообрядцам. Монарх требовал установления строгих правил для обязательного посещения детьми церкви и соблюдения православных уставов 4. За преступления против веры в марте 1837 г. царь повелевал ссылать в Сибирь староверов Кавказа и Закавказья.
Внутриполитический курс потребовал некоторых изменений в работе государственного механизма управления. В целях усовершенствования его работы, повышения исполнительской ответственности как в центре, так и на местах Николай I утверждает ряд законов. Так, 3 июня 1837 г. был принят «Общий наказ гражданским губернаторам», в соответствии с которым гражданский губернатор наделялся большими правами и, реализуя свои должностные функции, становился подотчетен перед МВД, Сенатом и государем-императором. Особую значимость документ отводил проблемам безопасности в вверенных им губерниях, в связи с чем предписывал губернаторам, в частности, регулярно предоставлять информацию о положении дел по вопросу о раскольниках в МВД, III Отделение СЕИВ канцелярию. «Положение о порядке производства дел в губернских правлениях», принятое одновременно с Наказом, регламентировало действия губернских служащих с МВД и другими структурами коронной власти. Другим важным законом от 3 июня 1837 г. было «Положение о земской полиции», которое, как считал Николай I, организационно и кадрово должно укрепить МВД, а посредством повышения эффективности работы сельской полиции «будет обеспечиваться общественный порядок на селе». С вступлением в действие Положения уезд, являвшийся в полицейском отношении административной единицей, организационно подлежал делению на станы, главными в которых от МВД определялись становые приставы. Увеличение численности на селе становых приставов, призванных отвечать за «порядок и тишину» в своем стане, существенно расширяло спектр мер, применяемых в отношении раскольников 5.
В 1838 г. на основании очередного «повеления» монарха «Об открытии секретно-совещательных комитетов в губернских городах» до 1856 г. в стране постепенно было открыто 22 таких комитета.
Создаваемые комитеты, как усматривала верховная власть, должны были «на местах» стать координаторами принимаемых и реализуемых мер губернского и епархиального руководства в делах о расколе. В состав создаваемых комитетов по регламенту в обязательном порядке входили губернатор, епархиальный архиерей, начальник палаты государственных имуществ и представитель жандармского ведомства. Сам факт образования таких организаций, состоящих из столь высокопоставленных представителей губернской власти, может свидетельствовать о важности проводимой политики по расколу для самого государя и его окружения. Вскоре после кончины Николая I секретно-совещательные комитеты были ликвидированы. Продолжительность функционирования данных структур позволяет вести речь о том, что царь лично, до последних дней пребывания на троне руководил ходом борьбы со староверами, праведно выполняя, как он понимал, свой священный долг самодержца православного государства.
В МВД также создавались ведомственные комиссии, которые занимались систематизацией, обработкой получаемых разного рода документов с мест; ими готовились циркуляры, инструкции, распоряжения, адресованные губернским органам полиции, в целях успешной реализации государственной программы борьбы с расколом. Монаршей властью министр полицейского ведомства наделялся правом самоличного разрешения частных вопросов, относящихся к расколу 6.
Нормами права, регламентирующими функционирование полиции на местах, выступали кодифицированные законы о старообрядцах, вошедшие в «Полное собрание Законов Российской империи» (1830), «Свод законов Российской империи» (1832), подзаконные акты МВД, предписания министра внутренних дел, циркуляры губернаторов и др.
В принятом в августе 1845 г. «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года» второй раздел полностью состоял из норм, предусматривающих наказания за преступления против веры. Уложение содержало 58 статей, формулирующих различные аспекты преступлений против православия. Например, ст. 192 «Совращение из православия» предусматривала ссылку, клеймение, телесные наказания; ст. 206 «Раскольничество» определяла ссылку; ст. 210 «Насильственное распространение раскола…» — каторжные работы до 15 лет.
Важным направлением в действиях полицейских структур на местах против раскольников стал надзор за попами-старообрядцами, розыск беглых попов-проповедников, которые своими проповедями и распространяемой религиозной литературой способствовали «совращению» людей в раскол. Особенная канцелярия МВД «по секретной части» рассматривала дела о раскольнических священниках на основании имеющихся с мест донесений о беглых священниках, находящихся в разных местах при раскольнических молитвенных домах, церквях и часовнях. Так, в 1832 г. Омский земский исправник Чеусов докладывал на имя генерал-губернатора Западной Сибири об обнаружении в деревне Услагатской раскольнического священника Петра Андреева, прибывшего из Екатеринбурга, где он находился при старообрядческой церкви. При нем были найдены старообрядческие печатные и рукописные книги. Полиции на местах предписывалось «учинённых в преступлениях раскольнических священников высылать, если они не сделали уголовных преступлений, о чем губернаторы должны осведомляться у епархиальных архиереев» 7. Архивные документы изобилуют большим количеством дел, связанных с расколом, каждое из которых, в зависимости от «степени общественной опасности», могло находиться на контроле у губернатора, МВД, Святейшего Синода или самого Николая I 8.
Как уже отмечалось, с 1826 г. МВД установило для губернского начальства и полиции на местах правило ежегодных отчетов о количестве староверов, наличии у них молельных изб, храмов, другой касающейся раскольников информации. Между тем объективную картину о состоянии раскола в стране присылаемая из губерний информация составить не позволяла. Более того, МВД не имело возможности объективно разобраться в этом направлении даже по ряду российских губерний. Проанализировав свои ошибки, с 1842 г. МВД данную работу существенно конкретизировало, что позволило придать ей некий системный характер: губернии стали передавать в Особенную канцелярию МВД по секретной части Табели состояния старообрядцев. Такие отчеты содержали несколько обязательных граф, например: 1. «Состояло старообрядцев — мужского, женского пола (на начало отчетного года); 2. Убыло: 1) в православие, 2) умерло, выбыло; 3. Прибыло: 1) уклонившихся от православия, 2) вновь родившихся; 3. Осталось старообрядцев — мужского, женского пола» (на конец отчетного года) и др.
Приводимая в обязательном порядке в Табеле статистика отражала положение по расколу в каждом губернском городе или уезде и тем самым позволяла МВД видеть и свои, и их результаты работы за год. Например, по Табелю состояния старообрядцев в Тобольской губернии за 1842–1843 гг. констатировалось: «состояло старообрядцев обоего пола в городах — Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Омска, Тары — 1384 человека, в семи уездах — таковых насчитывалось 29 149 человек. Из числа староверов обращено в православие: из городских жителей — 1, из сельских — 186 человек; умерло в городах — 14, на селе — 182 человека». Графа «Прибыло» свидетельствует, что за счет «уклонившихся от православия» состав староверов увеличился на 231 человека, а число родившихся детей в семьях староверов составило 1145. На конец отчетного года всего по Тобольской губернии «осталось старообрядцев» обоего пола 31 768 человек, или 3,82% от всего состава населения 9.
Статистические данные, поступающие с мест в МВД, не отражали реальной картины относительно распространенности раскола в целом по стране. Официальные сведения в каждом конкретном случае преуменьшали или преувеличивали цифры распространенности староверов в народе. Так, при сопоставлении с информацией, полученной раньше, численность раскольников в Ярославской губернии составляла около 15 тыс. человек, а по данным в Табелях, чуть ли не половина жителей этой губернии в той или иной степени была подвержена влиянию раскола и различных сект. Аналогичные расхождения по цифрам отмечались по Вологодской, Черниговской, Костромской, Тамбовской, Саратовской и другим российским губерниям. Авторитетный исследователь истории полиции России Н. В. Варадинов по этому поводу отмечал, что гарантировать правильность приводимой статистики нельзя: «Цифры эти… не должно принимать за математические количества, но следует их считать только выражением большего или меньшего раскольнического населения, и никак не более» [12, с. 381, 382]. Исходя из этого, можно допустить, что в то время как официальные сведения о количестве староверов и сектантов в период с 1826 г. по 1855 г. говорили о 700–800 тыс., то, по подсчетам генерала Н. Н. Обручева, имевшего доступ к работе с секретными правительственными данными, «число это не могло быть менее 8 млн. человек» [13, с. 159–179].
Столь разительные расхождения в данных о числе староверов во многом объясняются тайным характером сбора информации, практиковавшимся в МВД с начала создания этого министерства. Как известно, в годы царствования Александра I не только предназначение какого-либо комитета, но и сам факт его деятельности держался от общества в строгом секрете. Секретная деятельность создаваемых комитетов достигалась разными путями. Например, все документы рабочих заседаний комитета не разрешалось «проводить» через другие канцелярии; более того, особые документы надлежало писать «одной рукой», без привлечения сторонних чиновников, и др. Подобная практика продолжила свое развитие и при Николае I. МВД, направляя инструкции и циркуляры в губернские правления, неукоснительно требовало, чтобы вся проводимая работа по сбору данных о староверах осуществлялась полицией в «строгой секретности», «тайно», чтобы, как аргументировалось, «избежать ошибок и недовольства раскольников».
Более дифференцированный подход к социальному составу, «идейным течениям» движения раскола в полной мере следует рассматривать как особенность полицейской деятельности данного периода. Согласно утвержденной Кабинетом министров в 1842 г. классификации старообрядцы и различные группы сектантов стали делиться на «вреднейших», «вредных» и «менее вредных». К «менее вредным» были отнесены «пoпoвцы», признававшие священства. По официальным данным, численность этой группы была значительной, так как ее представители в меньшей степени подвергались преследованию со стороны властей и потому от нее не скрывались. «Вредными» определялись «беспоповцы», которые не признавали священства, но не отвергали брак и молились за царя. В отношении этих групп полиция не предпринимала мер «на уничтожение», а осуществляла надзорную функцию, борясь с распространением их влияния. По определению Святейшего Синода, очень опасными для государства являлись группы иудeйствующих, молокан, духоборцев, хлыстов и скопцов [14].
К представителям общественно опасных сект полиция применяла меры ограничительного характера: им отказывалось в праве быть зачисленными в сословие мещан, выступать усыновителями или опекунами православных сирот; мужчинам запрещалось вместо себя нанимать в рекруты из числа православных. В 1850 г. при проведении девятой ревизии замужних женщин записывали в графу родителей, а их детей определяли в графу незаконнорожденных.
В 1852 г. утвержденный в должности министра внутренних дел Д. Г. Бибиков распорядился образовать в стенах полицейского ведомства очередной «особый комитет», который, как считал новый глава МВД, должен заниматься приведением в соответствие с «духом времени» поступающих материалов по делам о расколе. Несколько позднее, основываясь на выводах и предложениях «особого комитета», министр изложил видение МВД на решение вопроса о расколе. В частности, он предложил значительно ограничить действие и практику применения наиболее жестких норм законодательных актов, а реализацию мер по отношению к староверам предлагал «проводить постепенно».
Однако исходящие от министра инициативы не нашли отклик у ревностных приверженцев жестких мер в окружении как царя, так и его самого. Напротив, в июне 1853 г. царь одобрил применение «особых правил» в отношении староверов, согласно которым раскол как реальность православного мира не имел право на существование в статусе «особого общества». «Правилами» также вводились экономические ограничения, в частности, староверам запрещалось владеть имуществом посредством купли и по завещанию. Коронная власть не признавала законность метрических книг, вменив полицейским органам право контролировать ведение регистрации вступающих в брак староверов. Полиция боролась с тем, чтобы староверы не получали подаяния и пожертвования от старообрядческих структур. Приказы общественного призрения получили право брать под свою юрисдикцию раскольнические погосты и находящиеся на них культовые объекты. Полиция на местах запрещала старообрядческим общинам строить или производить ремонт своих храмов, использовать свои жилища как молельные дома, называя их церквями, возводить на крышах кресты и вешать колокола.
Согласно «Собранию постановлений по части раскола» за время правления Николая I было разработано более 490 постановлений. Государство вело борьбу с расколом, основываясь на правилах уголовно-правового законодательства. Только за период с 1842 г. по 1846 г. в стране было закрыто более 100 молитвенных домов, 147 подверглись уничтожению, более 12 отошли к официальной церкви [15]. Николай I, государственный аппарат прилагали значительные усилия, чтобы лишить староверов права на законное существование. О неполноправности общества староверов как подданных Российской империи свидетельствует возобновленная практика использования в официальных документах наименования «раскольник».
Начало второй половины XIX в. показало всю несостоятельность репрессивных методов борьбы против староверов. Вал судебных дел и приговоров по ним рос с каждым годом. По данным официальных властей, количество постановляемых судебных приговоров с 1847 г. по 1852 г. составляло более 500 в год, а число лиц, состоявших под судом за «принадлежность к расколу», за этот же период достигло 26 456 [16].
Если коронная власть формулировала задачи и методы искоренения старообрядчества как опасного «контрсекулярного» движения, то перед Святейшим Синодом стояла задача духовного просвещения старообрядцев и обращения их в православную веру. Светская и церковная власть представляли собой механизм одного государственного аппарата. МВД направлялись документы в Святейший Синод на предмет консультирования по тонкостям «сложных религиозных вопросов», церковная власть излагала свою точку зрения на политические меры, предпринимаемые министерством, уравновешивая тем самым «сие полицейское давление».
Утверждается, что за время правления Николая I в православие было «возвращено» более 2 млн староверов, как и то, что подавляющее большинство из этого числа продолжало придерживаться старой веры.
Выводы
-
1. В годы правления Николая I на МВД, органы полиции на местах государство, лично самодержец, возлагали большие надежды по обеспечению религиозно-духовной безопасности православия, в целом Российского государства. Как и при царе Алексее Романове, староверы были вновь отнесены к разряду государственных преступников, которые «вносят смуту и раскол в православное общество». Особенностями конфессиональной политики данного периода стало создание специальных государственных структур по делам о расколе, законотворческая деятельность коронной власти, отражавшая принципы теории официальной народности как идеологической основы вероисповедного курса. Ужесточение законодательной базы о расколе, более «глубокое» его изучение давало возможность коронной власти более «эффективно» осуществлять принятый в отношении староверов курс.
-
2. Реакционная конфессиональная политика законодательно закрепляла функции полицейских органов по надзору в сфере духовного благочиния. Российское узаконение, Высочайшие повеления царя, циркуляры МВД, распоряжения губернаторов и архиереев на местах составляли обширную законодательную основу деятельности полиции в борьбе с движением раскольничества. Методы надзорной деятельности органов полиции заключались в соблюдении раскольниками запретительных, ликвидационных, дискриминационных и других норм, получивших отражение в своде «Собраний постановлений по части раскола».
Область применения и перспективы. Исследовательским продолжением обозначенной проблематики могли бы стать вопросы сравнительного анализа реализуемой коронной властью конфессиональной политики в отношении староверов в таких регионах, как Поморье и Заволжье, Дон и Яик, Урал и Сибирь.