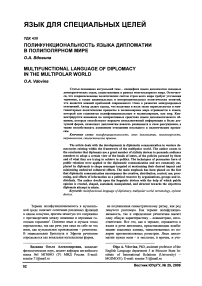Полифункциональность языка дипломатии в полиполярном мире
Автор: Вдовина Ольга Александровна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Языки для специальных целей
Статья в выпуске: 25 (158), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной теме - специфике языка дипломатии западных демократических стран, существующих в рамках многополярного мира. Отмечается, что соприкосновение политических систем стран всего мира требует уточнения терминов, а также национальных и интернациональных политических понятий, что является важной проблемой современного этапа в развитии международных отношений. Автор делает вывод, что политика и язык тесно переплетаются и многовекторные политические процессы в полиполярном мире отражаются в языке, который сам становится полифункциональным и полиполярным, как мир. Концентрируется внимание на экспрессивных средствах языка дипломатического общения, которые способствуют передаче интеллективной информации в более доступной форме, позволяют дипломатам вовлечь реципиента в свои рассуждения, а также способствовать изменению отношения последнего к политическим процессам.
Полифункционалъностъ, язык дипломатии, полиполярность, терминология, стилистические приемы
Короткий адрес: https://sciup.org/147153695
IDR: 147153695 | УДК: 430
Текст научной статьи Полифункциональность языка дипломатии в полиполярном мире
ным, двигающим научно-технический прогресс. Всего несколько месяцев тому назад внимание мирового сообщества было сосредоточено на величайшем изобретении человечества - коллайдере. Известно, что над этим проектом трудились ученые из многих стран, и мы не можем утверждать, что они не использовали язык дипломатии для того, чтобы в течение долгого времени находить ответы на вопросы и совместно преодолевать возникающие трудности, работая в мультикультурной среде. Наверняка они не раз задумывались о том, будет ли политически корректным использование того или иного слова, термина.
В языке дипломатии, как в призме, отражается переплетение множества лучиков - регистров (термин, кстати, тоже пришедший к нам из музыки, где он обозначает относительную высоту ноты, диапазон), под которыми мы понимаем языки, ассоциирующиеся со специфическим контекстом той или иной области знания или сферы использования. Язык дипломатии - это тот язык, который должен следовать нормам, в том числе и этическим, с одной стороны, и в то же время звучать естественно, как песня, а не быть искусственным и механическим, - с другой. Никому в голову не приходит петь песни на языке эсперанто или Seaspeak, так как «ни сам эсперанто, ни созданные позднее гибриды искусственных и естественных знаковых систем (такие, как интерлингва, новиаль и интерглосса) не являются языками какого-либо народа, то есть национальными языками. Они есть плод научных усилий ученых, в то время как английский язык является не только плодом нормализаторской деятельности лингвистов, но и естественной само-развивающейся семиотической системой»2.
Говоря о языке дипломатии, возникает вопрос о том, испытывает ли он на себе воздействие других языков, в частности французского (также официального языка дипломатии), и приобретает ли он характеристики, видоизменяющие норму. Интересно отметить то, что хотя английский язык испытывает воздействие других языков и культур, однако, он не теряет связь с культурой его носителей. «Евроанглийский - ярлык, приклеиваемый иногда в наши дни своеобразному варианту английского языка, которым пользуются французские, греческие и другие дипломаты в кулуарах Европейского Союза, для которых английский -иностранный. Тем не менее ни в одном из этих случаев не наблюдается сколько-нибудь серьезных признаков дробления языка на взаимно непонятные варианты»3.
В дипломатической сфере осуществляется множество международных связей. Конечно, вопрос о взаимопонимании разных наций, говорящих на разных языках, является первостепенным. Термин дает предпосылку понимания сути дела как при чтении книги по данной специальности, так и при установлении международных контактов. Еще в XVIII-XIX веках в английском языке формируется фонд интернациональной лексики, охватывающей, в основном, научнотехническую и общественно-политическую терминологию. Этот фонд лексики складывается из элементов разных языков, преимущественно греческого и латинского. Необходимо отметить, что эти лексические единицы становятся достоянием целого ряда языков, и зачастую невозможно вспомнить или даже определить, где они появились впервые. В интернациональном фонде рождаются слова, образованные из элементов, существующих издавна, хотя сами слова новые, например, telephone от phone/ звук, telegragh от tele/ на расстоянии и grapho/ пишу, telescope от scopeo/ смотрю, вижу, microscope от micros/ маленький. Все эти слова, как и само слово - дипломатия (diploma), образованы из древнегреческих элементов. В Древней Греции этим словом назывались сдвоенные дощечки с нанесенными на них письменами, выдававшиеся посланцам в качестве верительных грамот и документов, подтверждавших их полномочия. Как обозначение государственной деятельности в области внешних сношений слово «дипломатия» вошло в обиход в Западной Европе в конце восемнадцатого века.
Очень важное качество терминологии дипломатии - это ее международность. Тесные экономические и политические связи между странами создают условия для роста интернациональной лексики. Во времена СССР вошли в международный оборот такие слова, как soviet/ ■ советский, Bolshevik/ большевик, komsomol/ комсомол, kolkhoz/ колхоз, а во времена перестройки такие слова, как glasnost/ гласность и само слово perestroika/ перестройка. Новейшее заимствование Spetsnaz (Russian special purpose regiments) - термин, использующийся для обозначения войск специального назначения (спецназ). Хотя это слово могло бы быть переведено как «special designation» для обозначения элитарного военного подразделения / «any elite military or police unit», в английских новостях и газетах мы встречаем слово Spetsnaz, которое, в свою очередь, образует терминологический ряд: spetsnaz soldiers, spetsnaz commando, spetsnaz forces, spetsnaz troops, spetsnaz unit, spetsnaz tactics, spetsnaz recruits, spetsnaz groops.
Полифункциональность языка дипломатии подразумевает не только сплетение терминологических систем и соответственно огромного диапазона тем, но и отражает широкий спектр социально-экономических прослоек общества, разнообразие политических партий, плюрализм мнений и позиций, напрямую зависящих от уровня образованности и социального статуса говорящего. Как отмечал Г.Г. Почепцов, современное общество вышло на новый этап своей организации, на котором борьба государств за мировое экономическое и политическое доминирование осуществляется не традиционными средствами ведения военных дей- ствий, а посредством «информационных войн», в которых главным оружием является слово4.
Многовекторность - еще один термин, который может быть использован для характеристики языка дипломатии, стремящегося, как правило, закамуфлировать, а иногда и наоборот, обнажить реальность. В этой связи хотелось бы отметить, что в настоящее время необходимо больше внимания уделять анализу не самого сообщения, а анализу лексических, грамматических, стилистических средств его передачи. Логика мышления дипломата обусловила форму изложения фактологического материала, которая направлена на оказание воздействия на читателя с целью изменения его отношения к описываемым процессам, что проявляется в использовании разнообразных стилистических средств, таких как цитирование, ин-тимизация, риторический вопрос, вопросноответный комплекс, анафора, катафора, сравнения, аналогии, антитеза, эпитеты, персонификация, метафоры, идиомы, документальные формы.
В речах дипломатов цитирование несет как информационную, так и эстетическую функциональную нагрузку. Соответственно в цитатах может превалировать либо функция сообщения, либо функция воздействия. Цитаты по способу введения в текст делятся на органически вплетенные в синтаксис основного текста (косвенное цитирование) и цитаты, выносимые в отдельный абзац (отдельное высказывание). Цитаты используются для подтверждения объективности высказывания дипломата, для краткого выражения сути того или иного явления или политической ситуации. Они заимствуются из следующих источников: энциклопедий, монографий, художественных произведений, писем и выступлений политических деятелей. С точки зрения соотношения текста цитат и основного текста наблюдается следующая дихотомия: стиль цитаты может быть однородным с основным стилем изложения и может быть ему противопоставлен.
Интересно отметить, что в речах дипломатов главными действующими лицами оказываются не только государственные деятели, но и сами государства, коалиции государств и даже цивилизации. Все они являются не пассивными участниками событий, а активно действуют. Государства, цивилизации и даже мир совершают как созидательные, так и разрушительные действия - France introduced, Great Britain elaborated, Austria reconstructed, Europe invented, Western countries conquered and colonized, societies cooperate with each other, civilizations clash. Во всех этих «деяниях» четко прослеживаются поступки и действия, свойственные людям. Весь мир не стоит на месте, он находится в постоянном движении - каждое государство что-то совершает: разрабатывает, реконструирует, вводит что-то новое, изменяет, сталкивается с проблемами, извлекает пользу из чего-либо, выбирает, изобретает, подтверждает, сотрудничает, обеспечивает, проводит внешнюю политику, развивается. За всем нечеловеческим стоит человек, который со всеми своими деяниями, хорошими и плохими, хочет скрыться за географическими названиями, абстрагироваться от своих поступков для того, чтобы восхититься или содрогнуться от содеянного.
На персонификацию можно посмотреть и с другой точки зрения: щедрость человеческой души не позволяет смириться с тем, что «нечто» не может делать то, что и он - человек, отсюда наделение человеческими свойствами всего того, что является неприемлемым с точки зрения здравого смысла. Как и люди, государства, цивилизации находятся в сложных отношениях, увеличиваются в объеме, завоевывают, влияют на кого-либо, терпят неудачу и даже крах. В речах дипломатов разнообразные концепции, доктрины, философские школы обретают самостоятельность. Они ведут себя следующим образом: American thinking on foreign policy encountered; the balance-of-power system did not purport; concepts of power had substantially broken down; the notion did not exist; a strategy for emergencies failed; the notion led to. Считается, что процесс персонификации невозможно унифицировать, ибо в каждом отдельном случае он наделяется теми свойствами человека, которые необходимы автору для решения поставленных им проблем. Тем не менее проведенный анализ показывает, что существует стереотипное восприятие неодушевленных явлений как живых людей, что находит свое соответствующее выражение на лексическом уровне. Так, время - безмолвный пассивный наблюдатель происходящих событий - всегда созерцает, не вмешиваясь в них. Время в языке дипломатического общения не является главным действующим лицом и играет роль второго плана.
Еще один прием, который позволяет дипломату максимально воздействовать на реципиента, пробуждая в нем чувство сопричастности и единства с автором высказывания - это интимизация, а именно употребление личного местоимения первого лица единственного числа «I». Однако в выступлениях дипломата местоимение первого лица единственного числа «I» нечасто, так как они отдают предпочтение личному местоимению множественного числа первого лица «we» и его производным - объектному местоимению «us» и притяжательному местоимению «оиг». Эти объединяющие местоимения сближают планы выступающего и слушающего, превращая последнего в единомышленника первого и, в некотором роде, соавтора. Следует отметить, что притяжательное местоимение «оиг» в наибольшей степени создает чувство сопричастности как с самим событием, так и с человеком, изложившим его. Несомненно, еще большее чувство единения возникает тогда, когда автор подчеркивает, что как он, так и слушающий его живут в одну историческую эпоху и что проблемы, волнующие ученого, не могут оставить равнодушным и его читателя.
Our own experience has taught us, seemingly, that the future is more likely than not to contain new and unimagined evils, from fanatical dictatorships and bloody genocides to the banalization of life through modern consumerism, and that unprecedented disasters await us from nuclear winter to global warming5.
Таким образом, интимизация способствует созданию атмосферы доверия и устраняет барьер, существующий между дипломатом и тем, кому он адресует свои речи. Благодаря интимизации, оказывающей косвенное воздействие, дипломат создает основу для общения со слушающим, вовлекая его в процессы, происходящие на международной арене.
Характерными способами установления тесного контакта с читателем также являются риторический вопрос и вопросно-ответный комплекс, которые оживляют повествование в целом, создавая своеобразный диалог между автором и реципиентом в рамках монологического повествования. В языке дипломатического общения риторический вопрос используется для того, чтобы привлечь внимание читателя к определенной проблеме, сообщить ему нечто ранее неизвестное или заставить обеспокоиться предполагаемым развитием событий. Риторический вопрос может ненавязчиво вовлечь читателя в рассуждения автора и подвести к тому, чтобы тот самостоятельно смог прийти к определенным выводам. Вопросноответный комплекс также относится к характерным способам установления тесного контакта со слушающим. Задавая вопросы, на которые он сам и отвечает, дипломат тем самым заставляет последнего задуматься, а иногда позволяет найти собственное решение проблемы, соглашаясь или не соглашаясь с автором.
Таким образом, как риторический вопрос, так и вопросно-ответный комплекс не позволяют реципиенту оставаться безучастным к поднятым проблемам, они держат его в напряжении. Если при введении новой темы исследования автор использует вопросно-ответный комплекс, то это говорит о том, что вводимая тема является чрезвычайно важной и на нее следует обратить особое внимание. На все это читатель может отреагировать по-своему, поскольку косвенно от него ожидают какой-либо ответ.
Свою тревогу по поводу настоящих конфликтов, которые в будущем приведут к еще более катастрофическим столкновениям, дипломат может выразить, используя не одно, а несколько стилистических средств.
The bloody clash of clans in Somalia poses no threat of broader conflict. The bloody clash of tribes in Rwanda has consequences for Uganda, Zaire, and Burundi but not much further. The bloody clashes of civilizations in Bosnia, the Caucasus, Central Asia, or Kashmir could become bigger wars6.
Так, в данном отрывке сосуществуют эпитет -«bloody clash», анафора - три предложения начи наются с одной фразы «The bloody clash» и градация: группа людей, участвовавшая в кровавых столкновениях с каждой новой эпохой увеличивается, начиная с кланов, затем продолжая племенами и наконец завершая цивилизациями: clans -tribes - civilizations. Люди часто забывают о том, что было раньше, и вновь совершают одни и те же ошибки. Эти ошибки приводят к новым кровавым столкновениям, но несколько иным по масштабу по сравнению с прошлым - к столкновению цивилизаций.
Язык дипломата, как правило, изобилует лингвистическими сравнениями, которые используются для того, чтобы подчеркнуть отношение человека к окружающему его миру и событиям, происходящим в нем. Например, внешняя политика для Фридриха Великого была лишь шахматной доской, на которой он выстраивал свои фигуры.
Frederick the Great treated international affairs as if it were a game of chess7.
Стилистический . прием антитезы позволяет специалисту в дипломатической сфере добиться желаемой им объективности, поскольку противопоставляя, ему удается найти золотую середину, которая близка к искомой непреложной истине.
People are discovering new but often old identities and marching under new but often old flags which lead to wars with new but often old enemies8.
' В своей творческой лаборатории дипломат постоянно пользуется оценочными понятиями. При этом оценка может быть выражена прямо и косвенно. Прямая оценка выражается, в основном, благодаря эпитетам, которые подразделяются на положительные (wise policy, mercurial leader, powerful alliances, great religions, triumphant dominance) и отрицательные, выражающие негативное отношение дипломата к определенному событию или личности (merciless autocracy, cynical methods, hostile army, bloody clash, prickly interlocutor, disastrous war).
К распространенным стилистическим средствам также относятся: метафоры (iron curtain, the theatre of war, iron will, the international arena, snowball effects), которые позволяют донести до читателя информацию более полно, объемно, образно; фразеологические единицы, которые подразделяются на стилистически нейтральные, лишенные образности и метафоричности, органически вписывающиеся в общий нейтральный фон научного повествования (to take for granted, as a rule, in order to, so as to, in fact, according to) и собственно идиомы (to put one’s head in a noose, to miss the forest for the trees, to fall on deaf ears, to see eye to eye, to take the bait, to have second thoughts, to pull a rabbit out of a hat), которые придают живость высказыванию; прием антономазии (the prince of the Church - князь Церкви - кардинал Ришелье).
Фразеологические единицы мифологического, литературного происхождения, такие как the Golden Age, the Achilles heel, the Gordian knot, the bed of Procrustes, Pandora’s box, a sword of Damo- ties, Platonic love популярны в дипломатической среде. Для того чтобы понять смысл предложений, в которых используются подобные фразеологические единицы, необходимо иметь определенные фоновые знания. Фразеологические единицы, в частности собственно идиомы, нередко подвергаются деформации в речах дипломатов. Главной предпосылкой деформации идиоматических фразеологических единиц является онтологически присущее любой из них противоречие между семантической глобальностью целого образования и раздельнооформленностью составляющих его компонентов. Чем больше семантическая неделимость, неразложимость, чем крепче их устойчивость, тем чаще они подвергаются деформации. Это оказывается возможным вследствие актуализации потенциального значения слова в составе идиомы и разрушения семантической монолитности фразеологического сращения. Деформированная идиома наполняется новым содержанием и используется для усиления экспрессивной стороны высказывания. Примером может стать сложная деформация идиомы, которая осуществляется за счет соединения двух идиом, замены устоявшихся компонентов на новые и введения дополнительных лексических единиц.
When, in the nineteenth century, a French diplomat told British Prime Minister Palmerston that France had grown accustomed to Palmerston’s pulling a diplomatic card out of his sleeve at the last moment, the plucky Englishman had responded, «God put the cards there»9.
Важно отметить, что использование образных, экспрессивных средств в языке дипломатического общения не является инородным вкраплением. Эти средства способствуют передаче и восприятию интеллективной информации в более доступной форме, привлекают внимание реципиента к поставленной проблеме, а также позволяют автору в более доходчивой форме обосновать правомерность своих взглядов, вовлечь слушающего в свои рассуждения, способствовать изменению его отношения к какому-либо событию или политическому деятелю.
Ввиду того что действенным инструментом устроения общественной жизни и дипломатической сферы в первую очередь стал язык, то можно сказать, что одним из наиболее важных глобализационных процессов является языковая глобализация - «процесс чрезвычайно активного взаимопроникновения языков в условиях глобализации, характеризующийся доминированием английского языка»10. Сейчас английский язык используется в качестве языка дипломатии, международной торговли и признается основным языком ООН - является воплощением давней мечты человечества о едином языке.
Всего несколько столетий назад английский язык не имел важного социального значения в Европе, был неизвестен остальному миру, на кото ром говорило всего несколько миллионов человек, преимущественно крестьян. Это был язык бедных, изобилующий французскими заимствованиями. Что способствовало стремительному распространению английского языка - простота грамматических конструкций (малочисленность флексий, отсутствие грамматического рода), космополитичность словаря (изобилие иностранных заимствований), известные по сей день литературные памятники (поэмы Чосера)? Нет, причина, по которой английский язык обретает международный статус - это политическое могущество народов, носителей этого языка, а также их военное превосходство. Перетекание огромных средств из одной части света в другую изменяет характер конфликтов, которые превращаются в клубок неясной конфигурации, который даже невозможно распутать. Частью глобализации является американизация мировой жизни, что в свою очередь, выдвигает американский вариант английского языка на первый план. Это уже не только использование его в качестве языка лингва-франка, это его повседневное использование при работе в Интернете, просмотре газет и журналов, прослушивании новостей американских каналов.
Однако есть в мире силы, противодействующие языковой глобализации, и не все страны приветствуют триумфальное шествие английского языка. Политические разногласия по поводу использования единого языка в сферах экономики, законодательства, права, дипломатии - это наша действительность. Наибольшее сопротивление этому процессу оказывают французы. Каждый год франкофоны и франкофилы пяти континентов отмечают 20 марта международный день франкофонии, день, когда проводится ряд самых разнообразных культурных мероприятий, связанных с французским языком.
Впервые термин «франкофония» (понятие, которое также перекликается с музыкой (фон(о)-, -фония от греческого слова phone - звук, голос) был употреблен в 1880 году французским географом Онезимом Реклю, и с тех пор это понятие обозначает географические территории, где распространен французский, или совокупность людей, говорящих по-французски. Известно, что Франция, в отличие от Великобритании, применяла прямой способ управления колониями. Именно такое политическое и культурное наследие позволило сделать французский язык средством установления взаимодействия между разнообразными культурами. Б.Б. Гали, ранее занимавший пост генерального секретаря ООН, отмечал, что франкофония задумывалась как «другой способ понимать мир», то есть «понимать идентичность, языковое многообразие, универсализм».
Политизация МОФ (Международной Организации Франкофонии) в большой степени выражается в ее активном участии в важнейших делах мировой политики, в ее претензиях на существен- ное влияние в международных отношениях, в частности, в сферах политики, экономики, безопасности, информационных технологий, что, в свою очередь, совмещается с активной культурной деятельностью. Причины политической активизации МОФ являются как объективными, так и субъективными. Очевидно, что к первым относятся теракты 11 сентября 2001 года в США, резкое возрастание террористической угрозы, обострение вопроса по Ираку. Ко вторым можно отнести общий курс МОФ на усиление влияния в мире. В Бейрутской декларации, затронувшей важнейшие вопросы мировой политики, провозглашается важнейший принцип МОФ - диалог культур - в качестве главного фактора установления мира и борьбы с нетерпимостью, экстремизмом, терроризмом, который превращается в реальный политический инструмент. Жак Ширак также провозглашает, что диалог культур - лучшее противоядие от риска столкновения цивилизаций. Франкофония укрепила связи с арабским миром, так как Франция была в центре деятельности по срыву всех инициатив Дж. Буша и Т. Блэра, и смогла провести в МОФ решение об осуждении попыток силового вмешательства. Казалось, что эта франко-английская языковая война закончилась еще полвека назад - после второй мировой войны, когда США приобрели значительное политическое влияние и английский язык стал средством делового и дипломатического общения на Западе. Однако этот процесс продолжается и по сей день, и причины действий Парижа, для которого очень важен культурный фактор во внешней политике, кроются не столько в реалистических попытках утвердиться в статусе великой державы, сколько в мировоззренческих, в том числе и лингвистических несовпадениях между США и Францией.
Еще с 1911 года во Франции существует закон, запрещающий использование иностранных слов. Среди государственных структур, занимающихся вопросами французского языка, следует отметить Генеральную комиссию по терминологии и неологизмам при премьер-министре страны, эксперты которой внимательно изучают списки новых терминов, вводящихся в употребление, и выносят суждение о целесообразности использования того или иного термина. В 1975 году выходит закон о поддержании чистоты французского языка, по которому все граждане, употребляющие англицизмы, не введенные в употребление официально (pipeline, jet airplane, hamburger, chewing gum, gadget, holdup, weekend, blue jeans, selfservice, manager, marketing), должны были платить штраф. В период с 1977 по 1987 годы было даже заведено несколько уголовных дел за нарушение этого закона. Французская академия и Высший совет французского языка вырабатывают и предлагают альтернативы взамен англицизмов, в том числе для компьютерных терминов и терминов телекоммуникации. Газета Ле Монд саркастически писала, что для того, чтобы не нарушать закон, используя слово sandwich, французам следует использовать эквивалент, состоящий из девяти слов, который при переводе обозначает «два кусочка хлеба с чем-то посредине». Несмотря на эти старания, распространение франгле, языка, в котором употребление англицизмов предпочтительнее, чем соответствующих французских слов, уже нельзя остановить. Появление англицизмов во французском языке - это не новое явление, и таким словам как le snob, le biftek, le self-made man уже более ста лет, rosbif (roastbeef) - триста пятьдесят, ouest (west) - уже семьсот.
Однако необходимо отметить, что раздражающий фактор для французов, борющихся за чистоту языка, не то, что в нем появляются англицизмы, а то, что в мире отпала необходимость заимствовать слова из французского языка. По наблюдениям лингвистов стратегию заимствования определяют, в основном, внеязыковые механизмы, одним из которых следует признать фактор престижа. Например, сыпать американизмами считается проявлением космополитичности, открытости новому, прогрессивности и прочих добродетелей современного человека. Эти процессы протекают на фоне противостояния либерально-оптимистической картины мира и концепции необходимой полиполярности.
Исследование источников формирования дипломатической терминологии позволяет назвать такие пути ее формирования, как заимствование иноязычных терминов и терминологизация общеупотребительных слов. В этой связи отметим использование французского термина британским министром иностранных дел Джеком Стро для описания характера резолюции, которую, по его мнению, следовало бы принять ООН по Ираку. Речь идет о французском слове «chapeau» - головной убор, шляпа. Понятно, что эта метафорическая шляпа напоминает английский зонтик. «Мы надеемся, - приводит слова Стро «Монд», - что ООН будет играть роль своеобразного зонта при распределении гуманитарной помощи в Ираке, что будет способствовать юридическому и политическому возрождению этой страны». «Этот термин, -пишет газета, - весьма удачен, так как, с одной стороны, он на слуху, и понятен для многих, а с другой - достаточно многозначен, что дает возможность его вольной интерпретации». «Язык дипломатии бесконечно изобретателен, и каждый новый кризис еще более обогащает его», - не без иронии заключает французская газета.
Еще одним примером того, как английский язык модифицируется, модифицируя, в свою очередь, и другие языки, стало появление гибридов языков, таких как Denglish. Ответственная за чистоту языка официальная Академия немецкого языка и поэзии признала серьезность проблемы и порекомендовала экспертам на одном из своих регулярных съездов изучить возможность «онемечива- ния» четырех тысяч английских слов, разгуливающих по речевым ландшафтам Германии. «Очищение» языка от иностранщины - это далеко не новое явление. Очищали язык в шестнадцатом веке от засилья латинских слов, а в эпоху Тридцатилетней войны и позднее - в годы первой мировой - от слишком «нежного» для тевтонского духа французского влияния. Вопрос двадцать первого века состоит в том, что будет с английским языком, останется ли он одним целостным организмом, живущим полноценной жизнью, или распадется на множество подъязыков? Говоря о будущем английского языка как глобального, опасения наши должны быть не по поводу того, что появляются разнообразные гибриды языков, а то, что различий между ними не будет, так как эти ответвления не имеют своих культурных традиций, обычаев, и, наконец, не уходят своими корнями в историю. В результате какая это будет потеря для английского языка.
«Потребность в понимании друг друга и одновременно в осознании себя как нации часто разделяет народы и страны, которые оказываются по разные стороны «баррикад». Первое стимулирует изучение международного языка, каковым в большинстве случаев оказывается английский, второе способствует пропаганде местных языков и национальной культуры»11. Для того, чтобы были и волки сыты, и овцы целы, некоторые государства, такие как Ирландия, проводят двуязычную политику, направленную на сохранение и поддержание национальной самобытности. Она выражается в частности в том, что гэльский язык является обязательным предметом в средней школе. Однако тот факт, что гэльский язык навязывают с детства и как бы принуждают детей изучать его с раннего возраста, привел к тому, что взрослые ирландцы не приемлют его (всего лишь 15 процентов населения говорит на нем). Кроме того, ирландцы не чувствуют необходимости в его изучении, так как Ирландия заинтересована в принадлежности к глобальному экономическому сообществу, являясь членом Европейского Союза. Потребность в английском языке растет, так как преподавателям университетов и колледжей приходится работать с многоязычной аудиторией, состоящей из иностранных студентов. За последнее десятилетие преподавание английского языка иностранным гражданам превратилось в индустрию, связанную с поступлением огромных средств в страну из зарубежных стран. Несмотря на то, что английский язык у многих ирландцев ассоциируется с колониальным периодом, временем, когда существовало презрительное отношение к местному языку, они используют английский язык как в повседневной жизни, так и как язык международного общения для того, чтобы не отгораживаться от остального мира.
Что это? «Это конфликт между потребностью в общении и необходимостью осознания себя как нации»12. Для того чтобы подчеркнуть существующие отличия от других англоговорящих стран, нации, обладающие особым чувством национального самосознания и самобытности, вводили в обиход местные словечки и выражения. Это, например, использование в ирландском английском (Hiberno English) слов: dingen (e.g. the film (fillum) was dingen, что означает хороший), произошедшее от гэльского «daingean», Mouth like a Malahide cod - дублинский сленг, использующийся для обозначения человека, любящего много говорить, или а soft da - для обозначения дня с моросящим дождем и затянутым облаками небом.
В других странах это стремление подчеркнуть национальную самобытность выражалось не только на уровне использования специфических только для этого региона слов, но и в изобретении особых грамматических форм слова. Это можно проследить на примере австралийского варианта английского, который содержит не только слова и выражения, возникшие на местной почве, заимствования из языков австралийских аборигенов, но и свою, специфическую богатую парадигму уменьшительно-ласкательных суффиксов, придающих целому значение малого размера, сопровождающееся экспрессивной окраской нежного чувства, которое, как правило, человек испытывает к чему-то милому. Это суффикс «-za», прибавляющийся к именам, заканчивающимся на -(г)г в сочетании с гласным, например «Bazza» для «Ватту», «Gazza» для «Gary», а также другие суффиксы, такие как «-еу/ -ie/ -у», «-о» в собственных именах Petey вместо Peter, Dougie вместо Douglas, Johnny или Jono вместо Jonathan, Robbie или Robbo вместо Robert. Garbage collectors известны как garbos, а номенклатурные образования такие как Salvation Army и McDonald’s известны как Salvos и Масса’s соответственно. Наиболее распространенным masculine diminutive является -(e)an (bodachan вместо bodach/ пожилой человек; lochan вмесо loch), в то время как наиболее распространенным feminine diminuative -(e)ag (Morag вместо Мог/ Сара; Niseag вместо Loch Nis / Nessie). Передача уменьшительно-ласкательного значения может осуществляться с помощью усечения либо первой части слова, либо последней. Такие слова, как ambulance officers, firefighters заменяются словами ambos и fires соответственно. Конечно, не только в Австралии популярно использование сокращенных названий для городов и местечек, но австралийцы используют их чаще, например, те, которые оканчиваются на суффикс -о, как в случае с Chippo вместо Chippendale. Ош их и используют для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что это место хорошо всем известно или показать, что они горды тем, что там живут. Что это как не проявление национальной самобытности?
Это также относится к шотландскому варианту английского языка, в котором уменьшительно-ласкательные суффиксы более распростране- ны, чем в английском языке. Такими суффиксами стали: -ie (burnie - легкий ожог; kiltie - солдат, одетый в килт; Nessie - Лохнесское чудовище; postie - почтальон), -ock (bittock / wee bit - немного; playock - игрушка; sourock - щавель), -ockie (hooseockie - маленький дом; wifockie -маленькая женщина), -ag , происхождение которого берет свое начало в шотландском гэлике (bairnag / wee bairn - маленький ребенок; Cheordag вместо Geordie).
Таким образом, можно сказать, что опасения по поводу того, что глобализация приведет к исчезновению национальной специфики, не оправдались. Примеры из ирландского английского, шотландского английского и австралийского показывают, что дух нации имеет свое отражение в языках по сей день. Английский язык многолик и полиполярен, что выражается в частности в формировании собственной закрытой системы уменьшительно-ласкательных суффиксов в Австралии, тех суффиксов, которых нет в английском языке. Самобытное развитие языков отражается в том, что в Австралии появилась своя новая парадигма одноименных суффиксов, что означает, что на фоне демократизации общества происходит раскачивание нормы, в результате чего подъязыки становятся менее понятными. Итак, наряду с центростремительными силами, то есть со стремлением стандартизировать английский язык и сделать его глобальным, важнейшим средством международного общения, существуют центробежные силы, выражающиеся в стремлении малых народов сохранить свою социальную принадлежность, в первую очередь, изучая свой родной язык и лелея свои собственные традиции, а не единственного гегемона.
В статье профессора Яковлевой Е.Б. говорится, что развитие английского языка сегодня характеризуется двумя противоположными тенденциями. Это упрощение, стандартизация языка в условиях его глобального использования и варьирование, расшатывание традиционно известных норм. В связи с первой тенденцией заслуживает внимания термин Globish, который отражает попытку филологов вычленить из всего словарного состава английского языка важнейшие лексические единицы, постоянно используемые неносителями английского языка. Однако использование ограниченного набора слов может стать угрозой для национально-культурной полифонии (еще одного термина, заимствованного из музыки, образованного от греческих слов поАи^ / полифонический, фалл]/ звук и обозначающего музыкальный склад, характеризуемый многоголосием), то есть одновременного звучания, развития и взаимодействия нескольких равноправных мелодий мира.
рый подстраивается и видоизменяется в зависимости от этнолингвистических и политикоэкономических условий.
Итак, понимание природы языка дипломатического общения сопряжено с определенными сложностями, так как язык дипломатии является средством международного общения, как и английский язык вообще. На сегодняшний день вопрос, будет ли английский язык использоваться как язык дипломатического общения или он будет вытесняться языками-гибридами, остается открытым. Среди факторов, определяющих статус английского языка как языка лидера, будут следующие: динамика роста политико-экономического влияния регионов, в которых английский язык является государственным, значительная численность носителей языка, достаточная для того, чтобы оказывать ассимилирующее воздействие на окружение, мощный цивилизационный фактор, глобализационные тенденции, приспособленность грамматики, лексики и синтаксиса языка к обслуживанию той или иной сферы общения. Политика и язык тесно переплетаются, и многовекторные политические процессы, свидетелями которых мы являемся, живя в полиполярном мире - глобализация, интеграция и регионализация - отражаются в язы ке, который сам становится полифункциональным и полиполярным, как и мир.
-
1 Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов. М., 1988. С. 135.
-
2 Яковлева Е.Б. Вперед к прошлому. Учебник - ученик -учитель. М., 2005. С. 38.
-
3 Кристалл Д. Английский язык как глобальный. М.: Издательство «Весь мир», 2001. С. 227.
-
4 Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001.
-
5 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. An imprint of Harper Collins Publishers, 2002. C. 3.
-
6 Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven and London, Yale University Press, 1996. P. 28.
-
7 Kissinger H. Diplomacy. New York, 1994. P. 69.
-
8 Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven and London, Yale University Press, 1996. P. 19.
-
9 Kissinger H. P. 598.
-
10 Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М.; СПб; New York, 2006. С. 1110.
-
11 Кристалл Д. Цит. соч. С. 192.
-
12 Там же. С. 195
-
13 Яковлева Е.Б. Цит. соч. С. 23.
-
14 Rosewarne D. Estuary English. Times Educational Supplement, 19 October, 1984.
Список литературы Полифункциональность языка дипломатии в полиполярном мире
- Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов. М., 1988. С. 135.
- Яковлева Е.Б. Вперед к прошлому. Учебник -ученик -учитель. М., 2005. С. 38.
- Кристалл Д. Английский язык как глобальный. М.: Издательство «Весь мир», 2001. С. 227.
- Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук, К.:Ваклер, 2001.
- Fukuyama F. The End of History and the Last Man. An imprint of Harper Collins Publishers, 2002. С 3.
- Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven and London, Yale University Press, 1996. P. 28.
- Kissinger H. Diplomacy. New York, 1994. P. 69.
- Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven and London, Yale University Press, 1996. P. 19.
- Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М.; СПб.; New York, 2006. С. 1110.
- Rosewarne D. Estuary English. Times Educational Supplement, 19 October, 1984.