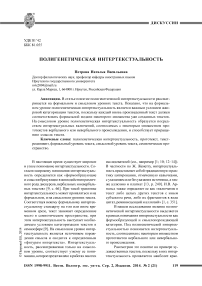Полигенетическая интертекстуальность
Автор: Петрова Наталья Васильевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 (21), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье понятие полигенетической интертекстуальности рассматривается на формальном и смысловом уровнях текста. Показано, что на формальном уровне полигенетическая интертекстуальность является важным условием жанровой категоризации текстов, поскольку каждый вновь произведенный текст должен соответствовать формальной модели некоторого множества уже созданных текстов. На смысловом уровне полигенетическая интертекстуальность образуется посредством интертекстуальных включений, соотносимых с некоторым множеством прототекстов вербального или невербального происхождения, и способствует приращению смысла текста.
Полигенетическая интертекстуальность, прототекст, текст-реципиент, формальный уровень текста, смысловой уровень текста, семиотическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14969761
IDR: 14969761 | УДК: 8142 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.2.16
Текст научной статьи Полигенетическая интертекстуальность
В настоящее время существует широкое и узкое понимание интертекстуальности. Согласно широкому пониманию интертекстуальность определяется как «формообразующие и смыслообразующие взаимодействия различного рода дискурсов, вербальных и невербальных текстов» [9, с. 66]. При такой трактовке интертекстуальность может проявляться и на формальном, и на смысловом уровнях текста. Соответствуя некому формальному интертекстуальному стандарту на том или ином временном срезе, текст занимает определенное место в семиотическом пространстве, при этом интертекстуальность выступает необходимым условием категоризации текстов в семиосфере [9]. На смысловом уровне интертекстуальность является источником порождения смысла и сводится к определенным «фигурам интертекста». Интертекстуальность, рассматриваемая только на смысловом уровне, соответствует узкому ее пониманию, которое представлено в работах многих исследователей (см., например [1; 10; 12–14]). В частности по Ж. Женетту, интертекстуальность представляет собой традиционную практику цитирования, отмеченную кавычками, с указанием или без указания источника, а также аллюзию и плагиат [13, p. 240]. И.В. Арнольд также определяет ее как «включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий» [1, с. 351].
В нашем исследовании явление полиге-нетической интертекстуальности выделяется в рамках понимания интертекстуальности как формообразующей и смыслопорождающей категории. Под полигенетической интертекстуальностью понимается интертекстуальность, соотнесенная с некоторым множеством прототекстов вербального или невербального происхождения.
Рассмотрим это понятие на примере художественных текстов, поскольку в них интертекстуальность проявляется наиболее ярко.
На формальном уровне художественное произведение имеет определенную композицию, под которой будем понимать способ содержательно-смысловой упорядоченности текста, построенной на внутренних связях его компонентов и частей. Наличие у текста композиции – это важный критерий его отграничения от случайных цепочек предложений: «текст имеет определенную композицию, случайная цепочка предложений композиционно не оформлена» [8, с. 78]. На основе анализа той композиционной схемы или модели, по которой строится текст, определяется его принадлежность к литературному жанру. Композиционная модель басни, например, включает экспозицию, диалог и поступки персонажей, мораль [там же, с. 79]. Композиционными частями сказки являются экспозиция, действие и результат [11]. Пять строк – признак лимериков, в которых первая строка рифмуется с пятой, третья и четвертая рифмуются между собой [1, с. 150].
Отдельно взятый художественный текст всегда не похож на другой художественный текст. Они могут различаться по набору па-ратекстовых элементов. У Э. По, например, практически каждый рассказ имеет эпиграф, в то время как большинство рассказов других авторов не имеют такого паратекстового элемента. Одни тексты характеризуются преобладанием авторской речи, в них по-разному сочетаются описание, повествование, рассуждение; другие тексты практически полностью состоят из диалогов. В одних текстах представлены развернутые описания, в других описания носят фрагментарный характер. В одних текстах авторская оценка выражена эксплицитно, в других – имплицитно. Возможна вариативность в способах обозначения персонажей, времени и пространства, в способах изложения (объективное или субъективное). Тексты различаются в плане синтаксиса: в одних текстах преобладают простые, относительно короткие предложения, в других – сложные.
При всем разнообразии художественных произведений тем не менее существует некая постоянная модель построения текста, которая позволяет его идентифицировать и отнести к определенной группе текстов. В качестве основы такого отнесения выступает некоторое множество уже существующих текстов, или прототекстов. Новый текст, таким образом, создается на основе полигенетической интертекстуальности, формирующейся некоторым множеством текстов сходной модели.
Исходя из критерия многократной воспроизводимости, свидетельствующей о поли-генетической интертекстуальности, выделяем базовую композиционную модель, которая понимается как стереотипная типизированная межтекстовая модель, существующая в качестве готовой на том или ином временном срезе семиотического пространства.
В качестве такой базовой модели может быть рассмотрена композиционно-прагматическая модель, представляющая собой визуальное членение текста. Например, в драме выделенными частями являются акты (действия), сцены (картины). Четко выделены авторская часть и партии персонажей. Авторская часть состоит из заголовочного комплекса, сценических указаний в начале актов и сцен, обозначений персонажей, ремарок. Художественные прозаические произведения могут члениться на тома, книги, части, главы, главки, абзацы. Наличие в литературных произведениях графически выделенных частей является рекурсивным признаком, что свидетельствует о значимости графического членения для семиотического пространства.
В соответствии с названием модели ее единицы определим как композиционнопрагматические. Данное уточнение необходимо по причине существования иных терминов: О.П. Воробьева называет их единицами субстанционального членения текста [4], Н.А. Левковская – единицами субъективного членения [6], Н.С. Валгина – единицами композиционно-стилистического членения [3], И.Р. Гальперин [5] и Л.Г. Бабенко [2] – единицами объемно-прагматического членения текста.
В использовании терминов «композиционно-прагматическая модель» и «объемнопрагматическая модель» (последний термин принадлежит И.Р. Гальперину) прослеживается аналогия. Однако отметим, что модель, названная нами композиционно-прагматической, базируется на объемно-прагматической модели И.Р. Гальперина, но не повторяет ее полностью. Принципиальным расхождением является то, что в качестве наименьших единиц композиционно-прагматической модели нами рассматриваются абзац и диалогическое единство, в то время как И.Р. Гальперин считает наименьшими единицами абзац и сверхфразовое единство (далее – СФЕ) [5, с. 52]. Следует заметить, что СФЕ и абзац – это единицы разных уровней. СФЕ – единица объективного членения текста, абзац – единица субъективного членения текста, обусловленная прагматической установкой автора произведения [6, с. 7].
Композиционно-прагматическая модель художественных прозаических текстов жан-рово обусловлена. Так, для произведений крупной формы прототипичной является композиционно-прагматическая модель, предполагающая деление на главы, главки, абзацы. Для произведений малой формы (рассказов) характерна усеченная модель, в которой наблюдается абзацное членение в сочетании с диалогическими единствами.
Из сказанного следует, что на том или ином временном срезе семиотического пространства текстопорождение осуществляется на основе многократно воспроизводимой, то есть полигенетической по характеру, композиционно-прагматической модели, что позволяет тексту занять определенное место в семиотическом пространстве.
Если интертекстуальность на формальном уровне предполагает воспроизведение свойственной тому или иному жанру композиционной модели, которой соответствует определенное множество текстов семиотического пространства, то интертекстуальность на смысловом уровне – это непосредственные включения в текст-реципиент способствующих приращению смысла отрезков разной длины из иных текстов, необязательно принадлежащих к одному и тому же жанру. Основными компонентами смысловой интертекстуальности являются текст-донор (прототекст), включения из прототекста и текст-реципиент. Прототекст в условиях смысловой интертекстуальности – это текст вербального или невербального происхождения, на который имеется ссылка в тексте-реципиенте. Данный текст находится в семиотическом пространстве и может быть распознан в случае, если прототекст занимает определенное место в когнитивном пространстве. По отношению к прототексту как первичному тексту, текст-реципиент – это вторичный текст, в котором интертекстуальное включение при его соотнесении в прототекстом способствует приращению смысла.
Приведем несколько примеров полигене-тической интертекстуальности, способствующей приращению смысла произведения.
Пример 1:
Prometheus Enriched was calling to witness forgotten sacrifices, forgotten rituals, prayers obsolete before the birth of Christ (Fitzgerald, p. 65).
Прометей ( Prometheus ), титан-богоборец в древнегреческой мифологии, неоднократно становился героем литературных произведений. Известна трагедия Эсхила под названием « Prometheus Bound ». Не менее известна философская драма П.Б. Шелли « Prometheus Unbound », заголовок которой является парафразом заголовка трагедии Эсхила, построенном на контрасте. В рассказе Ф.С. Фицджеральда иронический эффект достигается путем употребления эпитета enriched перед именем Prometheus ( Prometheus Enriched ). Очевидна полигене-тичность наименования Prometheus Enriched , поскольку данное словосочетание по своему образованию стоит в одном ряду с Prometheus Bound и Prometheus Unbound.
Пример 2:
The petting of the rain increased as if in confirmation. Trudy thought, I’d better shut up. But suicidally: «Wouldn’t it better if we moved to a slightly more expensive place?» she said.
« The rain falls on the expensive places too. It falls on the just and the unjust alike. »
Gwen was thirty-five, a schoolteacher. She wore her hair and her clothes and her bit of lipstick in such a way that, standing by the window looking out at the rain, it occurred to Trudy like a revelation that Gwen had given up all thoughts of marriage. «On the just and the unjust alike ,» said Gwen, turning her maddening imperturbable eyes upon Trudy, as if to say, you are the unjust and I’m just (Spark, p. 23).
Обратим внимание на предложение It falls on the just and the unjust alike! – Он падает на праведных и неправедных
(о дожде). Те, кому знакомо юмористическое четверостишие Боуэна ( The rain it raineth on the just / And also on the unjust fella : / But chiefly on the unjust, because / The unjust steals the just’s umbrella ), воспримут его в качестве прототекста, хотя прямым источником цитирования, по-видимому, являются строки из Библии: « He makes his sun rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust » (Новый завет, с. 16).
В приведенных выше примерах 1 и 2 по-лигенетическая интертекстуальность имеет вербальную основу. Однако полигенетичность может создаваться и за счет соотнесенности текста-реципиента с источниками невербального происхождения.
Пример 3:
She reminded him of the Psyche in the museum of Naples. Her features had the same clear purity of line, and though she had borne a child she had still a virginal aspect (Maugham, p. 112).
Для того, чтобы подчеркнуть совершенство линий фигуры героини, У.С. Моэм сравнивает ее красоту со скульптурным изображением Психеи (по-видимому, имеется в виду произведение А. Кановы «Эрос и Психея»). Источником вдохновения этого скульптурного изображения является древнегреческий миф, повествующий о неописуемой красоте богини Психеи [7, с. 344].
Пример 4:
He was tall, six feet and an inch or two – in the native house that used to stand here was the mark of his height cut with a knife on the central trunk that supported the roof – and he was made like a Greek god , broad in the shoulders, and thin in the flanks; he was like Apollo , with just roundness which Praxiteles gave him, and that suave, feminine grace which has in it something troubling and mysterious. His skin was dazzling white, milky, like satin; his skin was like a woman’s (Maugham, p. 114).
При описании женственной красоты главного действующего лица упоминается скульптурное изображение Аполлона («Аполлон, убивающий ящерицу»), принадлежащее древнегреческому скульптору Праксителю (340 г. до н. э.). У читателя возникает ассоциация с древнегреческим мифом об Аполлоне, отличающемся исключительной красотой.
Пример 5:
Her eyes, large and liquid, were the eyes of Hera and her smile was affectionate and gracious palms (Maugham, p. 35).
Интертекстуальное включение отсылает к портретному изображению Геры – героини мифа в древнегреческой культуре.
Особенностью полигенетической интертекстуальности в примерах 3, 4, 5 является то, что ссылки на произведения искусства актуализируют не только визуальные образы мифологических персонажей, но и тексты мифов, вдохновившие мастеров на создание шедевров.
Итак, в краткой формулировке полигене-тическую интертекстуальность можно определить как интертекстуальность, соотнесенную с некоторым множеством прототекстов вербального или невербального происхождения. Она проявляется на формальном и смысловом уровнях текста. На формальном уровне полигенетическая интертекстуальность способствует категоризации текстов в семиотическом пространстве, где действует закон о соответствии созданного текста существующим образцам данной группы текстов, что было показано на примере композиционнопрагматической модели художественного произведения. На смысловом уровне полигене-тическая интертекстуальность связывает текст с некоторым множеством прототекстов, принадлежащих к разным жанрам вербального и невербального происхождения, и способствует приращению смысла текста.
Список литературы Полигенетическая интертекстуальность
- Арнольд, И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность/И. В. Арнольд. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. -444 с.
- Бабенко, Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа/Л. Г. Бабенко. -М.: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая кн., 2004. -264 с.
- Валгина, Н. С. Теория текста/Н. С. Валгина. -М.: Логос, 2004. -280 с.
- Воробьева, О. П. Стилистика текста/О. П. Воробьева//Стилистика английского языка/А. Н. Мороховский [и др.]. -Киев: Вища школа, 1984. -С. 196-226.
- Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования/И. Р. Гальперин. -М.: Наука, 1981. -139 с.
- Левковская, Н. А. В чем различие между сверхфразовым единством и абзацем?/Н. А. Левковская//Филологические науки. -1980. -№ 1. -С. 75-78.
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т./под ред. С. А. Токарева. -М.: Большая Рос. энцикл., 1998. -Т. 2. -719 с.
- Москальская, О. И. Грамматика текста/О. И. Москальская. -М.: Высшая школа, 1981. -183 с.
- Петрова, Н. В. Интертекстуальность как общий механизм текстообразования англо-американского короткого рассказа/Н. В. Петрова. -Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2004. -243 c.
- Филиппова, С. Г. Интертекстуальность как средство объективизации картины мира автора: дис.... канд. филол. наук: 10.02.04/Филиппова Светлана Геннадьевна. -СПб., 2007. -199 с.
- Bremond, Ch. Morphology of the French Folktale/Ch. Bremond//Semiotica. -1970. -Vol. 2, № 3. -P. 247-276.
- Broich, U. Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien/U. Broich, M. Pfister. -Tübingen: Niemeyer, 1985. -XII. -373 S.
- Genette, G. Palimpsestes. La littérature au second degree/G. Genette. -Paris: Editions du Seuil, 1982. -467 p.
- Lachmann, R. Gedachtnis und Literatur: Intertextualität in der russischen Moderne/R. Lachmann. -Frankfurt am Mein: Suhrkampf, 1990. -350 S.