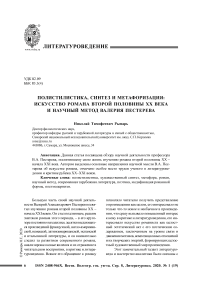Полистилистика, синтез и метафоризация: искусство романа второй половины ХХ века и научный метод Валерия Пестерева
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена обзору научной деятельности профессора В.А. Пестерева, посвятившему свою жизнь изучению романа второй половины ХХ - начала ХХI века. Автором выделены основные направления научной мысли В.А. Пестерева об искусстве романа, отмечено особое место трудов ученого в литературоведении и критике рубежа ХХ-ХХI веков.
Полистилистика, художественный синтез, метафора, роман, научный метод, современная зарубежная литература, поэтика, модификация романной формы, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149131947
IDR: 149131947 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Полистилистика, синтез и метафоризация: искусство романа второй половины ХХ века и научный метод Валерия Пестерева
Большую часть своей научной деятельности Валерий Александрович Пестерев посвятил изучению романа второй половины ХХ – начала ХХI веков. Он стал подлинным, редким знатоком романа этого периода, – в его кругозоре постоянно находились десятки выдающихся произведений французской, англо-американской, немецкой, латиноамериканской, испанской и итальянской литературы, и он внимательно следил за развитием современного романа, анализировал новые явления и их отражение в читательском восприятии, в критике и литературоведении. Всякое его обращение к роману позволяло читателю получить представление о произведении как целом, его интересовало не только что-то новое и необычное в произведении, что сразу вызывало повышенный интерес к нему в критике и литературоведении, его интересовало искусство романиста как целостный эстетический акт с его поэтическим содержанием, заключенным на уровне связи и движения мотивов, композиционных отношений и их творческих энергий, формирующих целостный художественный мир произведения.
Этот замечательный талант литературоведа и мастерство аналитика были связаны с поэтической чуткостью Пестерева, явно обязанной серьезной школе работы с лирическим произведением, но и с особым педантизмом ответственного ученого, не позволявшего себе пройти мимо детали сюжета, не обдумав и не сформулировав оттенки ее поэтического содержания. Играл свою роль и другой «педантизм», связанный с долгом ученого перед его собратьями по литературоведческому цеху, требовавший внимательного отношения к суждениям коллег и критиков, которые отметили в тексте что-то существенное для аналитика эстетического целого или высказали мысль, относящуюся к сути дела.
Можно привести немало примеров замечательного анализа и глубокой интерпретации отдельных произведений романного искусства, которые предлагают эффективные ключи к пониманию художественного целого, добыть которые можно только путем внимательнейшего рассмотрения внутренней структуры художественного текста. В качестве образцов такой работы ученого стоит привести разборы романа Милорада Павича «Хазарский словарь» и романа Милана Кун-деры «Бессмертие» в монографии Пестере-ва «Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия» (1999). Такого рода примеры ответственной работы с художественным текстом должны были бы стать прекрасной школой серьезного литературоведческого анализа поэтики современного романа. Это же нужно сказать и о названной монографии – может быть, единственной настоящей исследовательской книгой о судьбах западного романа на рубеже ХХ-ХХI веков во всех его основных разновидностях. Эта книга должна была бы быть издана большим тиражом и стоять на видном месте в читальном зале каждой университетской библиотеки.
О научном методе Пестерева лучше всего судить на примере названной монографии – исследования, анализирующего ряд важнейших структурных особенностей художественных языков романа второй половины ХХ века. Западный роман ХХ века не раз становился предметом книг и статей, посвященных его жанровому своеобразию. Это широко известные монографии, изданные в советское время в Москве главным образом изда- тельством «Советский писатель» и «Художественная литература»1. Эти книги были посвящены искусству романа главным образом первой половины ХХ века и первых десятилетий после второй мировой войны. Исследования зарубежного романа ХХ века в целом, изданные в основном до 70–80-х годов, не учитывали или лишь фрагментарно учитывали художественный опыт романа второй половины и конца века. Эти публикации в «центральных» издательствах находились под неусыпным контролем идеологического отдела ЦК КПСС. Тем не менее, это были серьезные исследования, в которых влияние советской идеологии не парализовало творческую мысль и интерес к литературным формам уже не ограничивался страхом обвинений в формализме; несмотря на идеологический «железный занавес», эти авторы сумели познакомить читателя с большинством крупнейших явлений западной романной литературы различных направлений, включая модернизм 2. Конечно, в книгах, которые печатались в этих издательствах и выпускались относительно большими тиражами, не могло быть серьезного диалога с мировой литературоведческой и критической мыслью – позиции «буржуазных» литературных критиков и теоретиков литературы могли быть представлены почти только в свете их критической оценки. С конца 80-х и в 90-е годы все изменилось и появилась возможность все читать и все писать открыто, без оглядки на идеологические догмы.
Монография Валерия Александровича Пестерева «Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия» создавалась в эти годы, ученый анализировал литературные явления в широком контексте идей и литературной теории и критики в западном мире, помещая анализируемые им тексты в их «природный» социо-культурный мир, тем самым не только расширяя освещение поставленных в его книге проблем, но и вводя в профессиональный гуманитарный оборот российской науки соответствующие научные материалы, оценки, позиции, беря их не «из вторых рук», как это часто имело место в то время, а из источников. Работа Пестерева последовательно и системно строилась как строгое научное исследование серьезной проблемы, обозначенной в названии монографии и стала одной из самых главных научных работ по поэтике западного романа второй половины ХХ века из вышедших в ХХ веке 3.
Книга охватывает важнейшие явления романного искусства второй половины ХХ века системно, то есть выстраивает типологию направлений развития – модификаций романных форм, делая это на основе исследования их структурных особенностей. Сказанное выше о внимании Пестерева к поэтическому содержанию романных форм есть не просто особенность творческого почерка ученого – это сознательная методологическая позиция в понимании искусства как особой эстетической реальности, «где чувство прекрасного, переживание его автором и читателем, в первую очередь вызывается формой» [6, с. 10]. Восходящее к классической эстетике увязывание «чувства прекрасного» с художественной формой глубоко справедливо, так как именно на уровне формы реализуются в искусстве наиболее глубокие, смысловые интенции, свидетельствующие в творческом акте большого художника о каких-то структурах внеличного и сверхличного опыта человеческого бытия, – об истинах, которые могут быть значительнее осознаваемых художником намерений.
Вместе с тем материал, с которым в данном случае имеет дело ученый или просто читатель, – это роман, жанр, от века дистанцирующийся от метафизики сверхличного и идеального классических жанров прошлых веков, от многовековой истории поэзии и эстетики «прекрасного» и «гармонии». Искусство ХХ века далеко ушло от понятий прекрасной гармонии, но это не означает и не может означать, что оно лишилось доступа к сверхличному как к ценности. Конечно, сверхличное давно стало ценностно проблематичным и перестало мыслится идеальным в смысле причастностности к идеалу. Теперь это противоречиво подменяющие друг друга структуры глубоко личного и коллективного опыта, включающие в себя опыт неоднозначных отношений к другому и к себе, к природе, обществу и миру в целом, к будущему и прошлому. Это и личный, и коллективный опыт «Dasein», опыт присутствия в мире и разнообразных форм то контакта с миром, то его отсутствия: по романному неоднозначный опыт – опыт как непосредственного, так и многократно опосредованного отношения к реальности.
Характерное для научного метода В.А. Пе-стерева обращение к форме означает поиск глубинного художественного смысла анализируемых исследователем форм романа – так ученый ссылается, в частности, на Г. Гачева, характеризовавшего форму как «вещественную, материальную» жизнь «миросозерцания» [3, с. 17, 39] 4. Эстетическое отношение автора к реальности получает содержательные, поэтологически описываемые формы построения художественного текста. И конечно, никак не менее содержательные аспекты заключены в модификациях жанровых форм, которые по определению связаны с природой романа как жанра принципиально незавершенного, способного менять свою поэтологическую структуру ради обновления и углубления своего контакта с действительностью человеческого мира – эти модификации поэтологической структуры полны смысла, и их нужно изучать не только ради науки о романе, но и для понимания того, что происходит с человеком.
Принципиально важно сразу же отметить: проблема современного романа толковалась Пестеревым принципиально исходя не из обще-идеологических, а из «чисто литературных», «жанровых свойств» художественной формы, которые рассматривались им как «константы романной формы», с которыми как жанровыми доминантами «роман не может не считаться» [6, с. 13]. Ученый обращался к тем «доминантам» литературной формы, которые представлялись ему наиболее существенными для понимания процессов и форм жанровой модификации современного романа. Пестерев пытался таким образом нащупать современные типы романного мышления, формирующиеся в динамике развития современной культуры. Так как основной научный интерес был связан именно с процессами модификаций жанровых форм, то выделяемые им «доминанты» жанровой формы – есть та основа, которая позволяет конкретно, типологически исследовать направления развития современного романного мышления, все более утрачивающего в новейшее время четкие жанровые приметы. Пестерев таким образом по-своему конкретизирует бахтинскую мысль об изменчивости романа, указывая на категории, в которых происходит обновление романа в наше время: «Происходящие “метаморфозы” искусства романа связаны с переосмыслением и преодолением жанровых установок, приема, языкового стиля (романной вербальности), формы в целом» [6, с. 14].
Поэтому исследования романа В.А. Пе-стеревым происходят с учетом очень большого многообразия эмпирического материала литературных форм второй половины ХХ века: так в «Введении» ученый перечисляет 8 групп явлений, в которых происходят модификации романных форм [6, с. 14, 15]: множество вариантов второй волны модернизма в 50–60-годы, ангажированный роман, латиноамериканский роман, адаптации «наследия модернизма» в традиционно реалистическом романе и в «массовой беллетристике», национальный симбиоз и синтез культур, приведшие к «интертекстуальному» роману, метапрозе, гипертекстуальности, влияние массовой литературы на «высокую» прозу, воздействие структуралистской и постструктуралистских теорий, деконструкции, постмодернистских практик и их критики, тяга к классике и упорядоченности формы.
Казалось бы, литературовед, встречающийся с целым морем литературных форм романа, и В.А. Пестерев, очень склонный к дотошному и тонкому, всестороннему анализу отдельного произведения и каждой отдельной формы, роли и смысла каждого приема, мог бы отказаться от систематизации этого множества разнообразных вариантов построения романа, тем более что в едва ли не каждом из них встречаются или пересекаются приемы многих других, например, из только названных 8 или даже 10 и более групп, и сосредоточиться на индивидуальных вариантах, на ряде показательных индивидуальностей. Охватить все эти виды модификации романа в одном масштабном исследовании – задача сама по себе очень серьезная и достойная многолетних усилий литературоведа. Эту задачу Пестерев выполнил, однако его учет всех этих направлений модификаций романа не привел к мозаичности, или к многопозиционным классификациям, «таблицам» десятков свойств, или к простому обзору разнообразного мате- риала, так как ученый изучал собственно поэтологические принципы организации романа второй половины ХХ века, позволяющие систематизировать основные особенности и механизмы выстраивания романного целого в разных направлениях модификации жанровых форм. Пестереву удалось соединить столь важный для современного искусства интерес к индивидуальному литературному произведению с научной четкостью и методичностью в учете общих особенностей литературных форм романа изучаемой эпохи.
Так ученый систематически анализирует две важные особенности романного искусства ХХ века как два сквозных принципа поэтологической организации романа в литературе второй половины ХХ – начале ХХI веков. Это принципы и приемы, которые ученый определяет, используя известные понятия «полистилистика» и «синтезирование» . А. Пе-стерев рассматривает различные варианты реализации этих принципов как две соотносимые друг с другом поэтологические особенности романа изучаемой эпохи в целом , как они проявляются практически во всех направлениях модификации романа. Это реально «операциональные», работающие категории современной поэтики, с большой четкостью позволяющие учитывать многие содержательные аспекты художественных языков романа ХХ века.
Полистилистика в понимании Пестерева – это и разностильность языка, и полиструктурность, многосоставность, и гетерогенность, – повествовательная техника, иногда определяемая как «симультанная поэтика», то есть функционирование и взаимодействие разноструктурных компонентов в романе. В.А. Пестерев выделил четыре аспекта этого явления литературы ХХ и ХХI вв.: первый – это «взаимодействие различных художественных систем (эстетических принципов, приемов, образов): античных, восточных, библейских; барочных, романтических, символистских, экспрессионистских». Второй – смешение жанров и жанровых свойств. В-третьих, полистилистика – это цитатность и аллюзии как особенности текста, отражающего «цитатное мышление». И четвертое – соединение различных языковых стилей: образного, научно-теоретического, документальнопублицистического» [6, с. 244].
Идея полистилистики конкретизирует мысль Бахтина о «трехмерности романа» применительно к специфике романа ХХ века: многоязычие здесь – встреча в рамках произведения не только различных стилевых начал, но и внежанровых, внелитературных языков, это еще и набоковская взаимообрати-мость реального и иллюзорного, материала и стиля, и миры научных, визуальных текстов, текстов СМИ, это целенаправленное использование интертекстуальных отсылок, соседствующее с как бы «наивно»-реалистическим, «прямым» изображением действительности. «Романная проза <…> стилизует любой речевой пласт и любой слог литературной речи. И наконец, роман единит в себе все разновидности и свойства художественной формы: синкретизм; синтез образного и понятийного; “форму содержания“ и “форму выражения”» [9, с. 20]; «лирико-поэтическую форму; жизнеподобную и условную; содержательность и саморефлексию формы» [6, с. 7].
Исследования Пестерева изобилуют детальными анализами механизмов взаимодействия и трансформации такого рода разноструктурных форм, например, на стыке, пограничье «реально-достоверного» и символического планов образа, создающие особо содержательный «сплав». Так анализ романа Голдинга «Повелитель мух», притчевых форм романов Фолкнера и Мисимы в монографии раскрывает существенные особенности проблематики и творческой позиции авторов, описание конкретных вариантов полиструктурности романных построений у Робб-Грийе, Кун-деры, Турнье, Павича позволяет глубже понять художественный замысел писателя и более того, специфические черты современного мышления, и не только романного.
С понятием полистилистики соотносимо широко используемое Пестеревым понятие «полиформа». Это его литературоведческий термин, позволяющий выделить важные особенности романного мышления второй половины ХХ века: полиформа – это форма произведения как целого, которое определяется ученым как «произведение смешанных или совмещенных форм» [6, с. 89], – произведение, своеобразие которого заключается в том, что оно как целое имеет множество форм, то есть совмещающих различные модусы организа- ции текста как целое. Так Маркес, стремясь в книге «Сто лет одиночества» к созданию всеохватывающего романа» [2, с. 465], создает полиформу, которая порождает особую разновидность метафоры как сплетения разнородных метафор: эта полиформа совмещает в себе миф, жизнеподобное изображение, традиционно-эпическое повествование, карнавально-игровой элемент, комическое начало, черты «магического реализма», травести. Роман-словарь Павича – структурно иная полиформа, соединяющая в себе гетерогенные явления, взаимодействие внешнеструктурного и внутриструк-турного – упорядочивающего и стихийно-творческого. Эта полиформа порождает свободное внутриструктурное движение, соединение разнородного и разноприродного. Постмодернистский роман-эссе Кундеры – полиформа, доминирующая константа которого – полистилистика, возникающая в единстве интертекстуальности, метатекстуальности, конструктивизма и деконструктивизма как свойств художественного текста [6, с. 244].
Вполне очевидно, что вместе с проблемой разноприродности и разноструктурности романа неизменно возникает и проблема способов синтезирования разнородного и разноприродного материала в некое смысловое единство романа, обладающее определенной многозначностью и порождающее благодаря этому большую смысловую объемность художественной формы. Синтез и формообразование Пестерев рассматривает как основополагающие процессы создания романа [7, с. 154], обновляющийся и новый способ художественного синтезирования, включающий и «полисинтез» [11, с. 84] 5. «Романная проза использует различные языковые стили (среди них, допустим, научный, публицистический, документальный) и стилизует любой речевой пласт и любой слог литературной речи. И наконец, роман единит в себе все разновидности и свойства художественной формы»: это и синтез образного и понятийного, и «синкретизм» того и другого, синтезирование жизнеподобного и условного, «формы содержания» и «формы выражения» [9, с. 20], лирико-поэтической формы, содержательности и само-рефлексии формы» [6, с. 7].
Подводя итоги своему анализу романа Голдинга «Повелитель мух», ученый показы- вает, что Голдинг таким образом «выкристал-лизировал» новую форму романа – роман-притчу: способ ее возникновения и существования Пестерев объясняет как результат синтезирования разнородного материала, как «многоуровневый художественный синтез, явный в синкретизме романно-повествовательного, изобразительного, психологического и притчево-выразительного, символического, пародийно-травестирующего» [6, с. 40]. Категория синтезирования разностильного одна из важнейших в системе Пестерева и связывается с категорией художественной убедительности: так роман Фолкнера «Притча» стал художественной неудачей так как целесообразной соотнесенности разностильного, взаимосвязи разных компонентов притчево-романной структуры и внутреннего структурообразующего единства в романе Фолкнера нет. И хотя в отдельных эпизодах, частных образах и фразах органично синтезируются два доминирующих формообразующих начала «Притчи», художественного слияния эпического и притчевого в структурное целое в романе Фолкнера не происходит [6, с. 50]. Детальный анализ поэтики романа Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества» позволяет Пестереву сделать вывод, что романное целое в этом произведении формируется в ходе синтезации в романе мифа и метафоры, жизненно-реального и творчески-воображаемого, жизнеподобного и фантастического, создавая эффект образной «полиформы» романа. Особый интерес вызывает у ученого «культурный всесинтез и диалог культур, совмещение собственнокультурного измерения (факты культуры, идеи культуры, формы культуры) и литературного (от сюжетного рассказывания и вербальной изобразительности до словотворчества)» [8, с. 8–9]. При этом отмечается и параллельное развитие этих явлений, их смешение и адаптация в противоположных направлениях культуры второй половины ХХ века.
Выдвижение проблемы типа синтезирования художественного целого – несомненно, характерная особенность научного метода Пестерева, необыкновенно внимательного к поэтологическим деталям художественного текста, но неизменно стремящегося описать и аналитически рассмотреть все его аспекты и механизмы под углом зрения проблемы их синтезирующих взаимодействий, в которых формируется художественное целое.
Так в монографии «Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия» анализируются 12 тщательно отобранных крупных произведений романной литературы эпохи, тяготеющих к соединению в себе различных явлений художественного языка эпохи. Пестерев почти замыкается на строении каждого из них, показывая и детально анализируя механизмы особого синтезирования разнородных – стилевых, повествовательных, восходящих к различным жанрам форм и приемов построения произведения, стремясь выйти к пониманию художественного смысла целого. Но таким образом ученый в рамках анализируемого произведения раскрывает характерные особенности типологически определенного направления модификации романной формы. Таким образом ученый структурировал свое исследование многообразнейшего художественного материала, выделив отдельные направления развития литературных форм ХХ века.
Пестерев предложил свое понимание «общеэстетических констант модификаций романной формы». Он определил эти категории как три «представляющиеся „вечными“, но и проблематичные, открытые в истории жанра аспекты», формы или направления модификаций: «условная, традиционная и вне-литературная формы» [6, с. 16]. Каждая из названных Пестеревым констант модификаций не закрыта в себе: условная форма взаимодействует с постоянно обновляющейся традиционной, традиционная – тяготеет к усилению меры условности, и та, и другая – открываются различным «внелитературным формам». Можно заметить, что системе песте-ревских категорий каждой из общих направлений или констант модификации романной формы так или иначе оказываются свойственны тяготения к полиформам, возникающим за счет опять-таки синтезирования разноструктурных, разноприродных, различных стилевых и стилистических литературных и внелитера-турных составляющих романное целое. Учет этих процессов трансформации форм романа с точки зрения названных «констант» позволяет достаточно отчетливо выявить отдельные структурные формы и тенденции их вза- имодействий, явно образующие свои жанровые направления модификации романной формы, которые Пестерев сам перечисляет как ведущие ее разновидности в прозе второй половины ХХ столетия: притчевую, метафорическую, мифологическую, лирическую, поэтическую, иллюзорно-игровую, эссеистическую [6, с. 256].
В.А. Пестерев не стремился раскрыть собственно эстетические и теоретические основания трех «констант» модификации, так как его основной научный интерес не в метафизике эстетического акта и не в теоретических построениях, а в том, как данные жанровые формы реально, содержательно функционируют в конкретном литературном поле культуры, то есть в каких направлениях происходят модификации жанра, что они значат для читателя и критика, какая эстетическая специфика каждого направления модификации наблюдается на уровне отдельного произведения – его поэтики и проблематики. Очевидно, что выделение этих трех констант или направлений модификации романной формы, способов «синтезирования» разнородного материала в рамках одного произведения вполне соответствует именно читательским формам восприятия романной литературы. Речь идет здесь не о сложнейшей проблематике читательской рецепции, что потребовало бы другого большого исследования: Пестерев опирается на основные эстетические особенности романа как особой литературной формы эстетической коммуникации, глубоко связанные с «демократичной» природой романного искусства, немыслимого вне его исконной обращенности к живому процессу общественной действительности. Он обращен к современному, в том числе и «наивному» читателю, не к эстетике риторической традиции, а к живому полю условий современной и даже актуальной эстетической коммуникации, живых реакций общества на роман – как на традиционный, на условный или не отвечающий представлениям о литературности.
Именно с эстетической коммуникацией связано, что произведение романного типа должно обладать определенным эстетическим единством как естественным условием его восприятия как целого. Это проблема формирования целого, которое должно обладать оп- ределенным смыслом – при всей его проблемности, гетерогенности, полистилистики, а также и внутренней противоречивости. Поэтому все константы с необходимостью предполагают определенные способы синтезирования этого гетерогенного образования. И проблема способа синтезирования естественно должна была оказаться здесь тем, что можно назвать творческим началом, обуславливающим специфику, аналогичную той, которую можно определить как жанровую – что и происходит в книге Пестерева, в частности, когда он, завершая свою работу, перечисляет только что названные выше структурные формы произведения как разновидности направлений модификации романа.
Так, первое выделенное Пестеревым направление модификации формы романа, – это, естественно, модификация в сторону повышения меры «условности» художественных форм. Понятно, что этот процесс даже и во второй половине ХХ века, и в начале ХХI века во многом имеет своей точкой отсчета отношение произведения к традиции реалистического романа с его обращенностью к тому, что Пестерев определяет понятием «реально-достоверного». Взгляд на роман с точки зрения его отступления от классической формы актуален далеко не только для читателя первой половины ХХ века, но в не меньшей мере и для читателя второй его половины, как это очевидно, например, для французской школы «нового романа». Это происходит в рамках духовной ситуации эпохи кризиса культуры модерна – в рамках эпохи, в которой назревает восприятие романа не столько как изображения конкретной жизни личности в контексте различных социальных условий, но и как литературной формы, шаг за шагом отказывающейся от традиционных образцов реалистического повествования. Очень понятно, что это связано с изменениями восприятия личностью второй половины ХХ века и начала следующего столетия, то есть эпохи уже после второй мировой войны, – эпохи осмысления ужасающего социально-нравственного опыта человека: «жизнеподобные» «формы самой жизни», отсылая читателя через головы интеллектуалов-художников первой половины ХХ века к культуре века XIX в., стали терять убедительность и, согласно Теодору
Адорно, и в самом деле могли создавать эффект приятия и оправдания духовного состояния и практик действительности, в которой оказались возможны кровавые тоталитарные режимы, геноцид и мировая война. Соответственно появились новые поколения вполне демократического читателя, для которого оказался интересен и важен сам художественный язык, – язык, «переигрывающий» традиционные языки культуры, создающий еще более свободные, чем в первой половине века, литературные формы, обращенные к активности и свободной рефлексии читателя над традиционными сюжетами, стилями. Вся эта традиция – формы европейского сознания, культивируемые школой, опытом чтения старшего поколения, иконами официальных авторитетов ближайшего прошлого. В этой ситуации для читателя постепенно становились интересными постмодернистские, во многом «игровые» тенденции в искусстве, порождаемые той же духовной ситуацией. С другой стороны, условность – это не просто другой язык, – пишет Пестерев, – это «образный способ выявления экзистенциальной сути, которая может быть непосредственно явленной, а также и несказанной; способ, в единстве изображения и выражения предполагающий “констатацию”, “приближение”, “суггестивность”» [6, с. 18].
По понятным причинам не считая необходимым в конце ХХ веке оправдывать новации условной формы, Пестерев основное внимание уделяет детальному анализу нескольких конкретных практик использования условных форм – притчевых и метафорических. Таким образом ученый выделяет действительно важную и для читателя новую тенденцию в романе второй половины ХХ века. Так детальный анализ притчевых форм романов Голдинга, Фолкнера и Мисимы в монографии раскрывает механизмы трансформации романной формы на стыке, пограничье «реально-достоверного» и символического планов образа, создающие особо содержательный «сплав». Роман-парабола возникает благодаря гармонии традиционно-романного и параболического; стержневое в нем – единство противоположностей: динамики романного сюжета или «исследования» проблемы и статичности, формирующей иносказательно-сим- волическую образность, при уравновешенности «изображения» и «выражения» [6, с. 50]. Ученый анализирует поэтику «переключений» от частного к общему, от означающего к означаемому в рамках «экспериментальной заданности ситуации и параболического иносказания» [6, с. 31]. В связи с этим показаны возникающие модификации «техники» притчи, ее трансформации и тенденция превращения ее в миф.
Исследуя романную прозу 60–80-х годов, В.А. Пестерев выдвинул и блестяще обосновал концепцию романа-метафоры и «метафо-ризации как новом и характерном свойстве современного романа» [6, с. 29] и как особом способе синтезирования целого романа из разноприродного – поэтического, интеллектуального и жизнеподобного материала. Особое внимание уделяя французской школе нового романа, он показывает, что в то время как метафоры выступают как одна из составляющих «психологической реальности» романов Н. Саррот, художественное мышление Робб-Грийе – метафорично по своей природе, оно охватывает существование в целом. Жизнь у него – данность, и по сути она лабиринт, но как лабиринт выступает и выражающее ее творческое сознание. Пестерев показывает, что метафорический способ в целом ряде произведений второй половины ХХ века является ведущим способом синтезирования целостности романа. В динамике различных элементов метафоры происходит собственно романная реализация, развертывание отдельной простой метафоры, внутриструктурно согласующей различные элементы художественного мира романа, которые таким образом сообразуются друг с другом и гармонизируются, не утрачивая своей «инаковости». Так на основе развертывания метафорического образа моделируется эстетическая реальность романа [6, с. 100]. Метафора – художественная форма «осмысленности», с которой он, по словам М. Бланшо, «исследует неизвестное» [1, с. 201]. Лабиринт у Робб-Грийе – мир, это реальность кажущегося – миражи, иллюзия как героя-солдата, так и повествующего я; все элементы этого мира, детали, мотивы повторений и тупиков, все их метаморфозы подчинены заглавной метафоре, создающей атмосферу экзистенциального трагизма. Аналогич- но показано, как метафорическое моделирование романа задается развертыванием ядра романа-метафоры – мотива вечно движущегося песка у Кобо Абэ: творческое начало романа «Женщина в песках» – это развертывание поэтической метафоры.
Метафорический синтез, охватывая всецело роман, может проявляться в превращениях и совмещениях разноприродной метафорической образности: в романе «Парфюмер» поэтическая в своей сути романная метафора Зюскинда «аромат как бытие» приобретает качества метафоры интеллектуальной, она интеллектуализуется в двуприродном развертывании, где диалектически отождествляются противоположности добра и зла, они разъединяются, представая и как процесс творения романного мира: метафора творимая и творящая. В романе Маркеса «Сто лет одиночества» миф и метафора, жизнеподобное и фантастическое образуют многочленную метафору, которая развертывается только тогда, когда обретет цельность, стягивая к своему «ядру» отдельные образы. Устанавливая между ними многозначно-переносные связи, метафора-картина порождает художественную реальность. Благодаря сконцентрированности синтезирующей метафорической переносности на всех, фактически, уровнях произведения, а также развертыванию метафоры в романную картину, в современном романе-метафоре происходит замещение «жизнеподобной» реальности метафорической реальностью [6, с. 101].
Исследования Пестерева позволяют задуматься о лежащей в основе романного творчества разнородности способов его синтезирования, которое с развитием искусства в ХХ веке существенно расширяется в смысле активизации и взаимодействия все более далеких друг от друга начал, обнаруживая большой творческий потенциал синтезирующего мирообраз взаимодействия эмпирически разнородного, предстающего то как совершенно эмпирический материал повседневного бытия, то как энергии творческого воображения, выводящие образ далеко за границы бытового, материально-ощутимого, зримого – в чувственное соприкосновение с духовно-интеллектуальными планами современного сознания, с фантастичностью, говорящей о глубоко реальном.
Можно утверждать, что роман – жанр, предполагающий контакт с живой реальностью современного мира, и в конце эпохи модерна он начинает требовать от писателя все более явной аутентичности в самом творческом процессе создания романа, он требует творческой свободы как свободы творческого владения всеми регистрами проникновения в суть современного сознания. Подобно тому, как у Маркеса современный мир, современная психология оказывается и эпической, и мифом, и архаикой, еще и зафиксированными в древней рукописи, а история страны или целой цивилизации процессом ее чтения, во времени направленного и вперед, и назад, к концу или началу, – разрозненная реальность и расщепленное, осколочное сознание двадцатого века предстают как целостность восприятия, моделируемая романом. Можно сказать, что роман ХХ века тем самым выполняет важнейшую культурную функцию: он обеспечивает современного человека, теряющего способность улавливать осмысленную связь в хаотическом многообразии и столь же хаотическом движении современного мира во все менее понятное будущее, которое кому-то снова может показаться концом или непредсказуемым началом, – единством, чувством соизмеримой человеку и человеческому сознанию целостности, обладающим каким-то смыслом, который стоит искать. Конечно, герой романа, но, пожалуй, более важно, что читатель оказывается тем ищущим скрытую целостность героем, о которой писал в своей «Теории романа» Георг Лукач. Хаос мира, бессвязность действительности – все преодолевается, перерабатывается в ощутимо, интуитивно, чувственно и интеллектуально – в единую картину, не линейный образ необозримой для отдельного человека многомерной реальной действительности, обладающий сознательно или бессознательно искомой каждым человеком смысловой целостностью, не утрачивающей ни хаотичности, ни разнородности, ни случайности движения действительной жизни мира, в котором реально живет читатель. Можно полагать, что основанные на совмещениях и разнообразных замещениях и трансформациях разноприродного материала энергии метафоризации романной образности, которые анализирует Пестерев, связаны с этой тягой личности к целостному восприятию и толкованию действительности.
Вторая форма или направление модификации романной прозы, форма, которую Пес-терев характеризует понятием « традиционная », предполагающим, конечно, модификации внутри традиционной формы, кажется, требует от читателя меньше активности и не столь требовательна к уровню навыков восприятия «сложного искусства». Это формы, которые ученый часто называет «реально-достоверными» и «жизнеподобными», нисколько не делают эту литературу менее содержательной и менее глубокой – просто здесь более традиционные практики восприятия романного текста, граница между искусством и жизнью не столь явная, повествователь кажется простым рассказчиком, близким читателю, так что можно более-менее непосредственно и эмоционально сопереживать герою, идентифицироваться с ним. Изменения, которые происходят здесь, Пестерев характеризует, показывая конкретные формы трансформации языков мимезиса, переосмыслений художественных идей «реальности» и «подражания», отмечая существенное возрастание роли вымысла в романе. При этом показано расширение «диапазона имитации в форме – от достоверности копирования форм действительности до подражания формам интеллектуально-духовных состояний», – ученый демонстрирует взаимопереходность реальнодостоверной формы в условную и последней – в первую. К тому же неизбежен в не меньшей многовариантности и синтез этих форм, так что модификации и «метаморфозы» «реально-достоверной формы», имитирующие естественный ход жизни, синтезируют в себе разнородные элементы, образующие, по мнению Пестерева, своеобразный симбиоз «достоверных» и «условных» форм.
С точки зрения современной эстетической мысли использование Пестеревым понятий «жизненно-достоверного» и «жизнеподобного» довольно уязвимо: ведь то, что читателю представляется достоверным или жизнеподобным, обусловлено литературно-художественными конвенциями, большей частью связанными с определенными художественными направлениями и их языками, а также привычками читательского восприятия дей- ствительности и вытекающими из них представлениями о «достоверности» или «правде» искусства.
Тем не менее, Пестерев прав в том отношении, что в известной степени эти понятия диктуются не философией искусства «вообще», а самим жанром романа, тем, что роман порождается читателем, он обладает своей публикой, своим читателем, для которого эти понятия как раз важны и обусловлены ни много, ни мало, самой жанровой природой романа. Ведь роман – литературная форма, которая рождается и живет в непосредственном контакте с «незавершенной действительностью», то есть с читателем, его чувством реальности и его эстетическим, читательским опытом и его опытом чтения романов, – чувством реальности, которые говорят о современной «прозаической» действительности. Роман не может подчиняться исключительно общеэстетическим принципам, так как его герой – «по происхождению» во многом и даже прежде всего – «демократический читатель» – «средний человек», и роман подчиняется этой реальности, тем более, что и сам ею порожден. Конечно, и даже тем более, роман подвержен изменениям как в плане проблематики, стиля, так и в плане общих особенностей его языка как явления, в котором «наглядно», чувственно отражается стиль мышления людей определенной эпохи культуры. Роман обращен к читателю, который ждет от писателя («брата поэта наполовину»6 [12, с. 413]), чтобы роман говорил о «правде жизни», то есть то, что знает и чувствует читатель, чтобы это была занимательная книга об «интересной», «интенсивной» жизни. Тем не менее, это, конечно, не отменяет и запросов «интеллектуального читателя», читателя – ценителя «серьезного», глубокого содержания, эстетически совершенной формы, и роман как жанр эпохи модерна работает на обоих читателей, в том числе стремясь, особенно к концу ХХ века, соединить то и другое в одном, отдельно взятом произведении. Роман не может подчиняться исключительно общеэстетическим принципам, так как его предмет – во многом «демократический читатель», и роман подчиняется этой реальности. Конечно, и даже тем более, роман подвержен изменениям как в плане проблематики, стиля, так и в плане общих особенностей его языка как явления, в котором «наглядно», чувственно отражается стиль мышления людей определенной эпохи культуры.
Эта особенность современного сознания раскрывается Пестеревым на примере романа Мишеля Турнье «Пятница или тихоокеанский лимб» как «многоуровневость традиционной формы». Турнье показателен здесь как писатель «неоклассического толка», ценящий традиционную форму, последовательно рассказываемую «историю», детализованное, чувственно ощутимое – жизнеподобное – изображение. В романе воспроизводятся исторические реалии XVIII в. – эпохи робинзонады Дефо и, до определенного момента, сюжет Робинзона. Но это повествование становится одновременно и «синхронным срезом культуры (жизни) как многоуровнего целостного образования» [6, с. 108] и повторяет сюжет Дефо, раскрывая другие планы его проблематики. В плане художественного языка это осуществляется путём повторов, создающих мифологическое, моделирующее цикличность измерение текста, порождающее различные уровни мифологических символов.
Таким образом Пестерев демонстрирует механизм формирования в романе «духовно-интеллектуальной сферы», иного смыслового уровня текста, благодаря чему, с одной стороны, «готовый сюжет» обретает новое содержание, с другой стороны, созданный в романе миф выступает, как пишет Пестерев, как архетип, а романный мир Турнье, включающий в себя линейно повествуемую историю пребывания на необитаемом острове нового Робинзона, оказывается «крупно-масштабной реализацией» его как «поэтической метафоры» [6, с. 113], допускающей различные прочтения. Важно однако, что эта многоуровневость романа, как детально показано в исследовании Пестерева, синтезируется вплоть до художественного «синкретизма» и симультанности, так что разные смысловые планы не отрицают, а углубляют друг друга. Так делёзовское философское «прочтение романа» «логически выводится» из самого произведения, а «не накладывается» на текст в духе концепции «семантической беспредельности знака-текста» [6, с. 125]. Турнье использует литературные формы, созданные традицией, но не довольствует- ся ими: Пестерев характеризует «логику письма» Турнье как неоклассическую, но указывает на новую разностильность и новое единство неоклассической романной формы – художественный синтез «жизнеподобной формы и притчево-мифологической условности». Выполненный Пестеревым анализ текста романа Турнье может быть образцом литературоведческого метода ученого – скрупулезное наблюдение над «микроскопическими деталями», шаг за шагом ведущее к пониманию все новых аспектов смысла произведения и к закономерностям творческого мышления автора и дальше – к типологическим аспектам формы романа как целого.
Может быть, в еще большей степени эта способность Пестерева научно-объективным способом выявить тонкую поэтическую суть литературного произведения проявилась в анализе романа А.Макина «Французское завещание». Классический французский литературный язык произведений этого автора стал литературным событием во французской культуре – по приводимому Пестеревым выражению Л. Цывьяна, в романе произошло возвращение «в утраченный мир языка» [6, с. 150– 151]. В этом романе-воспоминании произошло, по мнению Пестерева, переосмысление реально-достоверной формы: «ретроспективный» склад речи становится реально-достоверной формой воспоминаний: памяти, воскрешающей прошлое как настоящее. Ученый характеризует стиль этого произведения как рефлективный лиризм и ставит его в контекст письма Пруста и авторов, романы которых следует рассматривать как формы лирического романа – Газданова, Белля, Модиано, Дюрас – большой линии лирической прозы ХХ века в целом, получившей, в силу свойственной ей концепции личности, существенное и важное для культуры эпохи развитие как раз во второй половине века. Неслучайно поэтому для Пестерева эта проза говорит о способности постижения истины, она «жизнеподобна» не столько внешним событиям, сколько реальной жизни внутреннего мира человека: «художественно имитируя духовно-интеллектуальную жизнь человека, имитируя его творческий дух и творческое сознание, [она] жизнеподобна формам памяти, воображения, рефлексии» [6, с. 158].
Таким образом, Пестерев снова указывает на значительное явление художественной культуры ХХ века, заявившее о себе в начале века в творчестве классиков модернизма, и роль которого к концу столетия резко возрастает: это явление можно – и следует – истолковать как быстро прогрессирующую интеллектуализацию искусства, все более уходящего от непосредственно изобразительного, событийного и напрямую социального – искусство конца века предстает как активная работа рефлектирующего жизнь сознания, все более обращенного на самое себя и задающееся вопросами границ познания и самопознания личности.
Необходимо признать, что центром литературы последней трети века становится проблема сознания личности в контексте проблемы культуры, при этом сознание мыслится не столько в индивидуальных его проявлениях, сколько в типологических вариантах его функционирования как различных порождений культуры определенных типов. Эта тенденция откровенно доминирует в романе эпохи постмодернизма и, на наш взгляд, является настоящим предметом третьей части монографии Пестерева «Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия», его статей и коллективной монографии под его же редакцией, посвященной литературе рубежа ХХ–ХХI веков.
Речь здесь идет о третьей «константе» и третьем направлении модификаций романа второй половины ХХ века, которая отчасти определяется Пестеревым несколько парадоксально: как «внелитературные формы». Этот раздел исследования метаморфоз романа в монографии назван «Роль внежанровых и вне-литературных форм в обновлении структуры современного романа». Таким образом Пес-терев выдвинул названную черту поэтики романа как одну из доминирующих констант литературного развития конца ХХ века. Участие внелитературных и внежанровых структур в развитии романа, понятое как существенный аспект модификаций романной формы, очевидно отражает новую ситуацию в жизни европейской художественной культуры – искусство выходит за свои традиционные границы, и это проявляется в радикальных изменениях уже самого материала искус- ства, как это особенно бросается в глаза в визуальном искусстве эпохи. Публику уже не шокирует использование сырого мяса, бетонных блоков, бытового мусора, человеческого тела, гвоздей, чугунных труб, земли и т.д. Все это – в конечном итоге реакции на духовное состояние человека рубежа XX–XXI веков, требующие новых средств их реализации. Здесь сказывается восприятие реальности в ее знаковых и символических аспектах: во всех случаях это миры сознания, требующие переоценки, миры преимущественно отраженные, и конечно, прежде всего отраженные в различнейших формах множества словесных, визуальных, инонациональных, научных текстов, текстов СМИ, текстов, создаваемых бюрократией, все агрессивнее вторгающихся в быт и особенно сознание личности «эпохи глобализации». Постмодернистская культура, рефлектируя над этим словесным и визуальным материалом, отсылает к любым текстам, по-своему перелицовывает материалы, тексты, жанры, мотивы, стили, пародирует их, переходит любые границы или игнорирует все жанровые формы. И это никак не противоречит романной эстетике и поэтике, ведь историческое призвание романа – входить в любые формы жизни, овладевать ими как серьезными, так и ироническими, игровыми способами, извлекая из всего все новые и новые смыслы или смысловые оттенки.
Исследования Пестерева как раз и показывают, как зона контакта романа с действительностью расширяется, становится все более многоаспектной, разнородной, – и как это происходит конкретно. При этом расширяется и представление о сознании человека – роман, еще по справедливому определению Томаса Манна, был искусством «углубления во внутреннюю жизнь» личности. Можно сказать, что это понятие внутренней жизни включает в себя мир внутреннего опыта, личных нравственных переживаний, чувств, надежд, стремлений, разочарований и т. п. Но нужно учитывать, что сознание личности в романе конца ХХ века включает в себя все это, но в более проблематизированном, дистанцированном и типологически-объектном изображении, с углублением в социально и личностно неосознаваемое, психически бессознательное, с более холодной иронией и скепсисом, не от- меняющими человеческое сочувствие; личность все больше кажется понятием условным, литературным примером, имеющим некий «общекультурный» или культурно-исторический смысл, – «жестом», типологически определенным восприятием, наконец, метафорой, проблемой, чем-то таким, что превышает ее индивидуальное проявление и сознание.
Пестерев указывает на особую роль теоретического и эстетического сознания, вторгающегося в художественный мир, на усиление «синтезирующих свойств», которые должны связать «романность повествования» и внелитературные и внежанровые формы, достигая при этом эффектов образной симуль-танности, когда образ становится одновременно и тем, и другим, и третьим, как, например, у Набокова, когда в романе «Бледный огонь» он является и комментарием, и пародией, и иносказанием. В этом романе используются совсем чужеродные роману формы, «деформирующие» сложившуюся структуру жанра и видоизменяющие его формальную природу. Описание строения этого романа позволяет Пестереву выделить характерную особенность поэтики не только самого Набокова – «обнажение приемов», когда писатель «выставляет напоказ свои приемы творчества: стихотворная форма поэмы Шейда и три прозаические части, написанные Кинботом; выделение как самостоятельных четырех частей романа; соблюдение формальных норм поэмы, предисловия, комментария, указателя; внеро-манная форма поэмного произведения и комментария, но как компонентов романа» [6, с. 163]. При этом сюжет романа возникает на стыке комментария и романного повествования, причем «комментарий как-то незаметно оборачивается романным повествованием, переходящим в текст примечаний» [6, с. 170]. Анализируемое Пестеревым построение романа, главными героями которого являются представленный своим произведением поэт и представленный своими комментариями профессор Кинбот, полагающий, что без его замечаний произведение Шейда не имеет человеческой значимости, но в своих внешнетехнически профессионально организованных комментариях и указателях на самом деле говорящий больше о себе, чем о Шейде, демонстрируя свою – несостоятельность?
Конечно, все эти приемы, как указывает Пестерев, в конечном итоге амбивалентно игровые и пародийные, создают объективирующую дистанцию к тому и другому сознанию, в конечном итоге указывающую при этом на границы сознания и самосознания, – как и проблематичность истинного познания. Пародийность Пестерев не зря рассматривает как творческое начало – роль прямой и скрытой пародийности, в том числе самопародии художника в искусстве ХХ века все время возрастает, к концу века раскрывая богатую палитру своих творческих возможностей. Так и использование формы комментария Пестерев связывает с понятием «бокового зрения» А. Пятигорского, обнаруживающего смысл, который «может оказаться ответом, никогда не содержащимся в вопросе» [10, с. 237], в данном случае – «отстраненным взглядом на природу творчества, искусства и творения» [6, с. 171].
Не менее значительные аспекты использования внелитературных направлений модификации романа Пестерев раскрывает в блестящем анализе творческих возможностей «поэтической формы» романа «Хазарский словарь» М.Павича, в котором созданная автором форма «словаря словарей» убедительно, и, на мой взгляд, замечательно точно, трактуется как «поэтическая форма», уподобляемая автором «фигуративно-стихотворной» в поэтическом искусстве. Пестерев развивает идею «поэтического романа» Ж.-И. Тадье [15, p. 91–93] 7: такая форма «предполагает суггестивное и эхоподобное образотворчество – художественный синтез диффузного взаимо-сплетения…» и в романе совмещается с такими прозаическими аналогами версификации, как «ритм, строфа, звукопись (музыкальность)»: если Данте мыслит терцинами, а Пруст периодами, то Павич мыслит словарными статьями [6, с. 195] – «Чувство прозаического периода и романной фразы, архитектоника глав (их законченность, многовариантность или произвольность членения, разбивка на подглавки и т. д.), многообразие «повторов», звуковая оркестровка – все эти элементы – с акцентом на внешней, осязаемой, зримой организации – включаются во внутри-структурную динамику произведения, в его образотворческую стихию» [6, с. 182].
В одном ряду с «Хазарским словарем» и параллельно к его тексту ученый анализирует фильм П. Гринуэя «Книги Просперо», рассматривая оба произведения как произведения поэтической формы, в которой возрождается барочный стиль, в частности, и с характерной для него близостью ко всему богатству и разнообразию стихийно-природных начал. Думается, что интеллектуализм ХХ века, даже на исходе столетия, на самом деле не противопоказан художественному интуитивизму, что и сказывается в тяготении поздней культуры к чувственным началам, мифопоэ-тике и мифу, метафоризму, к которому снова и снова – и неизбежно – возвращается мысль ученого, стремящегося охватить основные черты художественного мышления романа конца ХХ века. В сложных интеллектуальных конструкциях романа живет также и неустранимое стремление личности к полноте и целостности бытия, к чувственно-эстетическому выражению того, что не улавливается сетью абстрактных понятий и отдельных социально-функциональных потребностей.
Так Пестерев трактует форму словаря как поэтическую метафору – метафору знания о человеческой цивилизации и метафору человеческой истории как ее культурном срезе (191), это роман о мировой культуре в трех книгах «словаря» [4, с. 248]. Разрозненность, раздробленность жизни современного человека на изолированные функциональные задачи и «компетенции», навязываемые и управляемые рационально-социальным сознанием потребности, кажется, отражаются в постмодернистском отрицании системности, связности, единства, но искусство на самом деле не следует за теорией и наукой, и не удовлетворяется бытовым опытом. Фрагментарная поэтика словарных статей, как и других произведений Павича, многими рассматривается как постмодернистская 8, – Пестерев же говорит о «поэтическом преображении постмодернистского стиля, о его пластической совмещенности с поэтической структурой» [6, с. 206]. Как всегда, Песте-рева интересуют не просто технологии поэтики, а собственно поэтическое начало искусства, его аналитика поэтики – это аналитика поэзии, и мысль о синтезировании разноприродного и разноструктурного является мыслью об искусстве – в жанрах современного романа.
Если прочитать название последнего подраздела «Роман и эссе» в контексте песте-ревского понимания искусства, то можно сразу заметить содержащееся в этом названии указание на творческое начало современного искусства – встреча новой пары противоположностей традиционно романного и творческой рефлексии – порождающих в данном случае романно-эссеистический синтез. Романность изначально связана с органикой жизненного движения и развития, эссе – литературная форма интеллектуальной рефлексии. Вместе с тем, как видно из книги Пестерева, современный роман – это органика, но изломанная и расчлененная на фрагменты, что, однако, соответствует и жанровой специфике эссе с его «бессвязным» стилем, в котором, по М. Эпштейну, происходят «парадоксальное совмещение различных способов миропостиже-ния» и «мгновенные переключения из образного ряда в понятийный, из отвлеченного – в бытовой» [14, с. 345].
Специфические особенности этой формы как примера модификации романа Пестерев анализирует на примере замечательного романа М. Кундера «Бессмертие». Ученый очень содержательно интерпретирует функции мотива жеста в романе, справедливо рассматривая его как «первую идею замысла». Возникая и повторяясь «в разных контекстах и в разных воплощаемых формах (то понятий-но, то образно, то синтезируя художественное и теоретическое) как лейтмотив, [мотив жеста] создает монтажный ритм, в котором соединяются изобразительный и эссеистичес-кий пласты книги Кундеры, переключаются из одного в другой» [6, с. 213]. Очень точно сказано: «соединяются» и «переключаются из одного в другой». Вместе с тем мотив жеста, на мой взгляд, можно рассматривать и как мотив, указывающий на порождающий принцип внутренней структуры романа-эссе, на способ порождения художественной целостности. В жесте бессознательно обнаруживает себя органическое начало жизни личности, в силу своей природы это начало может лежать за пределами сознания его носителя, но и для внешнего наблюдателя смысл жеста может быть проблемой, – при том, что жест явно высказывает нечто неложное, истинное, подлинную жизнь, заслоненную привычными, но, возможно, внутренне неубедительными словами; это нечто, идущее из глубины «натуры» человека и может быть, из самой «природы вещей». Литературное эссе – жанр интеллектуальной работы, направленной прежде всего на разгадку чего-то существенного для человека, что не лежит на поверхности и не покрывается тем, что мы понимаем. Задача эссе, занятого проблемой жеста – понять те начала, которые управляют человеком в его внутреннем мире посредством схватывания того не известного, в чем он не свободен внутри самого себя. Таков путь эссе к целостности личности, и здесь ему нужны факты, которые могут показаться случайными или необычными, но для искусства это то «возможное по вероятности или по необходимости», – главное в поэзии, о котором писал Аристотель; для романиста они-то как раз самое захватывающее и самое интересное; для эссеиста они способны неожиданно указывать на то другое, чего мы обычно не видим. Неслучайно Пестерев выделяет замечание Кундеры – «жест более индивидуален, чем индивид» [6, с. 214].
Так строится роман «Бессмертие» – мыслительная, то есть творческая работа автора, его романный сюжет – откровенный поиск ключей к скрытой целостности внутренней жизни европейского человека. Предмет рефлексии писателя и эссеиста – жизнь, и прежде всего именно внутренняя жизнь личности. Эссеистическая мысль естественно порождает персонажей романа.
Романист Кундеры размышляет о том, что руководит поступками людей, создавая их модели и анализируя факты действительности. Работа Пестерева – глубокий анализ этой работы автора. Разбирая часть романа, которую он называет «эссеистическим романом в романе о Гете и Беттине», ученый показывает, как в переключениях от приема к приему и от ракурса к ракурсу развивается тема бессмертия, и происходит это «в пределах общего стилевого свойства этого вставного романа – интерпретации» [6, с. 234]. Но интерпретация и переинтерпретация свойственны роману Кундеры в целом: «Интерпретация Кундеры рационалистическая, свойство, проявляющееся в отборе фактов истории Гете и Беттины, в меняющемся ракурсе освеще- ния их и в логике связи, в соотнесенности хода осмысления и его итогов. Кундера то включает эту линию прошлого в современный пласт романа, выявляя общую суть малого бессмертия Беттины и Лоры; то эссеистически освещает историю Гете и Беттины, излагая «на вечном суде» свидетельства Рильке, Роллана, Элюара». По мысли Пестерева, история Гете и Беттины – «частное целое» в романе, но она вписана как частное в целое романа Кундеры, она взаимодействует с другими «частностями» «Бессмертия» [6, с. 235–236]. Представляется возможным утверждение, что рядом с главными героями романа всегда есть другой главный герой – развивающаяся мысль автора, вовлекающая в свое движение другие темы, которые, однако, оказываются моментами интерпретации основной темы – темы бессмертия как проблемы личности эпохи модерна, Я и Другого, связанной с проблемой гипертрофии души личности, определяемой как homo sentimentalis.
«Эссеистическая “энергия развития” – это, по сути, энергия формы. <…> Разноприродный материал изменяет ракурс и расширяет “семантическое поле” романной темы бессмертия. Однако постоянная изменяемость приемов, их повтор в новом виде, то плавный (смягченный или вообще завуалированный) переход приема в прием, то обнажение их “стыков” – все это создает форму, которая опережает меняющийся смысл, задает ход мысли и ее нежданные повороты» [6, с. 231–232].
Усиленный акцент на интерпретирован-ности создает проблемность и экспериментальность – источники эссеизма, но и роман-ности как таковой, ведь роман – в том числе и в его греческих и римских истоках, в мен-нипейных жанрах, жанрах серьезно-смехового и карнавальной традиции – это никогда не изображение просто жизни «как она есть», это ее особенная (жанровая) интерпретация, а тем более в эпоху модерна – роман, как и эссе – в той или иной степени всегда пробле-матизирующие и остраняющие существующие в культуре формы ее понимания и ценности. В ХХ столетии, а особенно к концу века, в эпоху постмодерна искусство, роман как и эссе – сознательно занимаются переинтерпретацией как жизненных, так и лите- ратурных сюжетов, что действительно провоцирует на приемы демонтажа, на переключения в иной модус повествования, мышления и аргументации.
Эта постмодернистская проблематика занимала значительное место в творчестве Пестерева – к ней его выводят романы Кун-деры (см. раздел «Бессмертие как постмодернистский роман»), ей посвящено учебнометодическое пособие для студентов «Постмодернизм и поэтика романа. Историко-литературные и теоретические аспекты» – введение в изучение постмодернистского романа. Проблематика постмодернизма так или иначе становится предметом многочисленных статей и сборников научных трудов, в коллективной монографии под редакцией В.А. Пес-терева «Искусство романа на рубеже ХХ– ХХI столетий. 1990–2015» (Волгоград, 2015).
Характеризуя постмодернистскую поэтику, Пестерев, суммируя написанное о ней, перечисляет общеизвестные ее особенности 9, сочувственно цитируя Ильина, который писал, что постмодернизм складывался, синтезируя «теорию постструктурализма, практику литературно-критического анализа деконструктивизма и художественную практику современного искусства, и попытался обосновать этот синтез как “новое видение мира”» [5, с. 199].
Пестерев был знатоком теоретических работ по искусству постмодернизма, постструктуралистских философских идей и концепций деконструкции. Но у него была твердая позиция – толковать постмодернистский роман и постмодернистское искусство не исходя из философско-теоретических работ, которые считаются «философской основой» постмодернизма, а опираясь на изучение поэтики произведений, причисляемых – в том числе и им самим – к постмодернизму именно как искусству 10. То есть он требовал не отождествлять философию и литературу – действительность постмодерна с особенностями ее культуры, ее мышления и понимания человека,- считая, что постмодернистский роман должен восприниматься и пониматься прежде всего как искусство, в том числе – «высокое искусство», которое не теорией живет, а развивается в соответствии со своими собственными художественными принципами, хоть и вполне очевидно соотносимыми с прин- ципами мышления, описываемыми философами постмодерна. Пестерев считал, что «постмодернизм отражает состояние современной цивилизации и в этом смысле… – один из феноменов современного словесного творчества. Постмодернизм закономерен и в истоках от барокко до модернизма, и как явление художественной культуры 70-х – начала 90-х годов» [6, с. 240].
Пестеревская концепция постмодернистского романа формируется на материале изучения практики романного письма второй половины ХХ века – и это прекрасно видно из его основного труда по проблеме романа: принципы полистилистики и синтезирования художественного целого у него рассматриваются и как принципы, несомненно лежащие в основе и постмодернистской поэтики, но полистилистика рассматривается им в данном случае в ее радикализированном варианте «культуры крайностей» – в модусе «обнажения приемов» – как гетерогенность, рядоположен-ность и стыковка разноприродного материала, как диалог форм и приемов, приобретающих самостоятельность и самоценность.
Однако полиформы постмодернистского искусства могут напоминать «теоретическую постмодернистскую ризому», не имеющую ни центра, ни периферии [13, с. 99], но в художественной практике, например, Кундеры, Каль-вино, Барнса, – пишет Пестерев, – «налицо контекстуальное единство всех стилистических элементов, соподчиняющихся в целостности и единственности авторского сознания» [6, с. 246]. Пестерев исходит из целостности романа «как текста, имеющего начало и конец», что обуславливает «общение» и объединение в нем его стилей и приемов. Роман есть целое, в своей единичности отражающее единство образа авторского сознания, а через него – единство образа действительности, что в большей мере свойственно современной романной прозе. Цельная и единая форма романа определяется автором, но в процессе ее создания, творения [6, с. 248].
Завершая обзор идей В.А. Пестерева об искусстве романа, хочется еще раз отметить особое место трудов ученого в литературоведении и критике рубежа ХХ–ХХI веков: в эпоху, когда литературное произведение стало рассматриваться как текст, прежде всего отражающий и таким образом документирующий структуру сознания современной личности, закономерности мышления, реакций и типологических форм поведения, их обусловленности психо-физическими свойствами человека, социальными, экономическими, политическими, рыночными и т. д. условиями и процессами, Валерий Александрович Песте-рев, понимая и учитывая эти интересы разных наук о человеке, признавая их оправданность и ценность, исследовал в произведении прежде всего само искусство писателя и поэта, неповторимую творческую личность художника. Его интерес к поэтике был интересом к искусству, к поэзии в универсальном смысле слова.
Список литературы Полистилистика, синтез и метафоризация: искусство романа второй половины ХХ века и научный метод Валерия Пестерева
- Бланшо, М. Роман о прозрачности / М. Бланшо // Робб-Грийе А. Проект революции в Нью-Йорке /А. Робб-Грийе .– М..: Ad Marginem, 1996. – С. 195– 201.
- Габриэль Гарсиа Маркес, Марио Варгас Льоса – диалог о романе в Латинской Америке // Гарсиа Маркес Г. Собрание сочинений в 3-х тт. / Г. Гарсиа Маркес. Т. 3. – СПб. : Альянс-Плюс. Максфер. Симпозиум, 1997. – С. 439–473.
- Гачев, Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Драма / Г. Д. Гачев. – М. : Просвещение, 1968. – 302 с.
- Добровольский, М. Соль в хазарском горшке / М. Добровольский // Иностранная литература. – 1997. – № 3. – С. 247–249.
- Ильин, И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм, Постмодернизм / И. П. Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 256 с.
- Пестерев, В. А. Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия / В. А. Пестерев. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 1999. – 312 с.
- Пестерев, В. А. Динамика формы в романе Пола Остера «Невидимый» / В. А. Пестерев // Искусство романа на рубеже ХХ–ХХI столетий, 1990– 2015. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2015. – С. 143–168.
- Пестерев, В. А. Об искусстве романа рубежа XX и ХХI столетии / В. А. Пестерев // Искусство романа на рубеже ХХ–ХХI столетий, 1990–2015. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2015. – С. 5–16.
- Подорога, В. А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: С. Киркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, М. Пруст, Ф. Кафка / В. А. Подорога. – М. : Ad Marginem, 1995. – 427 с.
- Пятигорский, А. М. Чуть-чуть о философии Владимира Набокова /А. М. Пятигорский // Пятигорский А.М. Избранные труды. – М., 1996. – С. 231–241.
- Хангельдиева, И. Г. Искусство: выразительность формы и художественный синтез / И. Г. Хангельдиева // Вестник МЭГУ. – 1994. – № 2. – С. 84–89.
- Шиллер, Ф. Собр. соч. : в 7 т. / Ф. Шиллер. – М. : Гослитиздат, 1955–1957. – Т. 6. – 790 с.
- Эко, У. Заметки на полях «Имени розы» / У. Эко // Иностранная литература. – 1988. – № 10. – С. 88–105.
- Эпштейн, М. Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX–XX веков / М. Н. Эпштейн. – М. : Советский писатель, 1988. – 417 с.
- Tadié, J.-Y. Le roman au XX siècle / J.-Y. Tadié. – P. : P. Belfond, 1990. – 226 p.