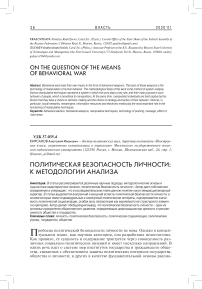Политическая безопасность личности: к методологии анализа
Автор: Кирсанов Анатолий Иванович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные научные подходы, методологические основы и сущностные характеристики понятия «политическая безопасность личности». Автор дает собственное определение и утверждает, что в исследовательском плане данное понятие носит междисциплинарный характер. В статье выделяются внутренний и внешний аспекты политической безопасности личности, в основе которых лежат индивидуальные и совокупный политические интересы, подчеркивается значимость политической социализации, особая роль патриотизма как важнейшего ее структурного элемента (критерия). Автор делает обобщающий вывод, что политическая безопасность личности - один из основных приоритетов общественного развития, определяющих цивилизационную зрелость и прогрессивность общества и государства.
Личность, политическая безопасность, политическая социализация, политические угрозы, государство, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170171368
IDR: 170171368 | УДК: 37.035.4 | DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7040
Текст научной статьи Политическая безопасность личности: к методологии анализа
П роблема политической безопасности личности не нова. Однако в концептуальном плане, как научная категория, она разработана недостаточно.
Как правило, ее сущность и содержание трактуется через совокупность различных социально-политических явлений и имеет несколько направлений. В одних речь идет о системе мер институтов государства и гражданского общества, связанных с обеспечением защиты политических интересов государства, общества и личности; в других в качестве фундаментальной основы рассма- тривается ненасильственный характер социальных отношений, исключающий применение военной силы; в третьих ядром политической безопасности считается максимальное снижение уровня социальной и политической напряженности в обществе; в основе четвертых лежат выводы и рекомендации политической конфликтологии о путях достижения внутри- и внешнеполитической стабильности [Асеев 2017; Вахрамеев, Кулешов 2003; Грищенко 2008; Павленко 1998] и т.д. Есть и другие подходы. Так, В.Ф. Дармокрик считает, что современная политическая безопасность России представлена в двух ракурсах – как официально-формальная и реальная (неформальная) политическая безопасность [Дармокрик 2007: 11]. Первая сопряжена с защитой интересов официальной власти, политики и государства от глобальных, региональных и локальных угроз внешнего и внутреннего характера; вторая – в противовес первой – во главу угла ставит политические интересы личности и общества и акцентирует внимание на угрозах, которые могут исходить (или исходят) от самого государства, политики и власти. Угрозы со стороны государства связаны с усилением тенденций (возможностью скатывания) к авторитаризму, чрезмерной централизацией управления; угрозы со стороны официальной власти – с ее криминализацией и ростом коррупции, неравной фактической юридической ответственностью чиновников и рядовых граждан; угрозы со стороны политики – с закрытостью и недостаточной гласностью ее формирования, принятия важных политических решений, неразработанностью или неразвитостью действенных механизмов реального обеспечения политической безопасности как личности, так и всего общества [Дармокрик 2007: 12].
В силу указанных причин ученый (В.Ф. Дармокрик) предлагает рассматривать политическую безопасность не через отдельные политологические категории (политические ценности и т.д.), а через целостную системную категорию «политическая система общества», что, по его мысли, дает возможность исследовать политическую безопасность как комплексное явление, специфический социально-политический феномен и анализировать только процессы и явления, которые непосредственно связаны с политической властью, что будет свидетельствовать, по его мнению, о «чисто политологическом» (а не междисциплинарном) подходе к изучению данного феномена.
Думается, что такое (внешне понятное) стремление придать феномену политической безопасности специфическое обособление от других социальногуманитарных наук кругом проблем функционирования политической власти, во-первых, противоречит первоначальной посылке о системном подходе в рамках политической системы общества: «изнутри» политическая безопасность характеризуется не только спецификой политической организации, но и состоянием политического сознания населения, его отношением к политическому руководству страны и политическим лидерам; во-вторых, значительно сужает содержание политической безопасности, которая выходит за эти рамки ввиду наличия политических, социально-экономических, духовно-идеологических и иных внешних угроз, полный и глубокий анализ которых одной политологии не по силам.
Мы полагаем, что политическая безопасность – категория междисциплинарная, в раскрытие сущности и содержания которой, кроме политологии, вносят свой значительный вклад и другие политические науки – политическая философия, политическая антропология, политическая социология, политическая конфликтология, политическая психология и др. Кроме того, политическая безопасность как сложное явление имеет две стороны: сущностную и деятельностную, которые находят свое отражение в динамическом равновесии политической системы общества (именно динамическом, поскольку безопасность не может базироваться на неизменности своего качественного состояния). Поэтому политическую безопасность следует рассматривать не только в традиционном плане – как состояние и условия защищенности государства, общества и личности от внутренних и внешних политических угроз [Российская… 1995: 19], но и как деятельность институтов государства и гражданского общества по защите политических интересов своих граждан.
Представляется целесообразным выделять внутренний и внешний аспекты политической безопасности. Первый аспект (внутриполитическая безопасность) неразрывно связан с обеспечением стабильности и эффективности функционирования институтов власти, поддержкой их большинством населения, тесным взаимодействием с институтами гражданского общества, отсутствием или нейтрализацией радикально настроенной политической оппозиции, экстремистских организаций и иных дестабилизирующих факторов социального развития. Второй аспект (внешнеполитическая безопасность) во главу угла ставит национальные интересы и независимую политику государства в их отстаивании, без чего говорить о государственной, общественной и индивидуальной безопасности было бы неверным. При этом оба аспекта политической безопасности в современных условиях характеризуются взаимопроникновением: проблемы, традиционно считавшиеся внутриполитическими, все более обретают международно-политическую значимость и наоборот. По сути, это наиболее важные теоретико-методологические положения, характеризующие сущность и структурное содержание феномена политической безопасности в целом, опираясь на которые, можно перейти к вопросу о политической безопасности личности.
Чаще всего политическая безопасность личности рассматривается под углом зрения субъектно-объектных отношений. При этом личность является объектом обеспечения безопасности, а субъектами выступают многочисленные государственные и общественные институты, социальные группы, корпорации, семья, другие личности [Холод 2004: 14]. Однако при такой трактовке личность предстает перед нами как пассивный участник этого процесса, ожидающий обеспечения безопасности от названных (и других) субъектов. Необходимо добавить, что любая личность является не только объектом, но и субъектом обеспечения собственной политической безопасности. С учетом этого замечания под политической безопасностью личности следует понимать такую организацию жизнедеятельности человека, при которой личность способна защищать и отстаивать свои права, свободы и другие политические ценности, а государство и общество гарантируют ей предупреждение, локализацию, нейтрализацию или устранение угроз в политической сфере жизни.
Внутренняя структура политической безопасности, характеризующая ее «изнутри», в зависимости от характера опасностей и угроз включает в себя: а) безопасность политико-культурных и ценностно-ментальных оснований политической социализации личности; б) безопасность политических убеждений и мировоззрения; в) безопасность прав и свобод личности; г) безопасность выражения личного мнения, выражения политических чувств и эмоций; д) безопасность политического поведения в рамках закона.
Соответственно, внешняя структура политической безопасности личности, выражающая ее взаимодействие с окружающей социальной средой, предполагает: а) политическую безопасность личности в системе межличностных отношений; б) идентификационную политическую безопасность (в системе групповых отношений); в) институциональную политическую безопасность (в отношениях с институтами государства и гражданского общества); г) профессиональную политическую безопасность (в отношениях внутри професси- ональных структур); д) корпоративную политическую безопасность (в отношениях с общественными структурами).
Подобное структурирование политической безопасности личности охватывает широкий спектр субъектно-объектных отношений – от обоснования необходимости реальной защищенности ее политических интересов и потребностей до безопасного в рамках закона политического поведения и практической деятельности в политической сфере жизни общества.
Мы считаем, что и внутренняя, и внешняя структура политической безопасности личности зиждутся на ее политических интересах, их социально-политических функциях и механизмах реализации, поскольку именно в политическом интересе проявляется и закрепляется отношение личности к политикокультурным ценностям и общественно-политическим институтам в целом. Политический интерес представляет ту внутреннюю силу, которая побуждает личность к общественно-политической активности, практическим политическим действиям. Как справедливо указывал Гельвеций, «на земле интерес есть всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета» [Гельвеций 1938: 34].
Как справедливо замечал известный российский философ И.А. Ильин, «все граждане имеют, помимо многих различных, противоположных или одинаковых интересов и целей, одну, единую цель и один общий интерес» [Ильин 1994: 151], который распространяется на обеспечение их безопасности и одновременно «позволяет каждому реализовать себя в рамках тех возможностей, которыми обладает данная нация» [Ильин 1994: 152].
С учетом роли политических интересов в обеспечении политической безопасности личности перейдем к общей характеристике тесно связанных между собой элементов ее внутренней структуры.
Безопасность политико-культурных и ценностно-ментальных оснований политической социализации личности связана, с одной стороны, с личностной духовной ориентацией человека, с другой – с условиями процесса его политической социализации, существующими при данном политическом режиме в стране. В политологическом срезе структуры духовных ценностей личности специалисты, как правило, выделяют а) демократические ценности, характеризующие реальные политические права и свободы личности; б) общезначимые социально-политические ценности (социальная справедливость, социальная ответственность, социальное признание, социальный статус, чувство долга, патриотизм); в) прагматические политические ценности (политическая компетентность, политический профессионализм, политическая карьера) [Борщевский 2012].
При демократическом политическом режиме, являющемся величайшим завоеванием цивилизации, граждане имеют широкие права и свободы, позволяющие им не только создавать необходимые для свободного волеизъявления институты, но и использовать их для непосредственного участия в определении устройства государства и управлении им. Такой режим предоставляет возможность отстаивать политические интересы различных социальных групп и слоев, используя для этого механизм сдержек и противовесов в системе власти, благодаря которому снижается возможность концентрации власти в рамках отдельного политического института или отдельной социальной группы.
Разумеется, политическая социализация личности предопределена стандартами политической жизни общества, влияющими на тот или иной тип ее (личности) политического поведения, лежащий в русле политической культуры данного общества. Наиболее важным в этом процессе является то, что личность, осознанно принимая устоявшиеся политические традиции, уходит от полити- ческого отторжения и становится активным участником социально-политических процессов, что способствует политической преемственности и укреплению политической стабильности общества. С определенной долей вероятности можно утверждать, что какой тип политической социализации господствует в обществе, таким будет и доминирующий тип политической безопасности личности. Так как политическая социализация носит динамический характер, формируя представления о приемлемых формах политического поведения личности, движение к политическим идеалам, детерминирующим устремления и поведение человека, аналогичный характер носит и политическая безопасность личности, выражающая степень ее защищенности в политической сфере жизни социума.
Важную роль во внутренней структуре политической безопасности личности играет ее приверженность определенным политическим идеалам – специфическим формам отражения глубинных конкретно-исторических политических интересов общества и личности, в ряду которых особое место занимает патриотизм.
Патриотизм – одно из важнейших условий и факторов обеспечения политической безопасности государства, общества и личности, возрождения традиционных российских духовных ценностей. Особенность российского патриотизма состоит в том, что он наднационален и надконфессионален, что делает его специфическим «цивилизационным феноменом», во многом объясняющим «смысловую доминанту российской государственности» [Патриотизм как фактор… 2015: 7]. Этот феномен, по словам президента РФ В.В. Путина, носит исторический характер, поскольку он опирается на прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего многонационального народа, на нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни.
Патриотизм и политическая безопасность государства, общества и личности тесно взаимосвязаны между собой. Эта взаимосвязь проявляется в функциональности патриотизма, который консолидирует общество на основе осознанного приоритета политических ценностей и интересов Отечества, мобилизует на преодоление связанных с этим препятствий и трудностей, способствует укреплению единства и целостности общества. Иными словами, патриотизм – это своеобразный индикатор не только политической, но в целом национальной безопасности, объединяющей в себе безопасность государства, общества и личности в самом широком понимании этого слова [Кокорин 2009: 37].
Понятие патриотизма в современных условиях наполняется новым содержанием: оно не ограничивается, как раньше, готовностью с оружием в руках защищать свою Родину, а предполагает формирование способности противостоять совокупным внешним и внутренним угрозам в самом широком их спектре. Мы считаем, что самой значительной из них является именно духовная угроза разобщения общества, угроза потери чувства национального (общероссийского) достоинства и родства, напрямую сопряженная с утратой нравственных ориентиров и долговременных ценностей. Сегодня обязательно нужно искать эффективные пути, средства и методы патриотического ценностно-формирующего воздействия, без которых политическая безопасность государства, общества и личности как единое целое недостижимы.
Что касается безопасности политических убеждений и мировоззрения, то она выражается через представления людей о политическом устройстве страны, их отношение к провозглашенным государством политическим идеалам и целям, принимаемым политическим руководством решениям и путям их реализа- ции, а также через правовые и нравственные нормы политического поведения. Достаточно часто политические убеждения переплетаются с другими личными убеждениями людей, связанными с их приверженностью к конкретным светским или религиозным ценностям, моральным принципам, которые, в свою очередь, оказывают влияние на их электоральное поведение, участие в политических партиях и организациях, политических (в т.ч. протестных) движениях, митингах, демонстрациях и т.д., что в целом характеризует процесс политической социализации личности1.
Безопасности политических убеждений и мировоззрения отводится важное место в политической сфере в силу того, что она играет значительную роль в обеспечении порядка, социальной стабильности и целостности общества, в нахождении политических компромиссов между государством и обществом, государством и личностью, обществом и личностью, связанных с политическими противоречиями между ними, несовпадением их политических интере-сов2. Иными словами, политические убеждения и взгляды, характеризующие личностное политическое мировосприятие человека, предопределяют и его политическое поведение.
Большую значимость в структуре политической безопасности личности имеют прагматические ценности, такие как политическая компетентность и устремленность к достижению высокого статуса в личной карьере. Политическая компетентность – это интегративная характеристика, представляющая собой совокупность качеств, необходимых для успешной деятельности как в политической, так и иных сферах жизни общества. Ее влияние на обеспечение политической безопасности личности раскрывается прямолинейно и носит позитивный характер: чем выше политическая компетентность, тем выше политическая защищенность личности.
Следует подчеркнуть, что это особенно важно для молодежи и людей среднего возраста, озабоченных неясностью жизненных перспектив в современной России. Как показывают исследования, представители этой возрастной группы, образованные и достаточно компетентные в вопросах политической жизни общества, проявляют значительный интерес к возможности найти себя за рубежом, в европейских и других западных странах, в которых уровень жизни выше, чем в нашей стране. Так, по данным портала Superjob.ru , в конце 2009 г. 53% молодых людей с высшим образованием в возрасте до 30 лет (из которых 63% – мужчины и 47% – женщины) хотели бы жить и работать за границей (их выбор чаще всего падает на США, Германию, Великобританию, Израиль)3. В 2011 г. Институт общественного проектирования констатировал, что 17% россиян в возрасте до 35 лет однозначно хотели бы уехать из страны и 32% всерьез думали об этом [Колин 2010: 35]. По данным Росстата и ФМС РФ, в период 2010–
2013 гг. из России ежегодно уезжали около 100 тыс. чел.; а в целом 15% всего трудоспособного населения хотели бы навсегда покинуть Россию, в т.ч. в возрасте до 35 лет к этому готов каждый четвертый (25%)1. Летом 2014 г. уехать из России хотели почти половина высокообразованных молодых специалистов. По данным на 2017 г. в докладе «Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии» Всемирного банка, из России выехали 10,6 млн чел. – больше уехавших из Украины, Белоруссии и Молдовы вместе взятых, причем в основном моло-дежь2. Причины здесь разные: безусловно, можно говорить, что отчасти имеет место утрата многими молодыми гражданами Российской Федерации чувства гордости за свою страну, забвение традиций и важных событий в ее истории, неуважительное отношение к гражданскому долгу и т.п., но нельзя отрицать и того, что одной из важных причин является низкий по сравнению с развитыми западными странами уровень социально-экономического положения основной массы россиян. С учетом отмеченного выше проблема обеспечения политической безопасности личности в современных условиях состоит преимущественно в том, что значительное число политически активного населения, в т.ч. молодежи, недостаточно четко идентифицируют себя с ходом политического развития России, в результате чего дистанцируются от насущных и актуальных общегосударственных и социально значимых задач в пользу первоочередного решения собственных индивидуальных (нередко бытовой направленности) проблем, что ослабляет их собственную политическую безопасность, которая не может быть полноценной вне связи с политической безопасностью общества и государства.
В последние годы этому, безусловно, способствуют сопутствующие внутри- и внешнеполитические и экономические обстоятельства, связанные не только (возможно, и не столько) с политическими и экономическими санкциями Запада против Российской Федерации, но и с глубоким социально-экономическим расслоением населения, когда доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных слоев, по словам известного ученого-экономиста в области анализа и моделирования социально-экономических процессов А.П. Шевякова, разнятся более чем в 40 раз3. Социально-экономическая дифференциация ставит под сомнение крепость единых общенациональных ценностей, разводит по разным полюсам экономические и политические интересы этих социальных групп и слоев, что повышает уровень социально-экономической и политической напряженности и однозначно снижает степень политической безопасности и государства, и общества, и личности. Диалектика здесь проста: низкий уровень политической безопасности личности – признак слабости самого общества и государства, индикатор объективной необходимости их преобразования в качественно новое состояние. И наоборот, обеспечение стабильности социального развития, повышение уровня материального и социального благосостояния всего населения есть одновременное обеспечение стабильной политической безопасности личности. Для этого, однако, личность должна стать приоритетом общественного развития на основе диалога с властью и обществом, во главу угла которого положен совокупный социально-политический интерес. Как замечают А.С. Ахиезер и В.В. Ильин, «проявление идеи права возможно лишь тогда, когда в обществе возникает легальный механизм постоянного, повседневного диалога между людьми, осознавшими потребность в нравственном самоутверждении личностного начала» [Ильин, Ахиезер 1997: 315]. Это же справедливо и по отношению к государству, которое призвано гарантировать защиту прав и реализацию социально-политических интересов личности.
Наконец, необходимо указать еще на один важный момент: своеобразным посредником в обеспечении политической безопасности в системе «государство – личность» являются институты гражданского общества, поскольку степень их защищенности как самоорганизованных структур, действующих в рамках закона и потому свободных от вмешательства государства, придает всей системе политической безопасности социально значимый смысл: они обеспечивают безопасность личности от каких-либо проникновений государства в «поле личной автономии» [Стариков 1996: 30], в систему жизненных принципов (выбор которых целиком и полностью является приоритетом самой личности) и являются определенным гарантом от скатывания государства (официальной политической власти) к авторитаризму и тоталитаризму. Политическая практика многих государств мира подтверждает это.
Все отмеченное выше говорит о том, что рассматривать политическую безопасность личности следует в расширенном формате, с учетом всего комплекса взаимозависимых прямых и непрямых угроз, прежде всего в целях установления справедливости и защиты жизненно важных интересов граждан.
Список литературы Политическая безопасность личности: к методологии анализа
- Асеев А.Д. 2017. Политическая безопасность России в системе национальной безопасности. - Novainfo. № 58. С. 482-487
- Борщевский Г.А. 2012. Роль государства в формировании преемственного исторического сознания в контексте проблемы обеспечения национальной безопасности России. - Знание. Понимание. Умение: информационный гуманитарный портал. Доступ: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/1/Borshchevskiy_Continual-Historical-Consciousness/ (проверено 21.01.2020)
- Вахрамеев А.В., Кулешов С.Г. 2003. Политическая безопасность и стабильность в Российской Федерации. - Национальная безопасность России Декларации и реальность. М.: Вузовская книга. 260 с
- Вознесенская О.В. 2000. Безопасность личности в чрезвычайных ситуациях: философско-политологический анализ: автореф. дис. … к.филос.н. М.: АФПС РФ. 21 с
- Гельвеций К.А. 1938. Об уме. М.: Соцэгиз. 395 с