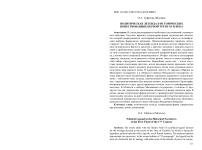Политическая легенда в исторических повествованиях первой трети XVII века
Автор: Туфанова Ольга Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается необычная для сочинений, посвященных событиям Смутного времени, литературная форма политической легенды, под которой подразумевается легендарный политический эпизод со специфическим набором формальных признаков. Проанализированные варианты демонстрируют два процесса. В Хронографе второй редакции легенда оформляется в виде исторического факта по аналогии с другими записями о передаче власти в связи с приближением смерти царя. Перед нами - неразвитый сюжет, сведенный по типу изложения к традиционной летописной жанровой форме погодной записи, а потому почти лишенный эмоциональности. Но факт этот носит легендарный характер, поскольку не встречается в более ранних текстах и имеет специфический набор структурных компонентов. Важнейшие среди них - мотив отсутствия прямого наследника престола, мотив называния имени преемника, мотив родства, передачи власти дальнему родственнику, мотив злого страдания вместо получения дара царского венца. В псковской повести «О царском избрании на Московское государство» и в «Повести о победах Московского государства» легенда обретает иную литературную форму, нашедшую выражение в композиции: зачин - собственно текст легенды, запечатленный в виде пророческого предсказания - пространная концовка. Все ведущие мотивы, встречающиеся в Хронографе, воспроизводятся и в двух других вариантах легенды, хотя и в трансформированном виде. В «Повести о победах Московского государства», в отличие от двух других текстов, пророческое предсказание облекается в форму монолога царя. В целом, данная литературная форма восходит к древнерусской традиции предсказания судьбы человека, но имеет свой композиционный и тематический канон, обусловленный конкретным политическим заказом - необходимостью обосновать разными способами законность власти Михаила Федоровича Романова.
Политическая легенда, литературная форма, пророческое предсказание, мотив, композиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149127204
IDR: 149127204 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00094
Текст научной статьи Политическая легенда в исторических повествованиях первой трети XVII века
В отечественной медиевистике неоднократно отмечалось, что словесное искусство Древней Руси не допускало литературного вымысла [см., например: Травников, Ольшевская 2007, 7]. Вместе с тем средневековый историзм, проявляющийся прежде всего в том, что героями литературы XI-XVII вв. «являются преимущественно исторические личности» [Кусков 1989, 8], носит весьма своеобразный характер, поскольку очень часто «в произведении самым причудливым образом переплетались два плана: реально-исторический и религиозно-фантастический» [Травников, Ольшевская 2007, 7]. И если в древнерусской литературе старшего периода вымысел «проникает из фольклора или встречается в переводных произведениях» [История 1985, 6], то в XVI-XVII вв. появляется целый ряд произведений, написанных на вымышленные сюжеты или включающих подобного рода эпизоды. И в этом смысле развитие древнерусской литературы можно рассматривать как движение от факта к вымыслу
В памятниках, посвященных событиям Смутного времени, в сжатом виде наблюдается именно эта тенденция. Публицистику 1598-1612 гг. отличает злободневность, стремление зафиксировать факт, эмоцию, она содержит порой жесткие оценки исторических деятелей и страстные призывы. В исторических сочинениях, созданных после 1612 г, посвященных этим же событиям, авторы старались осмыслить причины Смуты, дать обстоятельные биографические очерки, развернутое описание событий. Именно на этом этапе и появляются в отдельных памятниках эпизоды, в которых (правда, не всегда отчетливо) проступают контуры новой для сочинений, посвященных событиям Смутного времени, литературной формы - политической легенды. Под политической легендой мы подразумева- ем в данном случае легендарный политический эпизод со специфическим набором формальных признаков.
Легенда обнаруживается в трех памятниках: Хронографе второй редакции по списку Московской Синодальной библиотеки, опубликованном А. Поповым, «Повести о победах Московского государства» и псковской повести «О царском избрании на Московское государство», - но имеет разное художественное воплощение.
Самый ранний и самый лаконичный текст легенды о том, что последний из Рюриковичей царь Федор Иванович, не оставивший наследника по себе, передал жезл правления Романову, читается в Хронографе второй редакции: «Благословилъ же приказалъ быти по себГ на престолГ Московского Государьства Русюя земли братаничю своему по матери Феодору Никитичю Романова, племяннику родному благовГрныя царицы и всликэя княгини Анастасш матери своея, обаче же козшю лукавою и предкновешемъ Московского болярина и конюшего Бориса Годунова та-коваго дара не сподобился еще же и злострадательствомъ злГ пострада» [цит. по: Изборник 1869, 188].
Легенда привязана к конкретному историческому времени. Ей предшествует краткая запись о смерти царя Федора Ивановича: «В лГто 7106 Ген-варя въ 7 день угасе свГща страны Руск1я, померче св^тъ православ!я, Государь царь и великш князь ©еодоръ Ивановичь всея Русш самодержецъ пр1емлетъ нашеств!е облака смертнаго, оставляетъ царство временное и отходить въ жизнь вечную, быль на rocnoflapbCTBt 13 л^тъ и 7 мГсяцей и 10 дней, отрасли же сродств!я своего не оставилъ по себГ, и тако Руськихъ царей родъ конецъ доздГ ста» [Изборник 1869, 188].
Форма представления легендарной информации напоминает своим лаконизмом летописные погодные записи, у которых, как отмечал И.П. Еремин, «своя особая сфера повествования: она регистрирует смерть того или иного князя, митрополита, игумена; рождение у князя сына или дочери, основание церкви, те или иные стихийные бедствия <...>» [Еремин 1968, 52].
В приведенных выше фрагментах на первый взгляд мы имеем дело именно с такой «регистрацией» смерти и передачи власти родственнику. Запись носит строго документальный характер, отсюда и «характерная протокольность изложения, фактографичность» [Еремин 1968, 52]. Само построение: сообщение о смерти царя / князя (называется точная дата -год события, день и месяц), обозначение времени правления (какое количество лет, месяцев, дней царствовал), имя того, кому передал власть или кто ее законно / незаконно унаследовал, - традиционно для Хронографа второй редакции.
Так, рассказывая о смерти царя Ивана Васильевича, составитель использует ту же самую схему: сообщение о смерти царя (называется точная дата - год события, день и месяц: «Въ лГто 7092 марта въ 19 день» [Изборник 1869, 185]), обозначение времени правления («быть на царствГ 49 л^тъ» [Изборник 1869, 185]), имя того, кто законно унаследовал власть
(«и по немъ сяде на престолъ Россшскаго царства благородный сыпь его государь, царь и великш князь Феодоръ Ивановичь» [Изборник 1869, 185]), наконец, упоминание о том, что Иван Васильевич перед смертью «приказалъ правити по себ^» » [Изборник 1869, 185], т. е. передал власть.
Аналогичным образом строится запись о смерти царя Бориса Годунова: «Въ лГто 7112 государь царь и великш князь Борись Федоровичь всея Русш Самодержецъ преставися Ма1я въ 13 день, во иноцЬхъ БоголГнь; быль на Московскимъ государьствГ 7 л^тъ и 6 мГсяцъ, а всего поживе 53 лГта, и по немъ сяде на государство Московское сынъ его Федоръ Борисо-вичь» [Изборник 1869, 191]. Тот же принцип записи - в рассказе о смерти сына Бориса Годунова и воцарении Лжедмитрия I [см.: Изборник 1869, 191-192].
И даже рассказывая о событиях, далеких по времени от написания Хронографа, составитель частично воспроизводит эту же схему. В рассказе о восшествии на престол князя Ивана Васильевича составитель отмечает точную дату смерти великого князя Василия Васильевича (год события, день и месяц), а также называет имя того, кто законно унаследовал власть: «Въ 6970 преставися на МосквГ князь великш Василш Васильевичь марта въ 28 день. <...> А по немъ сяде на великое княжеше болшш сынъ его князь Иванъ Васильевичь...» [Изборник 1869, 168].
На основании вышеприведенных примеров можно с уверенностью утверждать, что текст рассматриваемой легенды тематически соответствует аналогичным записям, завершающим тот или иной рассказ о правлении князя / царя и, строго говоря, не может восприниматься как легендарный, ибо наделен всеми фактографическими качествами, как и другие фрагменты. Вместе с тем перед нами именно политическая легенда, если учесть как минимум два факта: время составления Хронографа второй редакции, а также отсутствие информации не только о передаче власти Романову, но и вообще о самом факте передачи власти царем Федором Ивановичем в публицистике Смутного времени, созданной в период 1598-1612 гг. Исключение составляет «Повесть о житии царя Федора Ивановича» патриарха Иова, написанная между 1598 и 1605 гг. [Памятники литературы Древней Руси 1987, 559], в которой автор тоже сокрушается о том, что «по немъ царъского его корени благородных чад не остася», и потому он «по себГ вручив скифетръ благозаконной супруге своей благоверной царице и великой княгинГ ИринЬ Федоровне всеа Русии» [Памятники литературы Древней Руси 1987, 118].
Сюжетно легенда практически не разработана в Хронографе второй редакции, но в ней обнаруживаются значимые компоненты:
-
1) мотив отсутствия прямого наследника престола: «отрасли же сродств!я своего не оставилъ по себ^» [Изборник 1869, 188];
-
2) мотив называния имени преемника: «...приказалъ быти по себ^... Феодору Никитичю Романова...» [Изборник 1869, 188];
-
3) мотив родства, передачи власти дальнему родственнику вследствие отсутствия прямого наследника: «Благословилъ же приказалъ быти по 114
себЬ на престолЬ Московского Государьства Руск1я земли братаничю своему по матери Феодору Никитичю Романова, племяннику родному благовТрныя царицы и велик!я княгини Анастасш матери своея...» [Изборник 1869, 188, курсив мой. - О. Г.];
-
4) оценочный мотив власти как дара: «таковаго дара не сподобился»;
-
5) мотив злого страдания вместо получения дара царского венца: «оба-че же козшю лукавою и предкновешемъ Московского болярина и конюшего Бориса Годунова таковаго дара не сподобился еще же и злострадатель-ствомъ злЬ пострада» [Изборник 1869, 188].
В легенде, приводимой в Хронографе второй редакции, практически отсутствуют какие-либо изобразительно-выразительные средства, за исключением книжного эпитета, которым составитель сопроводил имя княгини («благов’Ьрныя царицы и велик!я княгини Анастасш матери своея»), а также традиционного для литературы о Смутном времени тавтологического выражения: «злострадательствомъ злЬ пострада» [Изборник 1869, 188]. Обращает на себя внимание и отсутствие сакрального начала.
Перед нами - неразвитый сюжет, сведенный по типу изложения к традиционной летописной жанровой форме погодной записи, цель которого -зарегистрировать «определенный исторический факт, не входя в подробности» [Еремин 1968,52], а потому почти лишенный эмоциональности. Но факт этот носит легендарный характер, поскольку не встречается в более ранних текстах и имеет специфический набор структурных компонентов.
Таким образом, приведенный в Хронографе второй редакции текст, очевидно намеренно не выделенный составителем из ряда аналогичных фрагментов, излагает события маловероятные, но представлены они как действительный исторический факт. И потому все детали и мотивы выверены, легенда строго привязана к конкретным историческим лицам и времени, и «протокольная» фактографичность подчеркивает важность сообщаемой информации.
Несколько иначе представлена эта легенда в двух других памятниках -псковской повести «О царском избрании на Московское государство» и «Повести о победах Московского государства». В этих произведениях легендарный факт из Хронографа второй редакции о передаче престола Федору Никитичу Романову трансформируется в полноценные политические легенды об избрании на царство Михаила Федоровича Романова - сына Федора Никитича.
Наиболее близок к первоначальному варианту текст в псковской повести. Но, в отличие от Хронографа, автор художественно оформляет эту информацию не как исторический факт, а как пророческое предсказание: «Его же (те. Михаила Романова. - О.Т.) отцу беодору Никитичю брать по матери блаженныя памяти царь ©еодоръ Ивановичь якоже пророчествуя и провидя... <.. >. Того же блаженнаго царя <.. > Господь Богъ прослави <.. > вдаде ему на исходъ души даръ пророчеств!я, иже и сбысться по пророчеству его...» [цит. по: О царском избрании 1851, 63].
Оно более развернуто в сюжетном плане, чем текст в Хронографе, но в целом столь же лаконично [см.: О царском избрании 1851, 63]. Здесь можно выделить аналогичные Хронографу значимые компоненты, хотя и в частично трансформированном виде:
-
1) царь Федор Иванович пророчествует «на исходъ души»; о его смерти прямо не упоминается, не сообщается точная дата, не обозначается, какое количество лет правил, но событие сравнительно точно исторически локализовано: упоминаются конкретные исторические лица в конкретной исторической ситуации;
-
2) мотив отсутствия прямого наследника престола: «видГ бо себе единого посл’Ьдняго сына царска роду скончевающася, а по немъ иного не остающася» [О царском избрании 1851, 63];
-
3) мотив называния имени преемника; точнее, в тексте нет прямого именования, но есть указание на то, что «от сГмени его (Федора Никитича. - О.Т.) воцаритися иматъ въ Руси на Московскомъ государств^» [О царском избрании 1851, 63];
-
4) мотив родства, передачи власти дальнему родственнику: «Его же (т. е. Михаила Романова. - О.Т.) отцу беодору Никитичю брать по матери блаженныя памяти царь ©еодоръ Ивановичь <...> вдаде ему жезлъ свойцаръской...» [О царском избрании 1851, 63]. Причем автор дважды на сравнительно небольшом отрезке упоминает о том, что царь Федор Иванович «вдаде» «жезлъ свой царъской», т. е. добровольно передал власть двоюродному брату.
Оценочные мотивы власти как дара и злого страдания вместо получения царского венца в тексте самой легенды отсутствуют. Имя Бориса Годунова не упоминается. Вместо этого - пророческое предвидение о том, что власть раба временна: «и раба своего видГ возвысящася и воцарю-ющася, но на время се бысть» [О царском избрании 1851, 63], а в дальнейшем - упоминание о возвращении патриарха Филарета (в миру - Федора Никитича Романова) из плена. И под «даром» в тексте понимается не власть, а способность человека прозревать будущее, дар предсказания. Для характеристики же власти автор использует традиционный библейский символ - «рогъ царства».
Если в Хронографе второй редакции легенда завершает рассказ о правлении царя Федора Ивановича, то в псковской повести она вписана в контекст рассказа об избрании на царство Михаила Федоровича Романова. Роль своеобразного зачина в легенде выполняет сообщение о том, что народ воспротивился желанию бояр и избрал на царство не иноверца, а «вто-раго Михаила». Столь же своеобразна и довольно пространная, по сравнению с текстом самой легенды, концовка: «...воздвиже Богъ паки преже падшее его царство, и обнови въ Росш, и посади на престолГ царя благочестива и благородна, великого князя Михаила беодоровича всеа Русш. Якоже древле Царьградъ очистися Михаиломъ царемъ отъ Латинъ, такоже и нынГ въ Руси бысть: возвиже Богъ на царьство тезоименитаго Архистратига силы его Михаила, зГло кроткаго, тихаго царя, Христова подражателя и дяди своего наследника <.. .>, и далъ Богъ благодать и въ мире тишину и благоденство <...>. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе его» [О царском избрании 1851, 63].
В обрамлении к основному тексту легенды автор дает исторический контекст и проводит значимые параллели, играя именем Михаил. В результате получается любопытная триада, проливающая свет на авторское восприятие событий: храбрый князь Михаил Скопин-Шуйский, которого прочили царем Руси, - царь Михаил, очистивший Царьград (вероятнее всего, автор псковской повести имел в виду императора Никеи Михаила VIII (1261-1282) Палеолога, который летом 1261 г. отвоевал Константинополь (Царьград, как называли его на Руси) и благодаря этому смог восстановить, хотя и не полностью, Византийскую империю), - Архистратиг Михаил, глава святого воинства ангелов. В этом контексте становится понятна и завершающая концовку фраза: «...Богъ воздвиже рогъ спасешя людей своихъ мышцею своею, <...> Господь Богъ воскресилъ въ Руси паки отъ своихъ Рускихъ людей и отъ царска роду, и обновися имъ царство» [О царском избрании 1851, 63]. В псковском варианте легенды, таким образом, особенно в обрамлении, большую роль играет сакральное, автор многократно подчеркивает участие Бога в возрождении Московского государства и избрании на престол Михаила Романова. Имя избранного народом царя вызывает положительные воспоминания о деятельности храброго Михаила Скопина-Шуйского, о восстановлении Византийской империи. Его родство с увядшей ветвью Рюриковичей, подчеркиваемое многочисленными эпитетами и прямыми сравнениями с царем Федором Ивановичем, освящает законность его власти и объясняет «тишину и благоденство», которое обрела Русь.
В целом, политическая легенда, впервые появившаяся в Хронографе как исторический факт, в псковской повести получает вполне определенную литературную форму, нашедшую выражение в композиции: зачин -собственно текст легенды, запечатленный в виде пророческого предсказания, - пространная концовка. В псковском тексте более развита система изобразительно-выразительных средств, представленная и эпитетами, и сравнениями. Огромную роль здесь, в отличие от Хронографа, играет сакральное, а именно хорошо развитый мотив Божьего участия в избрании на царство Михаила Романова, пронизывающий все три части легенды. Вместе с тем все ведущие мотивы, встречающиеся в Хронографе, воспроизводятся и в псковском варианте, хотя и в трансформированном виде. Поэтому мы можем, правда, весьма осторожно, говорить в данном случае о том, что эти памятники зафиксировали разные стадии формирования необычной для исторических сочинений о Смуте литературной формы политической легенды.
Дальнейшее развитие этой «малой» формы отразила «Повесть о победах Московского государства». Как и в псковской повести, здесь легенда имеет трехчастную структуру:
-
- зачин с доминантным мотивом Божьего участия в избрании на царство Михаила Романова («И божиею милостью, помощию пречистыя Бо-
городицы и заступлением московских чудотворцев изобрал господь бог государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа России на Московское государство февраля в 22 день» [цит. по: Повесть 1982, 35];
-
- собственно текст легенды (пророческого предвидения);
-
- пространная концовка, содержащая рассказ о поведении самого избранного и народа в связи с его воцарением, характеристику молодого царя.
Сакральная тема в «Повести о победах...» ослаблена, мотив Божьего участия появляется только в зачине (в концовке используется один эпитет - «богоизбранный») и довольно быстро сменяется мотивом родства Михаила Романова с Рюриковичами, пронизывающим все три части. Так, в зачине автор повести пишет о том, что «всем государством» просили «у матери его, инокини Марфы Ивановны», чтобы он «сел бы на престол деда своего, блаженныя памяти государя царя и великаго князя Иоанна Василиевича, и дяди своего, царя и великаго князя Феодора Иоанновича, <...> понеже он, государь, ближняго корени царска и ближний сродник царю Феодору Иоанновичю...» [Повесть о победах 1982, 35]. В тексте самой легенды упоминается, что царь Федор Иванович передает царство «своему ближнему сроднику» [Повесть о победах 1982, 36]. В концовке автор снова акцентирует внимание на том, что избранный царь «ближняго сродника блаженной памяти государю царю и великому князю Иоанну Васильевичу и сыну его, царю и великому князю Феодору Ивановичу всея России...» [Повесть о победах 1982, 36].
В концовке легенды в «Повести о победах...», как и в концовке псковского варианта, звучит мотив радости людей по поводу избрания Михаила Романова. В псковской повести он представлен довольно скупо, а в «Повести о победах...» более развернут: «О се бо государе вси людие возра-довашася <.. > яко некое безценное сокровище от многих лет обретоша и всю печать свою, и скорбь, и многое разорение забывающе...» [Повесть о победах 1982, 36].
Текст собственно легенды имеет внутреннюю драматургию. Здесь смешиваются принципы рассказывания Хронографа и псковского автора, и вместе с тем наблюдается и нечто новое, что не встречалось в двух предыдущих вариантах. Автор называет точную дату (год) события: «Во 106 (1598) году тогда той благочестивый государь издалеча провиде духом от бога избраннаго сего благочестиваго царя, еще тогда сущу ему быти по младенчестве...» [Повесть о победах 1982, 35]. И, судя по финальной фразе, завершающей собственно текст легенды, царь Федор Иванович пророчествует незадолго до смерти. Однако если в Хронографе второй редакции и в псковской повести царь Федор Иванович передавал так или иначе престол Федору Никитичу Романову, то в «Повести о победах...» он велит «пред себя принести богоизбраннаго сего царя и великаго князя Михаила Феодоровича» [Повесть о победах 1982, 35]. И далее автор рисует весьма пафосную сцену: царь Михаил Федорович «возложив руце свои на него и рече: “Сей есть наследник царскаго корени нашего, о сем бо царство
Московское утвердиться, и непоколебимо будет, и многою славою прославится. Сему бо предаю царство и величество свое по своем исходе, своему ближнему сроднику”. Сие слово тайно рек и отпусти его» [Повесть о победах 1982, 36]. Пророческое предсказание облекается в форму монолога царя, но в этой речи и в авторских комментариях, обрамляющих ее, сохраняются знакомые по двум другим текстам мотивы: мотив пророческого предсказания в преддверии смерти, мотив называния имени преемника, мотив родства, передачи власти дальнему родственнику. Сохраняется и мотив страдания, но в обобщенном, неконкретном виде, упоминается имя Бориса Годунова, в царствование которого и начинаются многие беды; из контекста не совсем понятно, кто принимает страдания, предположительно автор имел в виду избранного еще во младенчестве Михаила Романова, хотя прямо об этом не говорится.
Легенда в «Повести о победах...» столь же бедна изобразительно-выразительными средствами, как и два другие варианта. Автор использует в качестве постоянного эпитета, тесно слитого с именами царей Федора Ивановича и Михаила Федоровича Романова, эпитет «благочестивый» (дважды по отношению к Федору Ивановичу и дважды по отношению к Михаилу Романову), кроме того, в разных вариациях по отношению к Михаилу Федоровичу применяется эпитет «богоизбранный».
ГП. Енин, открывший «Повесть о победах Московского государства», анализируя источники, которые мог использовать в работе над своим сочинением автор, одним из первых обратил внимание на легенду, поскольку она была неизвестна по другим сочинениям о Смуте. Он писал, что легенда, «посвященная Михаилу Романову, исправляет другую легенду о передаче престола Федором Ивановичем боярину Федору Никитичу, отцу Михаила Романова, содержащуюся в мемуарах Конрада Буссова и в Хронографе редакции 1617 г.» [Енин 1982, 115]. Нам представляется сомнительным утверждение об исправлении легенды.
Во-первых, легенда о передаче скипетра Федору Никитичу в изложении Конрада Буссова, в отличие от русских вариантов, носит явно травестийный характер, да и весьма сильно отличается по содержанию. Согласно «Московской хронике», царица Ирина Федоровна обратилась с просьбой к смертельно больному супругу передать скипетр ее брату. «Но царь, - пишет далее К. Буссов, - этого не сделал, а протянул скипетр старшему из четырех братьев Никитичей, Федору Никитичу, поскольку тот был ближе всех к трону и скипетру. Но Федор Никитич его не взял, а предложил своему брату Александру. Тот предложил его третьему брату, Ивану, а этот - четвертому брату, Михаилу, Михаил же - другому знатному князю и вельможе, и никто не захотел прежде другого взять скипетр, хотя каждый был не прочь сделать это <...>. А так как уже умиравшему царю надоело ждать вручения царского скипетра, то он сказал: “Ну, кто хочет, тот пусть и берет скипетр, а мне невмоготу больше держать его”. Тогда правитель (так К. Буссов называет Бориса Годунова. - О.Т.) <...> протянул руку и через голову Никитичей и других важных персон, столь долго заставлявших упрашивать себя, схватил его» [Буссов 1998, 13]. С легендой из Хронографа второй редакции этот текст сближают только имена: в «Московской хронике» царь «протягивает скипетр» Федору Никитичу Романову, а в Хронографе он «приказалъ быти по себ^» ему Но на этом сходства и заканчиваются.
Во-вторых, сопоставление трех русских вариантов легенды о передаче власти / пророческом предсказании приводит к выводу о том, что русский вариант в трех разных памятниках имеет самостоятельное, и вполне вероятно более позднее, происхождение и никоим образом по содержанию и стилистике не связан с легендой, излагаемой К. Буссовым. Более того, все три варианта в древнерусских исторических сочинениях при некоторой разнице художественного воплощения пронизывают сходные мотивы, следовательно, они, скорее всего, имели один и тот же, к сожалению, не обнаруженный пока устный источник.
Трудно не согласиться с ГП. Ениным в том, что в основе легенды (добавим, во всех трех вариантах) лежит цель «доказать законность его избрания царем» [Енин 1982, 116]. Этой цели не было у К. Буссова, который довольно часто в разных фрагментах своей книги иронично-презрительно описывал наблюдаемые в Московском государстве события. Поэтому, на наш взгляд, неверно утверждать, что в «Повести о победах...» содержится исправленный вариант легенды, очевидно, что перед нами - оригинальные тексты, имевшие один источник.
Таким образом, рассмотренные варианты политической легенды демонстрируют два процесса: в Хронографе второй редакции легенда оформляется в виде исторического факта по аналогии с другими записями о передаче власти в связи с приближением смерти царя, в псковской повести «О царском избрании на Московское государство» и в «Повести о победах Московского государства» легенда, как новая для сочинений о Смуте «малая» литературная форма, обретает законченный вид и развивает заложенные еще в Хронографе ведущие мотивы. Чем более времени проходит с момента воцарения Михаила Федоровича Романова, тем более совершенную художественную форму обретает легенда и тем «большим разнообразием и большей смелостью в обновлении традиций» [Демин 2015, 125] отличаются варианты. Несомненно одно: данная литературная форма восходит к древнерусской традиции «предсказания судьбы человека с целью объяснить события божественной предопределенностью» [Енин 1982, 116], но имеет свой композиционный и тематический канон, обусловленный конкретным политическим заказом - необходимостью обосновать разными способами законность власти Михаила Федоровича Романова.
Список литературы Политическая легенда в исторических повествованиях первой трети XVII века
- Буссов К. Московская хроника // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. "Новый летописец". М., 1998.
- Демин А.С. Древнерусская литература как литература (О манерах повествования и изображения). М., 2015.
- Енин Г.П. "Повесть о победах Московского государства - новонайденный памятник древнерусской литературы // Повесть о победах Московского государства. Л., 1982. С. 73-134.
- Еремин И.П. Лекции по древней русской литературе. Л., 1968.
- Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы русской редакции. М., 1869.
- История русской литературы XI-XVII веков: Учеб. для студентов пед. интов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит". / Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье и др.; под ред. Д.С. Лихачева. 2-е изд., дораб. М., 1985.
- Кусков В.В. История древнерусской литературы. 5-е изд., испр. и доп. М., 1989.
- О царском избрании на Московское государство // Полное собрание русских летописей. Т. VI: Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851. С. 62-66.
- Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI - начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М., 1987.
- Повесть о победах Московского государства. Л., 1982.
- Травников С.Н., Ольшевская Л.А. История русской литературы. Древнерусская литература: учебное пособие для вузов. М., 2007.