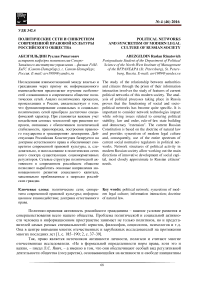Политические сети и синкретизм современной правовой культуры российского общества
Автор: Абезгильдин Руслан Ринатович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (46), 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследование взаимоотношений между властью и гражданами через призму их информационного взаимодействия предполагает изучение особенностей сложившихся в современном обществе политических сетей. Анализ политических процессов, происходящих в России, свидетельствует о том, что функционирование социальных и социально-политических сетей приобрело достаточно специфический характер. При становится важным учет воздействия сетевых технологий при решении вопросов, связанных с обеспечением политической стабильности, правопорядка, построения правового государства и «расширения» демократии. Действующая Российская Конституция базируется на доктрине естественного права и обеспечивает синкретизм современной правовой культуры, а, следовательно, и использование в политических сетях всего спектра существующих соционормативных регуляторов. Сетевые структуры политической активности в современном российском обществе позволяют выработать основные направления инновационного развития социального капитала, максимально приближенные к запросам российских граждан.
Политические сети, синкретизм современной правовой культуры, информационное взаимодействие, доктрина естественного права
Короткий адрес: https://sciup.org/142233848
IDR: 142233848 | УДК: 342.4
Текст научной статьи Политические сети и синкретизм современной правовой культуры российского общества
Политико-правовая активность российского гражданина – важное условие развития и совершенствования всего нашего общества. Проблема политической и социальной активности человека в информационном пространстве занимает не только политиков, но и представителей самых разных специальностей: юристов, философов, социологов, психологов и т.д. Она в центре внимания многих отечественных и зарубежных исследователей на протяжении многих последних лет [1, с. 185–190; 2, с. 37–39].
Так, право является источником активности личности, полагали и считают многие отечественные исследователи. «Не в формальной определенности норм права, хотя это и важно, – писал Л.С. Явич, – а именно в том, что они обеспечивают особый вид регулятивной деятельности общества (государства), основывающийся на активности и свободе инициативы
(выбора) субъектов отношений, заключается, как нам представляется, особая социальная ценность этих норм» [3, с 124]. На данную роль права обращал внимание и академик В.Н. Кудрявцев: «Кроме…охранительной цели, – подчеркивал он, – есть не менее, а, пожалуй, более важная – позитивная: всемерно содействовать развитию общественно-полезного, правомерного, активного поведения личности и коллектива» [4, с. 42]. Это обстоятельство заметил и С.С. Алексеев: «Сам факт существования и функционирования права, – отмечал он, – сопряжен со смыслом, сокровенной сутью жизни человеческого рода – возвышением и активизацией человека, личности» [5, с. 267].
Идеи о праве как источнике активности личности наблюдаются в творчестве многих других ученых. «Превращение научной идеи о праве как источнике социальной активности личности, – обращает внимание В.М. Шафиров, – в официально одобренное нормативное установление достаточно четко и полно воплотилось в Конституции РФ 1993 года. Провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью, наряду с задачами их обеспечения со стороны государства, других лиц, означает также признание особой роли, миссии личности в формировании и развитии самой себя, в строительстве, демократического, правового, социального государства, гражданского общества. Для претворения в жизнь данной особой миссии и закреплен огромный комплекс прав и свобод. «Запустить» работу этого огромного комплекса прав и свобод автоматически невозможно, заставить граждан им пользоваться, не дано никому. Государственное принуждение здесь бессильно. Пусковая «кнопка», приводящая в движение права и свободы, находится только в руках каждого конкретного управомоченного лица. От его заинтересованности использовать правовые возможности, средства, действовать инициативно, творчески во многом зависит успешность личной жизни, всех преобразований в обществе и государстве» [6, с. 187].
Приведенная новелла свидетельствует об актуализации проблемы политической и социальной активности личности в современных условиях, и на это обращают внимание не только юристы, но и представители других наук, в том числе социологи, и в то же время применительно к политическим сетям. Например, известный японский исследователь Ю. Масуда еще в 80-х годах ХХ века сформулировал концепцию «свободных информационных сообществ». По мнению ученого, в ХХI веке возникнет совершенно новый тип общественных отношений, важнейшую роль в которых будут играть новейшие интеллектуальные и коммуникативные технологии [7, с. 139].
Современные средства массовой информации и созданные на их основе более совершенные, эффективные средства массовой коммуникации оказывают мощное воздействие на политические, экономические и социальные процессы, что позволяет считать их особым общественным институтом [8, с. 113–129].
По мнению М.М. Дуняевой, «даже средства массовой информации задолго до появления концепции «информационного общества» и, соответственно, до его формирования признавали весомым политическим актором, рассматривались в качестве «четвертой власти» государства. В условиях же современного перехода к информационному обществу новые средства массовой коммуникации обладают существенно большими механизмами воздействия на политические процессы, чем традиционные СМИ, именно в силу новых их качеств – в первую очередь их «медийности» [9, с. 1253].
Интернет-ресурсы, лежащие в основе информационных и телекоммуникационных технологий, не являются единственным, универсальным способом хранения, передачи и обработки информации в современном мире. Более того, Интернет может выполнять самые разнообразные функции в зависимости от возложенных на него задач. С одной стороны, он способствует повышению эффективности деятельности институтов государственной власти, большей открытости политических процессов и формированию общественного согласия (консенсуса) благодаря созданию прямой и обратной связи между государством и обще-

ственными институтами, рядовыми гражданами. В тоже время, при чрезмерном усилении позиций исполнительной власти возрастает контроль административного аппарата, бюрократии над политическими инициативами граждан, меняются отношения парламента и правительства [10, с. 84–85, расцветает коррупция [11, с. 57–62; 12, с. 137–141]. Нельзя забывать, что «социальная потребность в институализации коррупционных взаимоотношений, – пишет В.П. Сальников, – кроется в корпоративных интересах чиновничества. Но нельзя упускать из вида и своего рода легитимацию, общественное признание коррупционных взаимоотношений, провоцируемую неясностью, противоречивостью и запутанностью законодательства, низкой юридической грамотностью общества, тем не менее, вынужденного заниматься решением жизненно важных, но юридически сложных проблем. И всюду мы сталкиваемся, что совершенно естественно, с всемогущим, безликим, формализованным аппаратом чиновников, регламентация деятельности которых гражданину, как правило, не ясна» [13, с. 14].
Интернет открывает перед политиками практически неограниченные возможности манипулирования индивидуальным и общественным сознанием [14, с. 63–65].
В Интернет-коммуникациях применяются различные технологии манипуляции, которые во многом копируют технологии традиционных СМИ: это и «упрощение проблемы», и «наклеивание ярлыков», и использование «утвердительных заявлений», пугающих тем, отвлекающих от важной политической проблемы сообщений, уменьшение значимости темы и другие. В связи с этим можно отметить, что в большей степени меняется не дискурс и приемы политических Интернет-манипуляций, а именно увеличиваются каналы подачи. При этом обилие информации, ежедневно продуцируемое Интернетом, в несистематизированном виде усложняет для адресата поиск смыслового значения передаваемого сообщения, что открывает новые возможности для политического манипулирования. В то же время наиболее легкий по форме общения канал коммуникации – популярная сеть Twitter – загоняет пользователя в ловушку: подача информации мелкими порциями не позволяет пользователю эффективно ее использовать и осмыслить. В итоге вырванное из потока разнонаправленной информации сообщение теряет свою актуальность и значимость. Другими манипуляторными приёмами являются одновременная подача противоречащей информации, вброс лишь части информации, заставляющим додумывать индивида в нужном для себя русле, агрессивный дискурс подачи информации [15, с. 65], которая очень часто навязывает чуждые нам западные ценности.
Вся многовековая история развития российской государственности свидетельствует об особом месте в политическом процессе, которое занимали проблемы взаимоотношений между властью и гражданами, вопросы защиты и реализации гражданских прав. В современном постиндустриальном обществе значительное число рядовых граждан, социальных групп, общественных организаций имеют возможность активно реагировать на текущие события политической жизни, давать свою оценку органам государственного управления посредством Интернет-технологий. Именно Интернет-ресурсы делают общественное мнение более консолидированным, динамичным, конструктивным.
Своеобразным «мостом» (в основе которого лежит информационное взаимодействие) между властными структурами и обществом, на сегодняшний день являются политические сети. Мы полагаем, что наиболее удачное определение политических сетей принадлежит Л.В. Сморгунову, по его мнению, «такая есть система государственных и негосударственных образований в определенной сфере политики, которые взаимодействуют между собой на базе ресурсной зависимости в целях достижения согласия по интересующими всех политическому вопросу, используя при этом формальные и неформальные нормы» [16, с. 108].
Нам представляется, важным здесь выступает использование в политических сетях различных социальных регуляторов, как пишет Л.В. Сморгунова – формальных и неформальных норм. Именно данное обстоятельство позволяет политическим сетям занять то важ- ное место, которое обеспечивает (или может обеспечить) тот своеобразный «мост» между властью и гражданами.
Интересное обстоятельство обнаружил и исследовал Ф.Х. Галиев, которое, с нашей точки зрения, как раз объясняет ту значимость и роль политических сетей, о которых мы говорили выше. Дело в том, что в современном российской обществе сложилась определенная гармония сотрудничества и взаимодействия различных социальных регуляторов: норм права, морали, корпоративных правил, религиозных догм, обычаев, традиций и т.д., которые и можно использовать в политических сетях. Такое состояние социальных норм Ф.Х. Галиев назвал «синкретизм современной правовой культуры» [17, с. 1352–1356; 18, с. 36–37].
Сущность синкретизма правовой культуры исследователь сводит к тому, что в современном обществе ни одна социальная норма не функционирует изолированно от других. И вот это обстоятельство обязательно должно быть учтено при функционировании политических сетей.
Данное состояние возникло не сразу и не вдруг. Процесс воздействия на общество взаимосвязанных различных социальных регуляторов, как их единства, формировался на протяжении всей истории существования человечества. Специфические моменты, – отмечает Ф.Х. Галиев, – связанные с формированием синкретизма правовой культуры, совпадают с теми историческими периодами, которые выделяются в развитии государства и права. Относительно России это, прежде всего, VIII–IX вв., когда начинают появляться государственные структуры, формируются конкретные запреты, дозволения и обязывания. Они, с одной стороны, присущи правовой норме, ибо нормы права и запрещают, и разрешают, и обязывают. С другой стороны, эти же моменты мы обнаруживаем и в содержании норм других социальнорегулятивных систем: морали, религии, этики, традиций, обычаев и т.д. Во-вторых, это X-XII вв. когда государствообразующие структуры начинают обеспечивать определенную часть социальных норм принудительной силой государства, превращая их в норму права. При этом никто не отменяет нормы других регулятивных систем. С появлением государства появляется закон, регулирующий наиболее важные общественные отношения, менее важные отношения оптимизируются другими социальными нормами. Правовую норму начинает поддерживать принудительная сила государства, а все остальные нормы продолжает контролировать общественное мнение. В-третьих, это XIV-XVIII вв., когда государство начинает создавать свои правовые нормы и нормативно-правовые акты. При этом часть общественных отношений, например, семейно-брачные отношения, регулируются нормами религиозного права. Общинно-вечевой способ управления государством поддерживался самоуправлением и самодеятельностью народа и сопровождался нормами обычного права и государственнополитических обычаев. В-четвертых, это XIX-XX вв., когда в государстве формируется собственная правовая система, которая тоже не игнорирует воздействия на общественные отношения требований других социальных норм. В истории нашего государства это появление Полного собрания законов и Свода законов Российской Империи в XIX в., создание новой правовой системы после 1917 г. В-пятых, это 1990-е годы, когда государство на основе Конституции 1993 года начинает превращаться в правовое государство с присущим ему гражданским обществом, в котором наряду с правовым решением социальных вопросов большое внимание уделяется правам и свободам граждан, а также духовно-нравственной стороне во взаимоотношениях людей. В современных условиях правовая норма не дистанцируется от других социальных норм [19, с. 23–24].
Конституция определяет сущность формирования политических сетей в нашем современном обществе и подчеркивает синкретизм правовой культуры. Это связано с тем, что российская Конституция базируется на доктрине естественного права.
По нашему мнению, именно то обстоятельство, что действующая Российская Конституция базируется на доктрине естественного права, и обеспечивает синкретизм современной нашей правовой культуры, а, следовательно, и формирование политических сетей.

«Синкретизм современной правовой культуры, – определяет Ф.Х. Галиев, – это естественный результат государственно-правового и духовно-нравственного развития общества, которое формируется на протяжении длительного отрезка времени в информационном пространстве и правовом поле государства и зависит от цивилизованного развития общества. Трансформируясь в соответствии со спецификой развития общества, обусловленной политическими, экономическими, социальными условиями, синкретизм правовой культуры изменяется, и эти изменения связаны с потребностями очередного этапа в исторической динамике общества». Он (синкретизм) сложился в результате исторической динамики общества и развития самих социальных регуляторов. Это приобретает особую значимость и актуальность в условиях «демократизации и модернизации общественно-политической жизни, формирования правового государства и становления гражданского общества в Российской Федерации», когда «признаются и воплощаются в жизнь права и свободы человека, нормы морали, религии, этики, традиции и обычаи, способствующие гармоничному осуществлению субъективных прав и юридических обязанностей» [19, с. 13; 20, с. 5–9].
Другими словами, синкретизм правовой культуры невозможен без признания человека высшей ценностью, без господства доктрины естественного права.
Синкретизм современной правовой культуры, по Ф.Х. Галиеву – это «естественным образом формируемая в ходе жизнедеятельности общества объективную «взаимообусловленность, взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие различных социальных норм, в комплексе воздействующих на сознание и поведение людей» и способствующих «оптимизации общественных отношений в соответствии с представлениями о добре и справедливости». Это «взаимозависимость требований всего комплекса действующих в современном обществе социальных норм в процессе их воздействия на сознание и поведение людей» [19, с. 12].
Такую же цель, по существу, преследуют и политические сети. Они, таким образом, стремятся воздействовать на сознание и поведение людей, чтобы оптимизировать общественные отношения и обеспечить их соответствие существующим в социальной среде понятиям о добре и справедливости. В этих же интересах политические сети используют весь комплекс социальных регуляторов, учитывая существующий в современной среде синкретизм правовой культуры.
Нам представляется, что именно такой вывод можно сделать из посыла к пониманию политических сетей, предложенного Л.В. Сморгуновым. Он же (вывод) напрашивается, когда обращаешься к трактовке определения политических сетей, сформулированного В.Н. Колесниковым. Исследователь, конечно, расширяет указанную дефиницию, уточняя, что важное место в сетях занимают формулы интересов, типы коммуникаций и совместных действий, а также внутрисетевые статусы, ранги и функции, образующих сеть акторов [21, с. 100], но в то же время, с нашей точки зрения, эта дефиниция охватывается понятием «синкретизм современной правовой культуры» и отражает существующую в обществе правовую реальность.
Для того чтобы оценить и понять всю значимость социальных сетей для нашей страны, кратко остановимся на анализе общей политической и социально-экономической ситуации, сложившейся к 2016 г. в России. Н.А. Баранов вполне обоснованно и аргументировано указывает, что «особенность политического процесса в России состоит в нерасчлененности политики и экономики, социальных и личных отношений. Политика не отделена от других сфер жизни в силу незрелости институтов гражданского общества, которые должны ее ограничивать и контролировать. Несформированность гражданского общества является одной из особенностей политического развития России. В этих условиях политический процесс характеризуется всепроникающей способностью политики, которая пронизывает все сферы жизни общества. Ни один вопрос экономического, социального, духовного развития не решается без вмешательства властных структур» [22], а значит, без возможностей государства и закона.
Введенные США и западными государствами международные санкции и финансовый кризис привели еще к большим социально-экономическим противоречиям, усилился контраст нищеты большинства и богатства меньшинства населения. Одним из показателей экономического неравенства граждан является так называемый децильный коэффициент («дециль») отношение совокупных доходов 10% наиболее обеспеченного населения к совокупным доходам 10% самых малообеспеченных. Мировая практика показывает, что превышение децилем уровня десяти приводит государство к масштабной социальной, политической и экономической нестабильности. Скандинавские страны начинает «лихорадить», когда дециль превышает четыре, в Германии, когда дециль превышает пороговое значение - шесть. Дециль в России, по официальным данным Росстата соответствует где-то от 15 до 17 и продолжает расти (но это усредненный, и скорее всего заниженный показатель). В некоторых субъектах Федерации и крупнейших городах дециль превышает 30. Независимые эксперты утверждают, что с учетом «теневой экономики» дециль в стране достигает 50 [23].
В современном российском государстве заявляет о себе сформировавшийся мощный конгломерат, который дискредитирует всю систему власти, подрывает доверие к ней - это бюрократия - крупный бизнес - организованная преступность (выделено мной - Р.А.). В уголовном законодательстве по-прежнему отсутствует уголовная ответственность за политическую коррупцию. Несмотря на кризис, растет число чиновников, расширяются их дискреционные полномочия. Разветвленный социально-правовой контроль и реальная подотчетность государственных служащих (особенно высокого уровня) отсутствуют. Существенной проблемой отечественного экономического законодательства и форм законоисполнения является их нестабильность. В первую очередь это касается налогового права, которое на сегодняшний день непосредственно затрагивает интересы практически всего населения. Страна по существу находится в состоянии «ручного управления» и имеет позитивные тенденции благодаря лишь первому лицу государства и его ближайшему окружению.
Увеличивается безработица (особенно скрытая), закрываются целые предприятия, на грани банкротства целые субъекты Российской Федерации, моногорода, отрасли экономики. Политическое доминирование богатых (как правило это крупные государственные чиновники, представители организованной преступности и небольшая прослойка предпринимателей) над бедными провоцирует представителей социально незащищенных слоев населения к выбору радикальных методов разрешения, возникших у них проблем. В условиях системного кризиса (и прежде всего кризиса идеологии) становится очевидным, что официальная стратегия «политического просвещения» (пропаганда, информационное манипулирование и т.д.) не учитывает тех специфических настроений, которые доминируют в обществе.
Усиление традиционных механизмов в системе государственного управления обусловило амбивалентное отношение современного российского государства, абсолютно правильно указывает А.В. Волкова, массовым протестным выступлениям - или как к массовым беспорядкам, или как к легальной форме гражданского участия в акциях протеста в рамках правового государства. Правовое государство основывается, в частности, на том, что государство и гражданское общество должны активно взаимодействовать по вопросу установления правил поведения в публичной сфере. Это предполагает высокий уровень самоорганизации гражданского общества, способность к предъявлению реальных интересов, готовность к сотрудничеству с государством, а для государства - открытость к взаимодействию [24, с. 12].
Вместе с тем необходимо отметить, что происходит критическое переосмысление указанных явлений. Это наблюдается в первую очередь у наиболее политически активной, законопослушной и интеллектуально развитой части населения. Стремясь создать условия для достойного существования своих детей, искренне приветствуя открытость и демократию, граждане начинают активно использовать средства массовой коммуникации, «вливаться» в политические сети.
Крупнейший отечественный мыслитель Б.А. Кистяковский сто лет назад писал, что социальная ценность государства заключается в заботе о нуждах и пользе всего народа, то есть в достижении общего блага, которое объективизировалось в осуществлении солидарных интересов людей. «Личность с ее идеальными стремлениями и высшими целями не может мириться с тем, чтобы государство, долженствующее осуществлять солидарные интересы людей, занималось истреблением и уничтожением их» [25, с. 323].
В любом государстве наиболее продуктивен тот характер власти, высказывают мнение современные авторы, который позволяет максимально развиваться «народопроявлению», который стимулирует самоорганизацию экономических и политических сил нации [26, с. 5], предполагает наличие публичных дискуссий. Рассматривая проблемы государственно-правового развития России, Ф.М. Раянов отмечает, что «человеческий мир может оптимально развиваться лишь при одновременном усвоении двух принципов организации жизни людей: повсеместного признания равенства в правах всех на Земле и уважительного отношения к разным подходам и взглядам на мироздание, бытующих среди конкретных лиц (так называемые принципы рамок права и рамок полиологической организации мышления и деятельности» [27, с. 164].
Такой же подход предполагает и сетевое взаимодействие различных акторов. Важной характеристикой политической дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой политической дискуссии выступает отсутствие тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала темы. Дискуссия часто рассматривается как метод изучения сложной темы, теоретической проблемы, а также поиск выхода компромиссного решения. Дискуссия нередко приводит к обсуждению условий обмена, имеющихся у нее акторов ресурсов. Все участники сети выражают повышенное внимание к публичным ценностям, добровольное договорное сотрудничество, а также равноправие и доверие.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы.
-
1. В политической сфере российского общества наблюдается рост веса информационного фактора. Он обусловлен не только влиянием бурного развития средств массовой коммуникации, но и сложной социально-экономической обстановкой. В условиях затянувшегося глобального кризиса институты гражданского общества и государственные структуры становятся активными участниками политических сетей, они активно взаимодействуют с целью обмена имеющихся у них ресурсов. Можно предположить, что сетевая активность участников будет постоянно повышаться, несмотря на общую социальную нестабильность, а также слабость и недостаточную сформированность общественных организаций, что объясняется стремлением значительной части населения участвовать в политической жизни страны.
-
2. Медиа-коммуникации в современной России представляют высокую социальную и личную значимость для рядовых граждан и негосударственных образований, поскольку использование политических сетей позволяет реально влиять на общественное мнение, на решения, принимаемые органами власти, на освещение глобальных конфликтов, а также на проведение жесткого гражданского контроля за работой бюрократического аппарата. В этих условиях наблюдается комплексное воздействие всех социальных регуляторов на сознание и поведение людей, способствующее политическим сетям оптимизировать общественные отношения в соответствии с представлениями о добре и справедливости. Политические сети удачно используют такое свойство российского общества, как синкретизм современной правовой культуры.
-
3. Современное состояние российского общества таково, что средства массовой коммуникации в нем обладают достаточно мощным информационным потенциалом, опираясь на который государство способно локализовать негативные явления в сфере политики и успешно противостоять, как внутренним, так и внешним угрозам.
Список литературы Политические сети и синкретизм современной правовой культуры российского общества
- Езерская А.И. Политико-правовая институционализация государственного контроля в контексте формирования механизма противодействия коррупции: проблемы эффективности/Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2013. № 6 (143). С. 185-190.
- EDN: QGYMAV
- Клочкова Ю.А. Политико-правовая аккультурация: основные аспекты взаимодействия/Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2014. № 2 (20). С. 37-39.
- EDN: UCGQOV
- Явич Л.С. Общая теория права. Л.: ЛГУ, 1976.
- Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М.: Юрид. лит., 1978.
- EDN: ZGVWYV
- Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху. М.: Норма, 1998.
- EDN: RMLYFZ