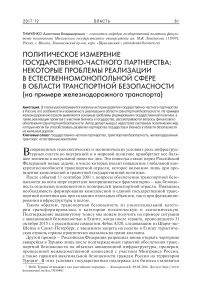Политическое измерение государственно-частного партнерства: некоторые проблемы реализации в естественно-монопольной сфере в области транспортной безопасности (на примере железнодорожного транспорта)
Автор: Тимченко Анастасия Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы истории развития государственно-частного партнерства в России, его особенности и возможность реализации в области транспортной безопасности. На примере железнодорожной отрасли выявляются основные проблемы формирования государственной политики, а также реализации проектов с участием бизнеса и государства, рассматриваются вопросы финансового обеспечения транспортной безопасности. Автор делает вывод о недостатке системных политических мер, которые могли бы способствовать развитию партнерства государства и бизнеса в области безопасности на железных дорогах.
Государственно-частное партнерство, транспортная безопасность, железнодорожный транспорт, естественные монополии
Короткий адрес: https://sciup.org/170169363
IDR: 170169363
Текст научной статьи Политическое измерение государственно-частного партнерства: некоторые проблемы реализации в естественно-монопольной сфере в области транспортной безопасности (на примере железнодорожного транспорта)
В современных геополитических и экономических условиях роль инфраструктурных систем во внутренней и в мировой политике приобретает все большее значение в актуальной повестке дня. Эта повестка ставит перед Российской Федерацией новые задачи, в число которых входит повышение глобальной конкурентоспособности транспортной отрасли, которое возможно лишь при проведении комплексной и грамотной государственной политики.
После событий 11 сентября 2001 г. вопросы обеспечения транспортной безопасности во всем мире перестали восприниматься фрагментарно – как безопасность отдельных компонентов и подотраслей транспортной отрасли. Появилась необходимость формирования комплексной и единой государственной транспортной политики как при создании отдельных объектов, так и при функционировании инфраструктуры в целом.
Таким образом, транспортная безопасность из узкоспециальной категории трансформировалась в категорию политическую и экономическую. Подтверждение выдвинутому тезису мы можем получить на примере ситуации с авиационной безопасностью в Египте, когда после теракта, происшедшего 31 октября 2015 г. с российским самолетом Airbus A320, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, с введением запрета на полеты в Египет туристическая отрасль страны практически оказалась на грани коллапса.
Другой пример – Российская Федерация разрешила вновь открыть чартерные авиарейсы в Турцию лишь после подтвержденных гарантий обеспечения транспортной безопасности на объектах авиационной инфраструктуры, проверки, проведенной межведомственной комиссией с участием Минтранса России, а также гарантий максимальной безопасности граждан России на территории Турции1. В этих условиях государственная поддержка для бизнеса становится решающим фактором, а от партнерства в области обеспечения транспортной безопасности выигрывают, в конечном итоге, все – государство, частный капитал, пассажиры, грузоотправители, иные отрасли экономики за счет эффекта мультипликации.
В РФ поддержка бизнеса государством приобретает новое актуальное звучание в свете санкционной политики со стороны США и ЕС и непростой геополитической обстановки, в которой отношения России и ее западных партнеров характеризуются затяжным кризисом, связанным с изменением позиционирования России в мировом пространстве [Якунин 2016].
Внешнеполитические задачи обеспечения глобальной безопасности коррелируют с внутренними задачами по формированию государственной политики безопасности внутри страны, особенно в свете активизации международного терроризма. Стратегия национальной безопасности к стратегическим национальным приоритетам в первую очередь относит оборону страны, государственную и общественную безопасность1. Во внутренней политике России обеспечение национальной безопасности и отдельных ее составляющих является важной целью, достижение которой консолидирует различные группы и интересы, а поддержка государства делает возможной реализацию самых смелых планов и проектов.
В России первые элементы партнерства государства и частного капитала появились еще при Петре I в 1717 г., когда мельнику Сердюкову в концессию были отданы берега двух рек для строительства мельниц2. Концессионные механизмы в России развивались в XIX в. и в начале XX в. вплоть до 1937 г., когда в результате сворачивания нэпа, переориентации политического курса участие иностранного и частного капитала в реализации проектов на территории Советского Союза не приветствовалось. В течение этого времени партнерство государства и частного капитала в виде концессий применялось при строительстве железных дорог (от первой железной дороги в России Санкт-Петербург – Павловск до строительства КВЖД3), а также при реализации иных инфраструктурных проектов (в сферах связи, промышленности, в сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых и пр).
Законодательное оформление механизмы государственно-частного партнерства в РФ начали получать в 2005 г. с принятием федерального закона «О концессионных соглашениях»4. С этого времени концессии как форма государственно-частного партнерства (ГЧП) становятся приоритетной формой партнерства при реализации инфраструктурных проектов с участием государства и частного капитала. В частности, в форме концессионных соглашений были реализованы такие проекты, как строительство выхода на МКАД с трассы М-1 «Беларусь» Москва – Минск (обход г. Одинцово)5, с 15 по 58 км трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург6. В настоящее время концессии и долгосрочные инвестиционные соглашения являются наиболее распространенными формами государственно-частного партнерства в области транспорта и транспортной инфраструктуры в РФ, о чем говорят данные Минтранса России1.
Иные формы и отношения в сфере государственно-частного партнерства долгое время оставались без должного внимания законодателей на федеральном уровне. В то же время во многих субъектах федерации, таких как Санкт-Петербург2, Томская обл.3, Кемеровская обл.4 и многие другие, законодательство в сфере государственно-частного партнерства формировалось и оформлялось в виде законов, по которым развивалось партнерство и инвестиционная деятельность. Всего, включая модельный закон субъекта РФ «Об участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства», на уровне регионов приняты 67 законодательных актов, регулирующих вопросы ГЧП5. Соответственно, каждый регион по-своему понимал государственно-частное партнерство и самостоятельно устанавливал требования и условия в проектах ГЧП для публичного и частного партнеров, на федеральном уровне не было единого законодательно закрепленного понятия термина «государственно-частное партнерство».
В теории некоторые исследователи рассматривали государственно-частное партнерство как вид инвестиционной деятельности [Белицкая 2012]. В этом случае мы можем говорить об узком понимании сущности государственно-частного партнерства.
Принятый в июле 2015 г. федеральный закон о государственно-частном пар-тнерстве6 впервые дал законодательное определение ГЧП, в соответствии с которым под государственно-частным партнерством стало пониматься оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера – с другой, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения государством доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.
В российской практике с принятием закона о ГЧП сложилась ситуация, когда сам термин «государственно-частное партнерство» стал пониматься в двух значениях: в широком смысле и в рамках нормативно закрепленной дефиниции. Широкий смысл предполагает, что ГЧП – это любое взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса, основанное на софинансировании проекта.
В частности, Министерство экономического развития РФ (МЭР), являясь органом исполнительной власти, ответственным за выработку государственной политики в сфере ГЧП, определяет, что государственно-частное партнерство является механизмом привлечения частных инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения качества оказываемых на его базе социально значимых услуг населению1. Государственно-частное партнерство включает в себя ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду2. В этом случае к формам государственно-частного партнерства относятся концессии, долгосрочные инвестиционные соглашения, частные инвестиционные инициативы и, собственно, сами соглашения о государственно- и муниципально-частном партнерстве, предусмотренные законом о ГЧП. Последние образуют узкое, исключительно законодательное понимание государственно-частного партнерства, основанное на положениях федерального закона № 224-ФЗ (закон о ГЧП).
На примере развития законодательного определения ГЧП и его рабочих трактовок при реализации государственной политики Министерством экономического развития РФ наблюдается тенденция подмены одного из способов воплощения выработанных на государственном уровне целей и задач формальным способом облегчения бюджетного инвестиционного бремени при реализации дорогостоящих проектов, в т.ч. инфраструктурных. В результате данной подмены теряется смысловое наполнение ГЧП как элемента государственной политики, и остается только экономическая составляющая и некоторые элементы общественной полезности.
Экономический аспект ГЧП наблюдается и в тех особых сферах экономики, где велико регулирование государства, где государство традиционно выступало монополистом, в частности в энергетической и транспортной инфраструктурах [Белицкая 2012]. Эти естественные монополии, будучи инфраструктурными отраслями экономики, выполняют такие важнейшие государственные задачи, как обеспечение экономического роста и социального развития страны, а также обеспечение национальной безопасности. Естественная монополия на железные дороги, кроме этого, позволяет сдерживать расходы экономики на транспорт [Якунин 2009].
В российской практике работы железнодорожной естественной монополии партнерство государства и бизнеса представляет собой инвестиционно-финансовый инструмент. Область ГЧП в отрасли сужается до проектов строительства и возведения новых инфраструктурных объектов. Учитывая, что в железнодорожной отрасли механизм возврата и окупаемости вложенных средств непрозрачен и трудно прогнозируем, сегодня проекты на основе ГЧП могут себе позволить в основном крупные игроки, которым эти проекты нужны для расширения собственного бизнеса3.
Реформа в железнодорожной отрасли инициировала появление частных хозяйствующих субъектов – операторов железнодорожного подвижного состава, и в отношениях обеспечения безопасности в отрасли появился своеобразный треугольник: государство как регулирующий субъект, акционер ОАО «РЖД» как хозяйствующий субъект и операторы железнодорожного подвижного состава.
В области обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте на нормативном и управленческом уровнях мы можем обнаружить 2 вида безопасности: транспортную безопасность и безопасность на транспорте, которые принципиально различны. Для уяснения этих двух категорий следует рассмотреть пример из зарубежной практики, где существуют 2 вида безопасности. В частности, в английском языке безопасность подразделена на два основных вида – safety (надежность) и security (безопасность). Security, особенно применительно к транспортной тематике, означает прежде всего антитеррористическую безопасность, защищенность от актов незаконного вмешательства в транспортную деятельность. Такой вид безопасности, как safety, означает технико-технологическую безопасность как способность прогнозирования и предотвращения аварий, катастроф и различных происшествий, основанных на технических отказах и иных причинах технического происхождения.
В РФ аналогом transportation security является транспортная безопасность как состояние защищенности от актов незаконного вмешательства, а аналогом transportation safety – безопасность на транспорте, понимаемая как технико-технологическая и эксплуатационная безопасность.
Этот подход отражен и в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.1, где в качестве одной из основных задач развития транспортной отрасли страны ставится повышение уровня безопасности транспортной системы. Транспортная стратегия рассматривает безопасность транспортной системы комплексно: и как защищенность от актов незаконного вмешательства, и как технико-технологическую и эксплуатационную безопасность.
Рассматривая безопасность на транспорте как аналог transportation safety применительно к безопасности на железнодорожном транспорте, можно охарактеризовать ее прежде всего как соблюдение сложившейся в отрасли технологии перевозок. При реализации этой технологии на железнодорожном транспорте в сфере безопасности существует ответственность ОАО «РЖД» как перевозчика и владельца инфраструктуры и ответственность оператора подвижного состава как собственника подвижного состава. В основе этой технологической цепочки обеспечения транспортной безопасности лежит контроль за состоянием инфраструктуры и подвижным составом в процессе эксплуатации. Область ответственности оператора подвижного состава, как правило, ограничивается исправным состоянием подвижного состава (вагонов), находящегося у него на балансе.
Здесь государственно-частное партнерство в области железнодорожного транспорта, понимаемое в самом широком смысле, акцентируется на распределении сфер ответственности.
ОАО «РЖД» на сегодняшний день представляет собой инфраструктурно-технологический элемент и одновременно выступает еще и перевозчиком, операторы подвижного состава являют собой эксплуатационный коммерческий элемент, а государство по большей части выступает как регулирующий и контролирующий элемент в этом треугольнике. Система обеспечения безопасности на транспорте в отрасли в процессе реформирования сама выстроилась в прототип государственно-частного партнерства, где безопасность подвижного состава, в частности вагонов, – ответственность операторов, на балансе которых они находятся, безопасность инфраструктуры и перевозочной деятельности – сфера ответственности ОАО «РЖД», а транспортная безопасность – совместная ответственность государства и всех участников рынка железнодорожных перевозок. Но на практике при возникновении инцидентов зачастую большая часть ответственности ложится на хозяйствующих субъектов и на ОАО «РЖД». В железнодорожной отрасли в области безопасности необходимы системные политические меры, которые могли бы способствовать развитию партнерства государства и бизнеса, формированию эффективной государственной политики в этой области.
Государственно-частное партнерство в железнодорожной отрасли в области transportation security предполагает совместные усилия по обеспечению состояния защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
Транспортная стратегия1 ставит перед отраслью масштабные задачи по обеспечению транспортной безопасности, решение которых возможно только при активном и многоаспектном участии государства – от формирования государственной политики в отрасли до выстраивания партнерских отношений с хозяйствующими субъектами в этой области.
Как государственная политика реализуется на практике? На нормативном уровне закон «О транспортной безопасности»2 устанавливает, что обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры. То есть, весь комплекс необходимых мероприятий – от оценки уязвимости, категорирования объектов транспортной инфраструктуры до финансирования этих и иных мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности – возлагается исключительно на хозяйствующих субъектов.
Такой подход представляется не совсем верным, поскольку антитеррористи-ческая защищенность объектов транспорта должна проводиться в рамках общей антитеррористической политики государства, и партнерство в этой области предполагает разделение как сфер ответственности и рисков, так и решения текущих вопросов с финансовым и ресурсным обеспечением необходимых мероприятий.
Изначально основные требования к обеспечению транспортной безопасности должны формироваться с учетом финансовых возможностей субъекта транспортной инфраструктуры, поскольку если существующий подход останется без изменений, то у хозяйствующего субъекта, по сути, есть два пути. Первый из них: в силу своих финансовых возможностей (зачастую ограниченных) хозяйствующий субъект не сможет обеспечить надлежащий уровень транспортной безопасности; соответственно, объект транспортной инфраструктуры останется уязвимым для актов незаконного вмешательства. И второй вариант: субъект транспортной инфраструктуры вложит необходимые средства для обеспечения надлежащего уровня транспортной безопасности транспортного объекта, выполнит все необходимые требования, однако в этом случае стоимость оказываемых им услуг вырастет, конечная стоимость продукта увеличится, и, таким образом, бремя финансовых расходов ляжет на конечного потребителя.
В данной ситуации государственно-частное партнерство может выражаться в учете возможностей хозяйствующего субъекта, совместном проведении необходимых обучающих мероприятий, активном участии государства в формировании такого партнерства, где оно будет выступать не столько как регулятор, а как партнер, заинтересованный в конечном результате.
Партнерство как взаимодействие предполагает единые или, по крайней мере, согласованные цели, за которыми скрываются интересы [Якунин 2007]. Реальность показывает, что существование в железнодорожной отрасли сепаратных интересов различных акторов без привязки к единой государственной политике не способствует развитию политики транспортной безопасности в стране: каждая группа интересов пытается минимизировать собственные издержки, перекладывая их друг на друга. Государственная политика транспортной безопасности (и ГЧП в области транспортной безопасности как ее часть) испытывает системные проблемы. Существующая система взаимоотношений групп интере- сов в транспортной отрасли пока не способствует транзиту политики транспортной безопасности на этапы формулирования альтернатив, принятия решений [Дегтярев 2004: 219-222]. Деятельность акторов постепенно наполняет повестку дня на уровне проектов в регионах, но они не превращаются в практику государственной политики. Этот разрыв можно охарактеризовать как труднопреодолимый без разрешения имеющихся проблем.
Теракт, происшедший 3 апреля 2017 г. в метрополитене Санкт-Петербурга, в результате которого погибли и были ранены десятки людей, вскрыл проблемы организационной и нормативной неготовности оперативного реагирования на акты незаконного вмешательства. В частности, А. Дворкович констатировал1, что в железнодорожной отрасли пока нет нормативного акта, систематизирующего основные требования к транспортной безопасности при том, что такие акты уже есть у всех отраслей транспорта. В настоящее время в оперативном порядке принят акт2, регулирующий вопросы транспортной безопасности в метрополитене. Эффективная государственная политика должна способствовать выстраиванию системы предупреждения, оперативного реагирования, минимизации последствий актов незаконных вмешательств, где нормативное регулирование не должно отставать от действительности, быть гибким, адекватным современным вызовам и угрозам.
С выработкой и формированием такой государственной политики в области транспортной безопасности возможно развитие действительно эффективного партнерства государства и бизнеса, а также совместное построение такой системы безопасности в отрасли, которая не только предупреждает, но и динамично развивается, решая новые все более сложные задачи, учитывая новые вызовы и угрозы, которые неизбежно будут вставать перед транспортной отраслью.
Список литературы Политическое измерение государственно-частного партнерства: некоторые проблемы реализации в естественно-монопольной сфере в области транспортной безопасности (на примере железнодорожного транспорта)
- Белицкая А.В. 2012. Правовое регулирование государственно-частного партнерства: монография. М.: Статут. 191 с
- Дегтярев А.А. 2004. Принятие политических решений. М.: КДУ. 416 с
- Якунин В.И. 2007. Партнерство в механизме государственного управления. -Социс. Социологические исследования. № 2. С. 58-67
- Якунин В.И. 2009. Роль естественных монополий в развитии регионов России. -Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 2. № 2. С. 9-20
- Якунин В.И. 2016. Россия и Европа: опорные точки ведения диалога. -Свободная мысль. № 5(1659). С. 5-22