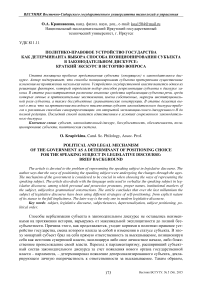Политико-правовое устройство государства как детерминанта выбора способа позиционирования субъекта в законодательном дискурсе: краткий экскурс в историю вопроса
Автор: Крапивкина О.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме представления субъекта (говорящего) в законодательном дискурсе. Автор подчеркивает, что способы позиционирования субъекта претерпевали существенные изменения на протяжении нескольких веков. Устройство государственной власти является одним из решающих факторов, который определяет выбор способов репрезентации субъекта в дискурсе закона. В статье рассматриваются различные языковые средства вербализации субъекта речи, среди которых личные и притяжательные местоимения, имена собственные, маркеры институциональной роли субъекта, а также бессубъектные грамматические конструкции. В статье делается вывод о том, что на протяжении последнего тысячелетия субъект законодательного дискурса прибегал к различным способам саморепрезентации: от открытой экспликации своего дискурсивного Я до полной редукции. Последний способ является единственным в условиях современного законодательного дискурса.
Субъект, законодательный дискурс, бессубъектность, обезличенность, позиционирование субъекта, политическая система
Короткий адрес: https://sciup.org/142143108
IDR: 142143108 | УДК: 811.11
Текст научной статьи Политико-правовое устройство государства как детерминанта выбора способа позиционирования субъекта в законодательном дискурсе: краткий экскурс в историю вопроса
Способы вербализации субъекта в законодательном дискурсе не оставались неизменными на протяжении истории, варьируясь от максимальной эксплицитности до полной бес-субъектности. Причина этого, как представляется, уходит корнями в политико-правовое устройство государства, смена которого влекла за собой и изменения в статусе субъекта. В эпоху монархий субъект брал на себя прямую ответственность за высказываемое, позиционируя себя как источник суверенной власти, эксплицируя либо свое личностное начало, либо божественное происхождение своей власти. Переход к парламентаризму, расширивший субъектный состав законодательного дискурса за счет появления нового органа государственной власти – парламента, – детерминировал появление деперсонализированного субъекта, декларирующего личную непричастность к ответственности за высказываемое. Таким образом,
ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления можно предположить политико-правовую детерминированность знаковой репрезентации субъекта законодательного дискурса.
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы проследить, как на протяжении веков менялся способ вербальной репрезентации субъекта закона под влиянием изменений в политическом устройстве государства, какие языковые единицы использовались для маркирования той или иной роли говорящего в законодательном дискурсивном пространстве. В качестве материала для исследования были использованы англо-американские и русскоязычные тексты, датированные 1100 и более поздними годами.
В ходе анализа было выявлено, что английские законодательные тексты классического Средневековья разворачивались при эксплицитном вмешательстве субъекта, реферировавшего к себе с помощью я- валентности. Например, в англосаксонских текстах, датированных XII в., основным маркером субъекта, с помощью которого он позиционировал себя как средоточие абсолютной, ничем и никем не ограниченной власти, было местоимение 1-го лица единственного числа. Эта закономерность отмечена, в частности, в следующем фрагменте Хартии вольностей (Charter of Liberties 1100), изданной от имени английского короля Генриха I:
I have been crowned king of said kingdom; and because the kingdom had been oppressed by unjust exactions, I , throughfear of god and the love which I have toward you all (Charter of Liberties).
В примере местоимение I реферирует к единичному субъекту, который с его помощью декларирует единоличный характер своей власти, верховное положение в государстве, позиционирует себя как лидера, который берет ответственность за свой народ, выступает его защитником и покровителем, демонстрирует любовь к нему, исходя из присущей ему функции наставления народа и осуществления общественного блага.
Начиная со второй половины XII в. ведущим маркером субъекта-монарха становится не местоимение I , а прономиналы 1-го лица множественного числа:
Neither we nor our bailiffs shall seize any land or rent for any debt, so long as the chattels of the debtor are sufficient to repay the debt (Magna Carta 1215).
Как показывает пример, английский король Иоанн репрезентирует себя с помощью формы Pluralis Majestatis , символизирующей божественное происхождение власти монарха, его единение с Богом. Считается, что местоименная форма множественности в целях маркирования монархического субъекта была впервые употреблена в английском дискурсе королем Генрихом II в 1169 г. В основу ее употребления была положена теологическая концепция о единстве монарха с Богом, основывающаяся на идее монарха как божьего помазанника, поскольку, как известно, король рассматривался в Средневековье как сверхъестественное существо, причастное к сакральной власти. «По божественной власти, переданной ему освящением, он ‒ милостью Божьей Христос, Богочеловек. На земной сцене он представляет живой образ Бога» [3, c. 143]. На этот счет американский историк-медиевист Э. Канторович приводит высказывания анонимного нормандского юриста: «Власть короля есть власть Бога; она принадлежит Богу по природе и королю по милости» [Цит. по: 3, c. 143]. Таким образом, король есть в то же время и Бог, но по милости, и все, что он ни делает, он делает не только в качестве человека, но как наделенный милостью Божьей.
В современном монархическом дискурсе форма Pluralis Majestatis не получила распространения. Так, английская королева Елизавета II в тронных речах на церемонии официального открытия новой сессии британского парламента заявляет о себе с я -валентностью. Приведем в качестве примера фрагмент ее речи, произнесенной в 2009 г.:
The Duke of Edinburgh and I look forward to our visit to Bermuda and our State Visit to Trinidad and Tobago and to the Commonwealth Heads of Government Meeting in this, the Commonwealth's 60th anniversary year. We also look forward to receiving the President of South Africa next year.
My Lords and Members of the House of Commons, I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your counsels (Queen’s Speech).
Королева реферирует к себе, употребляя местоимение I и симулякризованный детерминатив my в посессивной конструкции My Lords and Members, который дает ложную ин- формацию о ее роли в британском парламенте в силу символичности властных полномочий английского монарха. Местоимения we, our, употребленные Елизаветой II, несут иную функцию в сравнении с той, которая была характерна для дискурса ее предшественников: они служат не для демонстрации превосходства над потенциальным адресатом (модель God + I), а обозначают коллективного субъекта (The Dukeof Edinburgh + I).
Как показал анализ, первыми русскоязычными законодательными текстами с эксплицитно репрезентированным формой Pluralis Majestatis субъектом стали указы Петра I (Указ «О вотчинах» 1704 г., Указ «Об образовании» 1706 г., Указ «О единонаследии» 1714 г. и др.):
Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский и протчая, и протчая, и протчая. Объявляем сей указ (Указ «О единонаследии»).
С помощью Pluralis Majestatis российский император подчеркивает свое величие, указывает на сакральный характер собственной персоны. Помимо местоименного маркера субъект репрезентирует себя и именем собственным, выделяющим его из ряда других субъектов, а также дескрипцией, являющейся обозначением бесчисленного списка его титулов, выполняющей роль индивидуализирующего знака, обозначая место субъекта в политической системе. Свойственная русскому языку флективность позволяет субъекту репрезентировать себя и посредством морфологической формы русского перформативного глагола объявляем, которая также несет идею величия субъекта-императора.
Следует отметить, что русскоязычный законодательный дискурс имел персонифицированный характер вплоть до свержения монархического правления династии Романовых, что объясняется особенностями российской государственности, центральным звеном которой всегда являлся император. Именно от него исходили все важные государственно-правовые решения, не требующие чьего-либо одобрения:
Божией милостью, Мы, Николай Второй , император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский , и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем Нашим верноподданным: волею Нашей призваны были к строительству законодательному люди, избранные от населения (Манифест Николая II).
В примере субъект реферирует к себе, используя три языковых механизма: 1) индивидуализирует себя именем собственным, выделяющим его из ряда других мы -субъектов; 2) репрезентирует институциональную ипостась, указывая на свои титулы; 3) с помощью формы Pluralis Majestatis позиционирует себя как наместника Бога. Реализуя идею Божества, местоимения, относящиеся к Царю-Богопомазаннику (так же как и к Богу), пишутся с заглавной буквы, добавляя сакральности императорской особе.
С приходом к власти Временного правительства и установления в России республиканской формы правления персонализированного субъекта законодательного дискурса сменяет безликая маска Другого – институциональный субъект, репрезентированный коллективным именем:
Исходя из незыблемого убеждения, что в свободной стране все граждане должны быть равны перед законом, Временное правительство постановило (Постановление Временного правительства 1917 г.).
Имя институционального субъекта в приведенном примере служит механизмом идентификации субъекта с Другим – Временным правительством. Используя коллективное имя с целью самореференции, субъект позиционирует себя как агента дискурсивного экспертного сообщества.
В английском законодательном дискурсе расширение диапазона языковых средств, обозначающих субъекта, происходит приблизительно с XIV в.: к эксплицитным маркерам добавляются механизмы имплицитной репрезентации субъекта. Причина этого, как представляется, заключается в ограничении власти английского монарха, которая привела к появлению еще одного законодательного жанра – парламентских статутов. Процедура издания статута предусматривала выработку предложений нижней палаты (билль). Затем билль, одобренный лордами, направлялся на подпись королю. Йорский статут 1322 г. гласил, что все дела, «касающиеся положения сеньора нашего, короля, и положения государства и народа, должны обсуждаться, получать согласие и приниматься в парламенте нашего господина короля и с согласия прелатов, графов, баронов и общины королевства» [1, c. 66]. Уже в XV в. ни один закон в королевстве не мог быть принят без одобрения Палаты общин.
Данные новации не могли не отразиться на характере законодательных текстов, которые, утратив индивидуально-авторские черты, превратились в набор деперсонализированных установлений дискурсивного экспертного сообщества в лице законодательного органа [2]. Ярким примером подобного деперсонализированного продукта является один из документов эпохи Английской Реформации – Sacrament Act ( Actagainst Revilers, andfor Receivingin Both Kinds ). Для иллюстрации приведем отрывок изданного закона:
The saideblessed Sacrament shoulde be ministred to all Christen people. Therfore be it enactedby our saide Souvarigne Lorde the King with the consent of the Lordesspirituall and temporall and the Commons in this present parlament assembled and by thauctoritie of the same, that the saidemoste blessed sacrament be hereafter commenlie delivered and ministred unto the people (Act against Revilers, and for Receiving in Both Kinds).
Документ представляет собой систематическое изложение догматов англиканского вероисповедания. Акт был утвержден парламентом и подписан королем Эдуардом VI. Однако установить подлинного субъекта дискурса не представляется возможным в силу деперсонализированного характера высказываний. Указание в тексте на субъектов, так или иначе участвовавших в его создании, ‒ короля и членов парламента (enacted byoursaide Souvarigne Lorde the King with the cosent of the Lordes spirituall and temporall and the Commons ), не дает однозначного ответа на поставленный У. Эко вопрос Кто говорит [4]. Пассивные конструкции ( beministred, beitenacted , bedeliveredandministred ) делают содержащиеся в тексте предписания независимыми от чьей-то субъективной воли и не контролируемыми ею.
Зародившийся американский законодательный дискурс проявил иную специфику вербализации субъекта: высказывания разворачиваются не без эксплицитного вмешательства субъекта, но языковые знаки, отсылающие к нему, чаще всего представляют собой симулякры, не позволяющие установить истинный источник дискурса. В качестве примера можно привести закон штата Вирджиния о свободе вероисповедания, принятый Генеральной ассамблеей в 1786 г.:
Whereas, Almighty God hath created the mind free, that all attempts to influence it by temporal punishments... are a departure from the plan of the holy author of our religion. We are free to declare, and do declare that the rights hereby asserted, are of the natural rights of mankind (The Virginia Statute for Religious Freedom).
Заполненная местоимением we синтаксическая позиция подлежащего не позволяет идентифицировать субъекта в силу своей размытости, возможности множественной интерпретации знака we . Форма множественности предположительно отсылает к народу, который в реальности не участвовал в создании данного акта. При этом автором законопроекта считается Т. Джефферсон, репрезентировать которого в тексте не позволяют правила законодательной техники. Далее, согласно принятому в дискурсивном экспертном сообществе правилу, под законом стоят подписи А. Кери, спикера сената, и Б. Харрисона, спикера палаты представителей штата Вирджиния. Возникает правомерный вопрос, к кому все-таки реферирует прономинал 1-го лица множественного числа?
Высказывания с симулякризованным we содержатся и в более известном творении Т. Джефферсона – Декларации независимости (Declaration of Independence), что позволяет утверждать регулярность такого способа маркирования субъекта в культуре представительной демократии, когда ограниченная группа выступает от имени мы , порождающего множественные интепретанты.
Заключение
В заключение отметим, что в силу свойственной законодательному сообществу тенденции позиционировать себя как безличного выразителя воли ЗАКОНА, современные правовые акты отличает ярко выраженный деперсонализированный характер, поскольку непосредственное вмешательство индивида субъективировало бы дискурс, нарушило объективность изложения.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что варианты позиционирования субъекта в законодательном дискурсе зависят от целого комплекса факторов, среди которых особую роль играет политико-правовое устройство государства.
На протяжении последнего тысячелетия субъект законодательного дискурса прибегал к разным вариантам самопозиционирования: от открытой экспликации Я до полной редукции, деперсонализации высказывания и отсутствия любых знаков, отсылающих к говорящему. Для реализации первой стратегии использовались такие языковые средства, как личные и притяжательные местоимения, имя собственное или маркер институциональной роли субъекта (например, император ). Средствами же импликации субъекта служат коллективное имя, бессубъектные грамматические конструкции, а также разного рода симулякризованные единицы.
Список литературы Политико-правовое устройство государства как детерминанта выбора способа позиционирования субъекта в законодательном дискурсе: краткий экскурс в историю вопроса
- Гунтова Е.В. Английское государство в XIV-XV веках. -М., 1987.
- Крапивкина О.А. Языковые механизмы самопрезентации Субъекта в законодательных жанрах юридического дискурса//Вестник ИрГТУ. -2011. -№ 7. -С. 243-248.
- Лучицкая С.И. Два тела короля. Очерк политической теологии Средневековья//История ментальностей, историческая антропология: зарубеж. исслед. в обзорах и рефератах. -М., 1996. -С. 142-154.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. -СПб.: Петрополис, 1998.