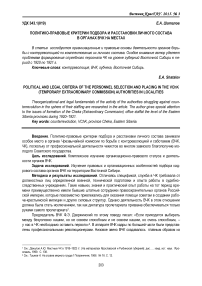Политико-правовые критерии подбора и расстановки личного состава в органах ВЧК на местах
Автор: Шаталов Е.А.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются организационные и правовые основы деятельности органов борьбы с контрреволюцией по комплектованию их личного состава. Особое внимание автор уделяет проблемам формирования служебного персонала ЧК на уровне губерний Восточной Сибири в период с 1920 по 1921 г.
Контрреволюция, вчк, губчека, восточная сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/14084181
IDR: 14084181 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Политико-правовые критерии подбора и расстановки личного состава в органах ВЧК на местах
Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский по этому поводу писал: «Если приходится выбирать между безусловно нашим, но не совсем способным и не совсем нашим, но очень способным, – у нас в ЧК необходимо оставить первого»2. В аппарате ВЧК кадры по большей части были представлены профессиональными революционерами. Низовое звено ВЧК создавалось главным образом из числа рабочих-красногвардейцев, матросов, солдат и командиров Красной армии, городских и сельских активистов3.
Аппарат полномочного представителя (полпреда) ВЧК по Сибири был возглавлен квалифицированным сотрудником И.П. Павлуновским – экс-председателем Уфимской губчека и заместителем начальника Особого отдела ВЧК4.
Подбор корпуса служащих восточносибирских органов губчека сопровождался определенными проблемами. Во-первых, это было связано с особенностью социальной структуры сибирского общества, где большая часть населения (около 80–90 %) состояла из крестьян. При комплектовании же штатного состава ЧК предпочтение отдавалось рабочим. Однако в силу малочисленности промышленных центров в Сибири количество рабочих было значительно меньше числа крестьян – примерно около 10 % от общего числа населения. При этом следует подчеркнуть, что около 80 % рабочих были заняты на мелких и средних промышленных предприятиях5. По этой причине подбор кадров из числа местного населения был значительно затруднен.
Во-вторых, это проблема законодательного закрепления критериев подбора сотрудников на службу в ЧК. Командный состав ВЧК требовал от её органов строгого руководства классовым принципом подбора кадров, тогда как нормативно-правовые акты предусматривали иные правила. В частности, положение «О чрезвычайных комиссиях на местах» от 11 июня 1918 г. декретировало, что на службе в этих органах должны находиться лица, преданные революции и Советской власти. В нем указывалось, что это должны быть «испытанные и надежные товарищи»6. В приказах ВЧК не содержалось четких указаний на счет возрастных, образовательных, социальных, моральных, физиологических критериев их служащих. Так, в приказе ВЧК №210 содержалась целеустановитель-ная норма о том, что сотрудники ЧК должны быть коммунистами7.
В основу нормы-декларации, закрепленной в приказе, было положено изречение председателя СНК В.И. Ленина о том, что хороший коммунист в то же время хороший чекист и наоборот8. Известно, что политические критерии при отборе кандидатов на службу в эти органы имели решающее значение9.
Тогда как сотрудник ВЧК М.Я. Лацис считал, что основным критерием отбора кандидатов на службу в ЧК должны выступать деловые качества. С его слов, главные качества любого кандидата – выдержанный характер, непреклонная воля, объективный взгляд и в последнюю очередь хорошая репутация. В противном случае, при отсутствии таких качеств работа в ЧК «затирала» людей, делала из них неврастеников10.
На практике штатные служащие органов губчека редко соответствовали выдвигаемым В.И. Лениным требованиям к советским госслужащим – сознательности, инициативы, творчества и активности в труде11. Сотрудники отличались низким уровнем профессионализма и не соответствовали занимаемым должностям. Среди них наблюдалось халатное отношение к своим служебным обязанностям, грубое отношение к арестованным, пьянство12.
В Ачинской уездной ЧК только за пьянство было привлечено к различным видам юридической ответственности (от выговора до принудительных работ в концлагере) семь сотрудников, занимавших командные должности: следователи, инструкторы13. При этом начальство уездной ЧК осмеливалось критиковать служебную работу уездной милиции, указывая на отсутствие надлежащих в ней кадров14.
Рабочая обстановка в органах губчека оставляла желать лучшего. Характеризуя её, можно сослаться на высказывание В.И. Ленина о том, что в советском механизме власти процветает «несовершенство, безобразие»15. По большей части это было применимо и к органам губчека. Основные причины – это отсутствие психологической, воспитательной работы с личным составом и как следствие этого – проблема установления психологического контакта, управленческие конфликты в среде служащих. Со слов сотрудников Красноярской губчека, во взаимоотношениях между ними доминировали такие качества, как «предательство, цинизм, грубость»16. Такая организация работы была абсолютно неприемлемой для этих органов. Ф.Э. Дзержинский указывал, что залогом успешной работы ЧК является дружеская атмосфера доверия и взаимопомощи между её сотрудниками. По его словам, поддержка в органах ЧК должна оказываться со стороны председателя, членов коллегии, заведующих отделами17. Особенно это было необходимо молодым сотрудникам, которые нуждались в помощи более компетентных работников.
В период 1920–1921 гг. больше половины сотрудников органов Иркутской губчека были 1899, 1900, 1901 года рождения. Большая часть её личного состава набиралась из числа беднейших сельских жителей в возрасте от 19 до 21 года18. Молодые сотрудники ЧК имели только опыт подпольной и партизанской борьбы с царской и колчаковской властью, не имея при этом даже среднего образования19.
Встречались случаи, когда на службе в Иркутской губчека находились лица без партийного стажа20. Постановление Совета труда и обороны (СТО) от 3 декабря 1918 г. «О работе ВЧК» прокламировало, что сотрудники ЧК должны быть коммунистами не менее чем с двухлетним стажем. При этом нужно подчеркнуть, что это положение распространилось только на командный состав ЧК – членов коллегий, председателей – и не касалось рядового состава служащих21.
В органах Иркутской губчека нормативные указания СТО не соблюдались даже при формировании их начальствующего состава. Самое же интересное это то, что в должности членов коллегии Иркутской губчека в 1920 г. находились представители меньшевистской и эссеровской партии22. Известно, что после восстания левых эссеров – сотрудников ВЧК – в 1918 г. им было запрещено находиться на службе в этих органах23.
Для обновления кадров, пополнения их коммунистами циркуляром Сиббюро ЦК РКП (б) полномочия по формированию штатов сибирских органов власти были переданы аппаратам партко- мов24. Руководство ВЧК не возражало против такого решения. Так, согласно приказу ВЧК от 8 сентября 1921 г., губпарткомы уполномочивались производить в её органах любые перемещения, отзывы штатных служащих, за исключением председателей и членов коллегии. В отношении же руководящих работников право назначать и снимать их с должности принадлежало ВЧК25. Считалось, что это будет способствовать пополнению ЧК политически подготовленными кандидатами за счет партийного кадрового резерва. Циркуляр ЦК РКП (б) от 9 апреля 1921 г. вменил в обязанность парткомам оказывать помощь по отбору штатного состава ЧК на местах. В циркуляре было подчеркнуто, что партийные органы должны оперативно реагировать на их кадровые нужды26.
Кадры органов губчека в Восточной Сибири комплектовались из различных источников, в число которых входили курсанты Красноярской и Иркутской пехотных школ командного состава РККА, партийные работники и курсанты партийных школ, сотрудники Полпредства ВЧК по Сибири и ГПО Дальневосточной Республики27.
Личный состав вооруженных отрядов органов Енисейской губчека преимущественно формировался из числа бывших участников красных партизанских движений гражданской войны. Для этого были все необходимые базисные условия. Следует отметить, что в этом регионе существовала самая большая в Сибири партизанская армия численностью около 17 000 военнослужащих28. Так, в обращении председателя Минусинской уездной ЧК Т.И. Мордвинова в 1920 г. к председателю местной комячейки о формировании при ней особого боевого отряда сообщалось, что предпочтение при отборе кандидатов надо отдавать исключительно бывшим товарищам-партизанам29.
Сам же председатель Т.И. Мордвинов был назначен на эту должность в уездной ЧК из числа бывших революционеров-подпольщиков30.
В органах Иркутской губчека около 80 % штатных должностей31 занимали бывшие военнослужащие кавалерийских дивизионов войск ВНУС-ВЧК Сибири и разведштаба РККА при 5-й армии Восточного Фронта. Особым приоритетом при приеме на службу в особотделы ЧК пользовались служащие органов военной юстиции.
Кандидаты на службу в органы губчека отбирались и из числа военнослужащих интернациональных частей РККА32. На должности следователей и оперативных работников ЧК назначались сотрудники милиции и уголовно-исполнительной системы33. Но, несмотря на многообразие источников комплектования личного состава, в ЧК неизменно ощущался кадровый дефицит. Это обусловливалось модификацией организационно-правовой структуры их управленческих аппаратов.
В начальный период деятельности Иркутской губчека в январе 1920 г. кадровый вопрос не стоял так остро. Комиссия работала с личным составом численностью 28 человек, при этом её рабочий аппарат состоял из следственной и оперативной части со штатом в три следователя и двух уполномоченных34. Однако уже ко второй половине 1920 г. в органах Иркутской губчека произошли структурные изменения.
На основании положения «О военной цензуре почтово-телеграфной корреспонденции» и приказа Реввоенсовета республики от 10 августа 1920 г. для борьбы с контрреволюцией и шпионажем путем установления цензуры на почтово-телеграфные отправления приказом Особого отдела Иркутской губчека от 7 ноября 1920 г. при нём был учрежден отдел военной цензуры. Его штат насчитывал около 100 сотрудников35. В войсковых частях охраны государственной границы были созданы четыре особых отделения при особотделах дивизионов, дополнительно включавших штаты агентов, уполномоченных, следователей36.
Модифицировался и функционально-отраслевой аппарат губчека, в котором к ноябрю 1921 г. были образованы отделы по борьбе с бандитизмом, экономический, осведомительный, тюремный. В штате последнего, например, по приказу Иркутской губчека должны были состоять не 28 сотрудников, как в период её становления, а более 36037. Постепенно трансформирующийся управленческий аппарат Иркутской губчека насчитывал в своих рядах более чем полторы тысячи сотрудни-ков38. Увеличение оперативно-розыскной работы губчека влекло за собой проблему комплектования её личного состава. Постепенно она стала преобладать над проблемами материальнотехнического характера, правового обеспечения и многими другими.
Заметим, что структурные изменения в аппаратах губчека были одной из основополагающих причин кадрового дефицита штатного состава. Вторая причина – высокая кадровая ротация. Она обусловливалась различными служебными факторами – поступлением на учебу, временной нетрудоспособностью, увольнением, смертью, гибелью и служебными командировками. Наиболее квалифицированные служащие органов губчека направлялись для прохождения службы в Особый отдел ВЧК, а также в западносибирские органы ЧК и аппараты губернской милиции39.
По совместной договоренности Сибревкома, Сибмилиции и Полпредства ВЧК по Сибири, нашедшей юридическое закрепление в приказе «По милиции Сибири» от 16 сентября 1921 г., сибирские органы ЧК обязаны были активнейшим образом участвовать в организации работы угрозыска на местах40. Одной из форм участия было замещение их штатными служащими должностей в угро- зыске. Их опыт агентурно-осведомительной работы использовался для борьбы с общеуголовной преступностью41.
По ряду указанных причин начальники отделов, уполномоченные, следователи сменяли друг друга с необычайной быстротой. Как правило, в среднем кадровые передвижения раз в месяц затрагивали каждого сотрудника.
Согласно приказам по личному составу Иркутской губчека, в период с 30 ноября по 31 декабря 1921 г. из 8 членов её коллегии сменилось 2. Кадровые перемещения затронули общую часть, где были заменены 2 сотрудника, в комендатуре личный состав поменялся на 50 %, в секретнооперативном отделе из 26 сотрудников была заменена новыми ¼ часть. Штаты агентуры сократились на 3 человека, личный состав осведомительного отдела был заменен новыми сотрудниками почти наполовину.
Кадровая ротация наблюдалась и в активно-следственной части Особого отдела Иркутской губчека, где в среднем ведущие должности были заняты 1–2 недели42. Текучесть кадров отмечалась и среди командного состава органов губчека. Так, к примеру, за период с января 1920 по февраль 1922 г. в должности председателя Красноярской губчека успели побывать шесть человек43. Это негативно сказывалось на общей работе их органов. Дело в том, что, вступая в должность, председатели ЧК с целью подбора нужного им управленческого персонала осуществляли кадроворезервные перестановки. Это порой приводило к замене кадрового состава комиссии44. Хотя руководящие работники В ЧК настаивали именно на такой кадровой политике. По мнению М. Лациса, успех работы ЧК во многом зависел от частоты сменяемости сотрудников45.
На наш взгляд, такой способ был абсолютно нецелесообразен, так как партийные комитеты из-за высокой кадровой ротации в этих органов не успевали мобилизовать для них необходимое количество сотрудников. ВЧК в свою очередь время от времени требовала увеличить их штаты46.
В связи с осложнением оперативной обстановки в Восточной Сибири ВЧК приказом от 15 сентября 1920 г. предписала органам Енисейской и Иркутской губчека сформировать штаты по первой категории – увеличенные47. В органах Иркутской губчека подобная кадрово-резервная задача была неразрешимой. Помимо комплектования её личного состава, необходимо было по первой категории обеспечить кадрами и девять уездных политбюро милиции.
Ко всему прочему 22 декабря 1920 г. ВЧК издала приказ, согласно которому в связи с особыми оперативно-служебными условиями штаты Иркутской губчека должны быть увеличены на 44 сотрудника. Предполагался дополнительный набор помощников уполномоченных до 15 человек, делопроизводителей, счетоводов, шифровальщиков, курьеров, сотрудников для поручений до 17 человек, разведчиков 10 человек48. Дефицит кадров в губчека стал ощущаться еще острее. Некомплект личного состава её секретно-оперативного отдела насчитывал до 20 служащих. В связи с недостатком в органах Иркутской губчека сотрудников не представлялось возможным организовать оперативно-розыскную деятельность в уездах губернии49. Дефицит штатного состава губчека был напрямую связан с низким коэффициентом оперативно-служебной деятельности, отсутствием кадров в структурных подразделениях, которые комплектовались из числа её сотрудников. Так, в Нижнеудинской уездной ЧК Иркутской губернии из-за отсутствия необходимого количества сотрудников оперативно-служебная деятельность на территории 24 волостей осуществлялась только тремя членами её коллегии. Они были вынуждены исполнять обязанности агентов, уполномоченных, а также вести всю следственную работу50.
От командного состава Иркутской губчека поступали некоторые предложения об обеспечении недостающими кадрами её органов. Одним из таких способов было объединение всех её структурных звеньев на транспорте, в армии, в ведомстве губчека, что должно было дать приток новых штатных сотрудников. Однако начальство транспортного отдела ВЧК не одобрило их инновационных предложений. По их мнению, в период гражданской войны подобные административные преобразования не имели концептуально-стратегического основания51.
Тогда председатель Иркутской губчека М. Берман в одном из приказов обратился к подчиненным с призывом о замещении каждым сотрудником по две и даже по три должности. Кроме того, он призывал каждого сотрудника работать, не ограничиваясь только рабочим временем52. Замещение одним служащим нескольких должностей в губчека стало своего рода нормой. Председатели губчека занимали еще и пост председателя РТЧК, сотрудники секретно-оперативного отдела совмещали должности оперативных комиссаров и следователей53. Несмотря на принимаемые меры, ротация личного состава не снижалась. Со слов сотрудников ВЧК, работа в их органах сопровождалась повышенным психоэмоциональным напряжением. С другой стороны, работа в ЧК была полной искушения на разного рода злоупотребления служебными полномочиями, использования должностного положения для извлечения личных выгод и преимуществ54. Как, например, у сотрудника РТЧК Забайкальской железной дороги А. Загурского. Так, в одном из писем, обращаясь к своему брату, он указывает, что живет «припеваючи и катается как сыр в масле, ходит с наганом, и сам черт ему не брат». Приглашая брата на службу, он пишет: «будешь пользоваться правами красноармейца и железнодорожника, а вместе с тем будешь царь и бог»55. В результате кадровых чисток такие сотрудники увольнялись с резолюцией «несоответствующий занимаемой должности, без права поступления в ЧК»56.
Таким образом, процент заполнения штатов органов Иркутской губчека составлял 57 %, в уездных политбюро милиции – 50 %57. Что касается политической подготовки, то из 162 сотрудников, принятых на службу в Иркутскую губчека в период с 1 октября 1921 по февраль 1922 г., было только 7,4 % членов РКП (б), кандидатов в члены РКП (б) – около 1,9 %, сочувствующих – 1,2 %58. Остальные 89,5 % сотрудников Иркутской губчека были беспартийными.
На службе в органах Якутской губчека находились лица, имевшие судимости за совершение различных уголовно-наказуемых деяний. Так, например, И.С. Борун, занимавший должность уполномоченного, ранее привлекался к уголовной ответственности за фальшивомонетничество. Особо уполномоченный губчека П.И. Прокопьев – бывший полицейский урядник, привлекался к уголовной ответственности за различные преступления: подлог, кражи, мошенничество59. Однако сочувствие Советской власти обосновывало правомерность замещения ими штатных должностей в губчека.
Также на службе в органах губчека состояли торговцы, бывшие колчаковские офицеры, в отношении которых, по словам М. Лациса, ЧК вели войну60. Из 162 сотрудников Иркутской губчека 10,5 % указали, что они ранее находились на военной службе в белой армии61.
Любопытно, что колчаковских офицеров, которым было запрещено замещать должности в ЧК, с помощью уговоров и даже угроз попасть в тюрьму приходилось принудительно удерживать на службе62.
По разным причинам свое нежелание проходить военную службу в ЧК высказывали руководящие работники. Научный и практический интерес в этом отношении представляет информационный список-сводка заведующих отделами Якутской губчека, в котором содержатся сведения проведенного в апреле 1921 г. среди начальствующего состава опроса. Данный опрос преследовал цель выяснить отношение сотрудников к занимаемым ими должностям. Из семи руководителей шесть сотрудников, за исключением председателя С.Ф. Литвинова, отметили, что специфика работы в губчека их не устраивает. Заведующий секретно-оперативного отдела В.З. Урядников-Макаров указал, что занимаемая должность для него, как бывшего военнослужащего, неподходящая, так как хотел бы служить в действующей армии военспецом. Остальные сотрудники – заведующий информационным отделом П.П. Кочнев, помощник заведующего секретно-оперативного отдела А.К. Перминов, Н.К. Булкин, комендант П.С. Битулёв – ответили, что предпочли бы службе в губчека тяжелый физический труд. Начальник канцелярии общего отдела В.Г. Андреев подходящей для себя трудовой деятельностью назвал занятие сельским хозяйством63.
Возможно предпочтение штатными сотрудниками физического труда оперативно-служебной деятельности было напрямую связано именно с их уровнем образования и родом профессии. Очевидно, что общего, средне-специального образования, которое они имели, было недостаточно для административно-управленческой, оперативно-аналитической работы в силовых органах64.
Заключение . На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что в правовом контексте общие принципы, критерии формирования личного состава ВЧК и её органов были проработаны недостаточно детально, в связи с чем кадровая политика в итоге утрачивала отличительные признаки системности и порой входила в противоречие с действовавшим революционным законодательством.
Отсутствие необходимого числа квалифицированных служащих вынуждало их начальствующий состав отступать от установленного Конституцией РСФСР 1918 года классового принципа подбора кадров. В результате на службу в эти органы поступали кандидаты, не имевшие партийного стажа, представители запрещенных в советской России политических партий и даже бывшие белогвардейские офицеры.