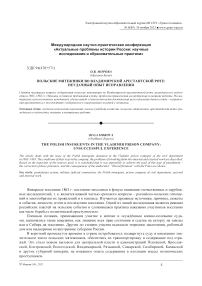Польские мятежники во владимирской арестантской роте: неудачный опыт исправления
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу содержания польских повстанцев во Владимирской арестантской роте гражданского ведомства в 1863-1865 гг. Описаны условия их пребывания в роте, проблемы привлечения на внутренние и внешние работы. На материалах использованных источников сделан вывод о невозможности достижения цели наказания данного вида - исправления арестантов и о последствиях «либерального заигрывания» властей с поляками.
Система исполнения наказаний, военно-судебная комиссия, польские мятежники, арестантская рота гражданского ведомства, внешние и внутренние работы
Короткий адрес: https://sciup.org/148327467
IDR: 148327467 | УДК: 94(470+571)
Текст статьи Польские мятежники во владимирской арестантской роте: неудачный опыт исправления
Январское восстание 1863 г. постоянно находится в фокусе внимания отечественных и зарубежных исследователей, т. к. является важной частью «рокового вопроса» - российско-польских отношений в многообразии их проявлений и в генезисе. Изучаются архивные источники, причины, сюжеты и события, личности, итоги и последствия восстания. Одной из линий исследования является реакция российских властей на польские события и сложившаяся практика наказания участников восстания как часть борьбы с политической преступностью.
Пленным полякам, принимавшим участие в мятеже и осуждённым военно-полевыми судами, назначались такие наказания, как лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу на заводы или в Сибирь на поселение. Другим по степени участия выносили тюремное заключение, работный дом или выдворение во внутренние губернии России.
В короткий промежуток времени в стране потребовалось подвергнуть суду и наказанию значительное число польских мятежников, обеспечить их транспортировку и содержание под стражей. Это стало новым вызовом для центральной власти и администраций Псковской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Владимирской, Рязанской, Самарской, Симбирской, Казанской и других губерний империи, не имевшим опыта содержания в изоляции массы политических преступников.
В целом практике исполнения наказаний в России, как отмечает исследователь С.А. Мулина, в первой половине XIX в. были характерны негативные явления: плохая организация «ссыльного дела», ведомственная неразбериха, недостаток финансирования, неэффективность полицейского надзора и отсутствие исправительного эффекта [8].
Именно на исправительный эффект наказания при строгой изоляции политических от внешне -го мира возлагало надежды российское правосудие. Одним из родов исправительных наказаний были арестантские роты.
Идея создания арестантских рот родилась из попыток найти решение проблем, сложившихся на стыке исполнения наказаний и интересов локальных территорий. Так, чиновники Сибири жаловались на плохое содержание ссыльных в силу их большого количества. Местным властям не хватало средств и рабочей силы для благоустройства территорий.
Первые арестантские роты были сформированы ещё в 1827 г. в Новгороде и Пскове, постепенно практика их создания распространялась по другим губерниям. Роты попали в распоряжении строительных комитетов городов, труд арестантов использовался на ремонте и строительстве городских зданий, дорог, улиц. Министерство внутренних дел даже рекомендовало заменить ссылку в Сибирь арестантскими ротами. Такая практика давала дешёвый способ благоустройства городов, снижение государственных расходов на этапирование арестантов и снижение финансовой нагрузки с губернских городов [7].
Во Владимире в 1838 г. на базе работного дома была сформирована арестантская рота гражданского ведомства с целями создать условия для исправления оступившегося и помочь встать на путь благоразумной жизни путём созидательного труда на благо общества [9, 10]. Однако в отношении особой категории заключённых – польских мятежников, система исправления не сработала.
История польских повстанцев во Владимире началась 5 ноября 1863 г. ( здесь и далее – по старому стилю ), когда в губернском городе была создана Военно-судебная комиссия для суда над польскими мятежниками [5, Л. 1].
Начальник Псковской губернии уведомил владимирского военного губернатора о том, что к отправлению во Владимир назначены 135 пленных мятежников из Царства Польского, и 11 ноября 1863 г. из Пскова во Владимир прибыла первая партия мятежников: 135 человек, 28 из которых были привилегированного сословия [Там же].
Постепенно прибывали новые партии, и к концу декабря 1863 г. поступили 623 повстанца (возраст - от 12 лет!) [6]. Все они прошли перед судом за несколько месяцев работы военно-судебной комиссии. По приговору одни отправились в Сибирь, другие – в арестантские роты Владимира, Нижнего Новгорода, Вятки, Саратова, Симбирска и других городов на сроки от 1 до 5 лет [2].
Владимирский губернатор получил из Департамента полиции Министерства внутренних дел секретный циркуляр, утверждённый императором, с описанием общих правил содержания польских мятежников в арестантских ротах гражданского ведомства. Первый пункт устанавливал обязанность губернаторов строго следить за порядком содержания арестантов и «устранять всякую возможность к обнаружению ими вредного влияния на местных жителей. Исправительные функции должны сочетаться с рациональным расчётом: арестантов назначать на такие работы, которые окупали бы их содержание, а если денег недостаточно – относить их за счёт казны Царства Польского [3, Лл. 2, 2 об].
Преступников следовало делить на 2 категории: первая – не очень крепкого здоровья, но имеют некоторое образование. Им предполагалось приискивать сообразные занятия. Вторая категория - крепкого физического сложения, не получивших образования. Их можно было отправлять на внешние работы.
Было разрешено польским арестантам не брить головы и не заковывать их в кандалы. Требовалось обращать внимание на состояние их здоровья и «постоянно занимать лиц обеих категорий полезными работами, чтобы они не оставались праздными и приносили пользу» [Там же, Лл. 2, 3]
Особо оговаривались в циркуляре условия привлечения польских арестантов на городские работы: «не наряжать политических преступников на мелкие в частных домах работы, посылать их под усиленным конвоем только на общественные городские не более 50 человек в партии под усиленным конвоем, чтобы было удобно наблюдать, не входят ли они в разговоры с людьми посторонними» [3, Л. 3]. Виды внешних работ для польских и российских арестантов были общими, как показывают данные табл.
Таблица
Внешние работы, на которые привлекались заключенные Владимирской арестантской роты [Там же, Лл. 7-7 об]
|
Политические преступники |
Русские арестанты |
|
В зимнее время |
|
|
Расчистка снега у корпуса присутственных мест, на дворе и у дома губернатора, на дворе тюремного замка и других общественных мест |
Расчистка снега у детского приюта, выравнивание по главной улице сугробов и ухабов, расчистка и усыпание песком тротуаров |
|
С весны |
|
|
Устройство дамбы от реки Клязьмы по пойме к пескам. |
Выравнивание оврага, отделяющего город от солдатской слободы, устройство съезда от Ивановского моста за Лыбедь, сделать сообщение Троицкой слободы с базаром. |
Все расчёты по содержанию польских преступников шли между казнами империи и Царства Польского через министерство финансов. Именно туда направлялись сведения об издержках на содержание польских арестантов.
Переписка владимирского городского головы с начальством губернии свидетельствует о непростых отношениях гражданских властей и тюремных начальников из-за привлечения польских арестантов к общественным работам.
Владимирский городской голова в июле 1864 г. жаловался во Владимирское губернское правление, что арестанты на работу являются в седьмом часу утра, в 8 часов завтракают целый час, в 10–11 часов уходят в роту и являются на работы в третьем часу дня. В 5 часов уходят с работы.
В сутки работали они менее 5 часов. Кроме того, работали крайне недобросовестно, «с страшной ленью и неохотою». Конвойные их заставляли, но они отвечали смехом и портили инструменты. В связи с таким положением дел Владимирская городская дума сообщила командиру Владимирской арестантской роты, чтобы он арестантов на работы не высылал [Там же, Лл. 81–81об].
Для начальника арестантской роты такое решение владимирских властей было равносильно упрёку в недобросовестном выполнении им его обязанностей. Он попытался в своём рапорте во Владимирское губернское правление оправдаться: арестанты приходят на работы не позже 5 часов утра, работают до вечера, надзор хороший, почему городской голова нашел работы неудовлетворительными – не знает [Там же, Л. 82].
Однако факты говорили о следующем: в течение ноября 1864 г. 266 арестантов выработали 2 р. 31 коп., в январе 201 арестант – 5 р. 46 коп. Вывод: сидели без занятий! [Там же, Л. 145].
От министра внутренних дел П.А. Валуева губернскому начальству вновь поступает распоряжение занять арестантов работами, ибо «нравственному исправлению арестантов преимущественно способствует беспрерывное занятие их работой» [Там же, Л. 195].
Было рекомендовано также озаботиться развитием ремёсел в роте и обучать им арестантов. Однако и в 1865 г. выработка арестантов оставалась низкой – каждый заработал около 10 коп. в месяц.
Начальник владимирской арестантской роты вскоре признал, что крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, получают 20-30 копеек и гораздо усерднее работают. Арестанты из поли- тических и не хотят (ленятся) и не могут работать – оказываются «малосильными, не способными к земляным и другим тяжким работам». Частные лица их нанимают с большой неохотой. Ремёслами же польские арестанты не владеют или скрывают, что умеют делать, в отличие от русских заключённых, среди которых были кузнецы, бондари, слесари, сапожники. Поэтому политические «остаются праздными» [3, Лл. 282–284].
Полная изоляция осужденных повстанцев была невозможна несмотря на то, что их содержали в отдельном каменном корпусе арестантской роты. По городу сразу разлетелся слух о поступлении партии польских мятежников. С особым смешанным чувством восхищения, интереса и интриги встретили их владимирские гимназисты. К зданию на краю города, где размещались польские мятежники, стекалась незаметно молодёжь. Любопытные и сочувствующие часами просиживали в кустах, прислушиваясь к непонятной речи, доносящейся из окон [2].
Польским арестантам приходили письма с родины, от семей и соратников по борьбе, и тогда «весь замок пел революционные песни». Владимирская молодёжь им жадно внимала, восхищалась непримиримости и стойкости поляков.
Опыт исправления политических мятежников через арестантские роты не принёс положительного результата. Более того, его не могло быть. Подавляя восстание 1863 г. в Царстве Польском, власть впервые столкнулась с политической оппозицией такой силы и масштаба, вынуждена была ввести санкции против большого количества политических преступников.
Польские мятежники имели ряд льгот в условиях содержания (питание, книги, письма, внешний вид) и позволяли активно проявлять неприятие условий заключения - отказываться от внешних и внутренних работ, демонстрировать приверженность национально-политической борьбе, ультимативносепаратистское поведение и презрение российским и местным властям. Сильное групповое этническое сознание, групповая солидарность, твёрдость в убеждениях отличали этих арестантов.
Находясь в тюремных стенах, польские мятежники, как им казалось, продолжали вести свою борьбу с царским правительством доступными в этих условиях средствами. Ни о каком исправлении речи быть не могло. Наоборот, проявился обратный эффект: своим пребыванием в арестантских ротах внутренних губерний России польские повстанцы ещё больше усиливали радикальные настроения молодежи, придавая романтических флёр вооруженному сопротивлению властям и героизируя политическую преступность.
По истечении сроков заключения в арестантских ротах пленные мятежники по усмотрению правительства или возвращались на родину или отсылались на водворение во внутренние губернии России под надзор полиции [4, Лл. 3-3 об]. Однако при любом исходе они несли с собой всё тот же запал борьбы с государством, чем вызывали сочувствие среди местного населения. Такая диффузия (расползание) протестных настроений по стране способствовала радикализации общественного сознания. Частично вина за это лежала на российской власти, на её политике «либерального заигрывания» с польской оппозицией.
Список литературы Польские мятежники во владимирской арестантской роте: неудачный опыт исправления
- Владимирский централ / Т.Г. Галаншина, И.В. Закурдаев, С.Н. Логинова. М.: ЭКСМО, 2007. EDN: QPFQTD
- Военно-судная комиссия для польских мятежников в гор. Владимир (1863-1864 гг.). [Электронный ресурс]. URL: http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/s/37-1-0-5379?ysclid=lnakvd4hgy408672356 (дата обращения: 07.09.2023).
- Государственный архив Владимирской области, Фонд 455 Владимирская губернская строительная и дорожная комиссия. Оп.1, ед.хр.603 О производстве строительных и ремонтных работ польскими повстанцами, содержащимися во Владимирской арестантской роте, нач. 3 декабря 1863-15 марта1868.
- Государственный архив Владимирской области, Фонд 455 Владимирская губернская строительная и дорожная комиссия. Оп. 1, ед. хр. 604 Переписка с Главным управляющим путями сообщений и публичными зданиями о порядке помещения во Владимирскую арестантскую роту гражданского ведомства польских повстанцев, 13 июля 1863 г.
- Государственный архив Владимирской области, Фонд 455 Владимирская губернская строительная и дорожная комиссия. Оп. 1, ед. хр. 617 О назначении в арестантскую роту гражданского ведомства 28 человек дворян польских повстанцев, нач. 2011. 1863, конч. 4. янв. 1864.
- Государственный архив Владимирской области, Фонд 455 Владимирская губернская строительная и дорожная комиссия. Оп. 1, ед. хр. 619 О поступлении партии польских повстанцев в числе 181 человека во Владимирскую арестантскую роту. 1863-1864.
- Ерин Д.А. Владимирская арестантская рота гражданского ведомства в системе исполнения наказаний Российской империи в конце 30-х -40-х гг. XIX в. // Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 2(3). С. 233-235. EDN: KYPNWP
- Мулина С.А. Участники польского восстания 1863 г. в Западносибирской ссылке: дисс. … канд. истор. наук. Омск, 2005.
- Рубцов Д.И. Организационные и правовые аспекты функционирования Владимирской арестантской роты гражданского ведомства // Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: история и современность: сб. науч. тр. Владимир: Изд-во Владимир. юридич. ин-та Федеральной службы исполнения наказаний, 2015. С. 134-139. EDN: WXYUNR
- Рубцов Д.И., Горбунова М.М. Становление и развитие системы мест лишения свободы во Владимирской губернии в XIX - начале XX в. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 6(205). С. 71-77. EDN: ZQEVTL