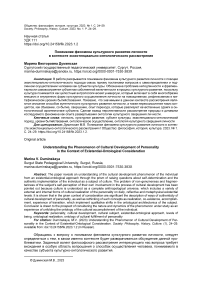Понимание феномена культурного развития личности в контексте экзистенциально-онтологического рассмотрения
Автор: Думинская М.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В работе раскрывается понимание феномена культурного развития личности с позиции экзистенциально-онтологического подхода сквозь призму постановки вопросов о самоопределении и подлинном осуществлении человека как субъекта культуры. Обозначена проблема неподлинности и фрагментарности самовосприятия субъектом собственной включенности в процесс культурного развития, поскольку культура понимается как целостный антропологический универсум, который включает в себя многообразие внешних и внутренних форм культурного осуществления личности на повседневном, рефлексивном и метафизическом уровнях бытийствования. Показано, что значимыми в данном контексте рассмотрения являются описание способов аутентичности культурного развития личности, а также переосмысление таких концептов, как сбывание, событие, свершение, опыт перехода, которые реализуют качественные сдвиги в онтологической архитектонике субъекта. Сделан вывод перспективности рассмотрения природы и динамики исследуемого феномена как опыта развертывания онтологии культурного свершения личности.
Личность, культурное развитие, субъект культуры, экзистенциально-онтологический подход, уровни бытийствования, онтологическое осуществление, онтология культурного свершения личности
Короткий адрес: https://sciup.org/149142049
IDR: 149142049 | УДК: 111 | DOI: 10.24158/fik.2023.1.2
Текст научной статьи Понимание феномена культурного развития личности в контексте экзистенциально-онтологического рассмотрения
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия, ,
,
Человек на вопрос о том, является ли он культурно развитой личностью, зачастую отвечает утвердительно, но при этом совершенно не задумывается над тем глубинным смыслом и теми идеями, которые вбирает в себя это понятие. Между тем в нем заключен весь опыт онтологического становления и трансформации человека как личности. Очевидно, что первое – биологическое – рождение человека не является актом его онтологического рождения как субъекта культуры, поскольку, будучи включенным в мир повседневной социокультурной действительности, он не обременяет себя вопросами о том, в чем смыл его существования. Прежде всего пред ним стоят задачи найти способы удовлетворения витальных и социальных потребностей, освоения тех базовых культурных практик, которые позволят ему утвердиться на повседневном уровне существования. Однако проблема состоит в том, что в процессе жизненного цикла приумножение освоения такого рода первичных базовых практик во всем их многообразии не производит качественных изменений во внутренней структуре личности. Принцип утилитарности в освоении культурного опыта человечества отбрасывает на периферию значимость постановки вопросов о смысле жизни, свободе, счастье, бессмертии, предназначении в этом мире и обращении этих вопросов к самому себе – конкретному, уникальному личностному началу: как я должен жить; каким я должен быть; что я должен делать, чтобы успеть состояться, свершиться, сбыться? Под властью жизненно-практических и прагматичных ценностей мы находим множество аргументов, так или иначе оправдывающих наши целевые установки без их соотнесения с понятием смысла жизни и возможностью его осуществления в пределах личностного бытия.
Приращение способов овладения внешним миром культуры, т. е. окультуривание субъекта на внешнем уровне социокультурной действительности, безусловно, является неотъемлемой составляющей становления человека как субъекта культуры. Но ограничивается ли этим работа по выстраиванию культурной онтологии личности? Перед данной сложностью и неоднозначностью обсуждаемой проблемы значимой становится постановка ряда вопросов, ведущих к прояснению того, что представляет собой процесс культурного развития личности в онтологическом смысле, а именно – с каких событий начинается культурно-онтологическое рождение человека, что знаменует собой переход эмпирического субъекта в особый онтологический режим жизни, возможно ли в нем удержаться и с помощью каких средств это сделать?
Эта линия вопрошания может быть бесконечно продолжена. Рассмотрению такого рода вопросов посвящен широкий спектр работ, представленных в различных областях и направлениях гуманитарного познания, а также на уровне их междисциплинарного пересечения (философской антропологии, философии культуры, психологии и педагогики развития, структурной антропологии и др.), в которых предлагается вариативное множество ответов на интересующие вопросы. В данном плане рассмотрения особый научный интерес представляют идеи, разработанные в рамках культурно-исторической и психологических концепции развития Л.С. Выготского, В.В. Давыдова (1996), В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман (Слободчиков, Цукерман, 1996), Д.Б. Эльконина, Б.Д. Эльконина (1994), П.Г. Щедровицкого (1998) и др., а также зарубежные труды Дж.В. Верча1, Ю. Энгестрёма (Engestrom, 1996), написанные на стыке психологии и культурной философии. Онтологический подход к обозначенной проблематике представлен в известных философско-антропологических проектах, которые произвели сдвиги в понимании культурной, экзистенциальной природы бытия человека (И. Кант, М. Хайдеггер, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, М. Шелер, М. Фуко, М.М. Бахтин и др.). Среди современных отечественных авторов, в ряде работ которых присутствует философская аналитика культурного развития личности, следует отметить А.В. Ахутина (1996), И.О. Генисаретского (1997), П.С. Гуревича2, В.М. Розина3 (2003), Г.Л. Тульчинского (2002), С.А. Смирнова (2004, 2015, 2020) и др.
Проблемное поле изучаемой темы многопланово, и каждая линия ее разворачивания требует отдельного рассмотрения. Цель работы состоит в раскрытии понимания феномена культурного развития личности с позиции экзистенциально-онтологического подхода. В данном случае на основе философско-исторического анализа и герменевтического подхода, применяемых в рамках исследования, мы можем отразить лишь некоторые аспекты истолкования сути обсуждаемого феномена с позиции онтологического видения, что позволит в некоторой степени зафиксировать оптику его понимания, расширяя границы новых поисков и вопрошаний в этом направлении.
Исходная установка онтологического рассмотрения проблемы такова, что культура и человек не мыслятся раздельно. Как известно, культура – это особое измерение, отличное от эмпирической (натуральной) действительности, в которой выделяются два плана: первый – внутренний (действительный, подлинный), где происходит развертывание способов, форм культурного преобразования личностной структуры человека; второй - внешний (натуральный, эмпирический) предстает как пространство объективированных форм культурного развития человечества. В этом смысле культура понимается не только как уже данная, ставшая действительность, отличная от естественного мира природы, а как живая, произведенная человеком особая форма бытия. С одной стороны, она есть некая производная от него и его культурных деяний, а с другой - представляет собой процесс изменения самого человека. С позиции онтологического рассмотрения культура выступает как многомерный целостный антропологический универсум, вбирающий в свое культурное измерение все многообразие форм его проявления, т. е. результатов культурного развития человека на внешнем и внутреннем уровнях бытийствования.
В фокусе внимания экзистенциально-онтологического подхода оказывается внутренний план культуры и феноменов культурного развития. В связи с этим смещаются акценты в истолковании данного феномена. Во-первых, внимание переносится с понятия человека на понятие личности, поскольку речь идет не просто о развитии человека как представителя человеческого рода с присущими ему обобщенными характеристиками, внимание акцентируется на своеобразном процессе организации и качественном преобразовании его личностной структуры. Это преобразование происходит на протяжении всей его жизни, качественный скачок порождается в свершениях событий экзистенциальной значимости. В каждом конкретном случае как сам процесс такого культурного-онтологического развития, так и его результат исключительны и уникальны. Ведь каждый из нас осуществляет работу по возделыванию себя в качестве культурного субъекта, т. е. формирует себя как культурную личность, способную управлять эмпирическим субъектом, выходить в иной режим бытия - онтологического осуществления. Во-вторых, акценты смещаются в основной постановке задачи, которая состоит не в определении того, что есть личность, а в раскрытии специфики самого способа ее развития в качестве культурного субъекта. Это значит, что в фокусе внимания оказывается поиск ответов на вопрос не «что» есть личность, а «как» и «каким образом» это особого рода сущее (личностное «я») должно бытийствовать (аутентично, подлинно, целостно).
Существует множество подходов к определению понятия «развитие», выделяющих ключевые моменты в рассмотрении способа существования любой органической системы. В научном познании развитие описывается в категориях онтогенеза, филогенеза, патогенеза, разрабатывается с учетом социальной специфики культур, обществ и сопряжено с такими понятиями, как время жизни, жизненный путь, жизненный цикл, траектории развития, возраст и др. (Орлова, 1994; Смирнов, 2001). Так, например, в натуралистически ориентированных концепциях развитие трактуется как последовательное развертывание свойств объекта, системы; качественное изменение, саморазвитие развивающегося объекта - мыследеятельного субъекта (Щедровицкий, 1998); формирование способностей человека через освоение способов деятельности в различных областях (Давыдов, 1996).
Согласно общей теории развития, возраст рассматривается как объективно и исторически сложившиеся стадия (этап, форма) развития. Согласно представлениям В.И. Слободчикова, «развитие оформляется, результируется в возрасте, который сам по себе не развивается, а образуется как форма, которая в силу своей завершенности может только сменяться другой формой, замещаться ею» (Слободчиков, Исаев, 1991). В понимании возраста в биогенетическом направлении теории развития доминирующим моментом выступают закономерности процессов созревания, роста и старения, в социогенетическом - научение и социализация.
В рамках изучения развития человека выделяются различные феномены (виды) возраста: а) хронологический, или календарный (начинается с момента рождения и измеряется числом календарных дней); б) умственный (приравнивается к развитию интеллекта человека и высчитывается по результатам тестирования); в) психологический (определяет сознание, отношение к среде, внутреннюю и внешнюю жизнь человека). Каждый возраст имеет характерные черты и границы в развитии. Периодизация развития предполагает смену одних стадий другими, переход с одного уровня на другой. Специфика этих переходов определяет способ периодизации развития человека как живой системы. Разработано множество возрастных периодизаций, представленных в разных дисциплинарных областях и направлениях (психологии, педагогике, социальной философии, структурной антропологии и др.), в которых вводятся такие понятия, как возрастной слой, возрастная ступень, стадии жизненного пути и др. (Смирнов, 2001).
С экзистенциально-онтологической позиции вопросы о возрастной периодизации культурного развития субъекта не имеют смысла, поскольку в данном случае требуется обращение к истолкованию таких понятий и концептов, как сбывание, свершение, экзистенция, трансцендиро-вание, опыт транскультурного перехода и т. д. В таком контексте развитие понимается как процесс развертывания онтологических свойств субъекта в особых режимах и модусах осуществления, которые приводят к качественным изменениям, онтологическим сдвигам в его личностной структуре. Это процесс возделывания, выстраивания новой архитектоники субъекта - личностного начала. В феноменологии и экзистенциализме в центре внимания оказывается понятие «здесь и теперь» (М. Хайдеггер), которое предполагает со-положенность прошлого, настоящего и будущего, т. е. происходит сдвиг в линейно-поступательном понимании развития. Человек рассматривается как субъект, переживающий все многообразие сменяющих друг друга исторических моментов и состояний бытия в акте схватывания полноты бытия - «здесь и теперь», где все три времени стянуты в одну точку (Хайдеггер, 1993). Иными словами, развитие мыслится событийно в целостности и актуальности переживания бытия.
В связи с этим все понятия, так или иначе отсылающие проблеме определения культурноонтологического возраста личностного начала, обретают символическое значение, т. е. не даются в готовом, фиксированном виде. Скорее, они образно-метафорической форме выражают, используя кантовскую терминологию, «возраст свободы». И. Кант устанавливает метафизическую границу автономному субъекту, с преодоления которой начинается его онтологическое самоопределение (1965). Речь идет о возрасте как о неуловимом на эмпирическом уровне состоянии, выраженном в возможности метафизически сбыться, свершиться, перейти в особый онтологическом режим осуществления жизненного пути. Это свидетельствует об экзистенциальном переживании субъектом пограничного состояния - нахождения на границе двух онтологических модальностей (эмпирической и метафизической). В рамках такого понимания развитие (культурно-онтологическое взросление или становление личности) может рассматриваться как переходное состояние субъекта от одного модуса бытия («детство» как дорефлексивный уровень) к другому («взрослость» как рефлексивный и метафизический уровень осуществления). В таком случае динамику культурного развития личности определяет «случание» событий, выбрасывающих человека в экзистенциальный режим бытия.
В связи с этим правомерно возникают следующие вопросы. Можно ли измерить уровень сформированности человека на этапах культурно-онтологического развития? Можно ли выделить показатели для оценки такого рода культурной сформированности личности? Здесь необходимо обозначить ряд моментов, на которых фиксирует внимание С.А. Смирнов, раскрывая природу феномена культурного взросления человека. Во-первых, культурный возраст эмпирически не схватывается как готовая сформированная способность, поскольку не выражается через тесты, годы, наблюдения и т. д. Такого рода индикаторы не являются адекватными средствами диагностики культурной сформированности как символического понятия. Во-вторых, культурный возраст не выстраивается хронологически в виде отрезка на прямой с заданными единицами измерения на этой линии развития, поскольку он не равен эмпирическому возрасту индивида, который понимается как натуральное, ставшее, заданное. Таким образом, если в отношении эмпирического субъекта мы можем поставить конкретные вопросы (о ком идет речь, чей культурный возраст формируется, когда он сформируется?) и на основе измерения ряда показателей выявить норму среднестатистического развития для определенного возраста, то в отношении субъекта культурного развития ситуация значительно усложняется. Ведь речь идет о метафизическом состоянии личностного взросления, позволяющем субъекту выдерживать экзистенциальные ситуации максимальной возможности быть особым образом. Показатели личностной архитектоники, позволяющие человеку их выдерживать, не могут быть эмпирически схвачены и адекватно этому состоянию описаны (Смирнов, 2001).
Действительно, мы не можем на основе эмпирических показателей получить ответ, например, на следующие вопросы. Когда у конкретного ребенка формируется воля как культурная способность? Когда конкретный человек способен выдерживать состояние свободы как метафизическую проблему собственного самоопределения? Сколько лет символическому мышлению этого человека? Это значит, что степень культурного развития невозможно зафиксировать и описать через характеристики и показатели, которые используются в отношении субъекта как эмпирического индивида. Натуралистические и хронологические подходы к диагностике в данном случае не работают. В связи с этим в экзистенциально-онтологической среде понимания мы можем говорить только о концептуальном построении идеала культурного развития личности, но с учетом того, что заданная норма не будет иметь среднестатистических показателей. С опорой на представленную точку зрения С.А. Смирнова можно сделать вывод, что культурно-онтологический возраст личности невозможно измерить, зафиксировать в эмпирических показателях, поскольку речь идет об экзистенциально значимом состоянии, а не о стадии или периоде как об эмпирически воспринимаемом и измеряемом отрезке.
Как философская категория понятие культурно-онтологического развития личности и сопряженные с ним понятия получают выражение только в философских концептах. С позиции онтологического подхода главной задачей становится не построение периодизации возраста культурного развития, а анализ и разработка базовых философских концептов, которые обозначают специфику актов – экзистенциальных событий культурного свершения и воспроизводящих их механизмов. Значимость построения таких концептов обусловлена тем, что на их основе уже могут разрабатываться практические способы и технологии культурного развития личности, осуществляемого в онтологическом режиме бытия. В философии М. Фуко представлен опыт «заботы о себе» как опыт воспроизведения практик духовности, практик открытия в себе онтологически другого, направленных на самопреображение, выстраивание своего личностного начала (Фуко, 2011). Раскрывая специфику феномена «забота о себе», С.А. Смирнов пишет, что под ним понимается «антропопрактика отстраивания человеческого содержания и управления им, практика фундирования и взращивания новых “функциональных органов”, посредством которых и возможна собственно антропологическая навигация, тех умений и способностей, качеств личности, позволяющих выстраивать и управлять собственными жизненными траекториями. Без них, без этих особых функциональных органов, без “умного зрения” и “умного тела”, никакая жизненная траектория не может быть выстроена и пройдена» (Смирнов, 2017: 31).
В экзистенциальных философских концепциях производится постановка вопросов о человеке как о субъекте, действующем в особом режиме онтологической заботы о себе, возделывающем себя в культурном измерении бытия, раздвигающем собственные онтологические горизонты. Экзистенциальный субъект ставит перед собой вопрос о подлинном аутентичном существовании: что значит быть, каким способом реализовывать собственный проект бытийствова-ния, какие культурные практики должны быть для этого задействованы. Бытие влечет к себе человека, взывает его к еще нереализованным возможностям, обретению подлинного смысла существования – способу быть, т. е. как именно быть (Хайдеггер, 1993).
Таким образом, культурное развитие личности предполагает рассмотрение человека как экзистенциального субъекта, который должен постоянно производить культурно-онтологическую работу над собой, поскольку культурная составляющая в его личностной структуре не предоставлена в готовом виде. Это не есть нечто заданное, не есть ресурс, который можно использовать, растрачивать в течение жизни. Эта работа не сводится только к накоплению и аккумуляции знаний, навыков, опыта, необходимых для реализации практик в разных сферах жизнедеятельности. Это процесс воссоздания, возделывания самого себя в особом метафизическом режиме бытия, выходящего за рамки натуралистических трактовок онтогенеза, социогенеза, психологического развития индивида. Данный путь начинается с событий обнаружения себя в качестве рефлексирующего субъекта культуры, способного осознавать себя в качестве такового и осуществлять сдвиг, трансцендируя за пределы повседневного существования – к себе, еще онтологически несвершенному, несбывшемуся посредством реализации рефлексивных, творческих, метафизических практик саморазвития вне зависимости от условий, факторов, возможностей самореализации на эмпирическом уровне существования. Это процесс самотрансформации субъекта, который наблюдается на всех уровнях онтологического осуществления и составляет содержание опыта развертывания онтологии культурного свершения личности.
Список литературы Понимание феномена культурного развития личности в контексте экзистенциально-онтологического рассмотрения
- Ахутин А.В. Тяжба о бытии : сборник философских работ. М., 1996. 304 с.
- Генисаретский О.И. Окрест вершин: антропологическое воображение и перфективный праксис // Совершенный человек. Теология и философия образа / отв. ред. Ш.М. Шукуров. М., 1997. С. 261-290.
- Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. 544 с.
- Кант И. Сочинения : в 6 т. М., 1965. Т. 4, ч. 1. 544 с.
- Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994. 214 с.
- Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Категория возраста в психологии и педагогике развития // Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 37-49.
- Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Интегральная периодизация общего психического развития // Вопросы психологии. 1996. № 5. С. 38-50.
- Смирнов С.А. Антропопрактики заботы о себе: событийность концепта // Практики развития: современный конфликт индивидуального и массового образования : материалы XXIII Науч.-практ. конф. / ред.: Б.И. Хасан, Л.А. Новопашина. Красноярск, 2017. С. 31-53.
- Смирнов С.А. Культурный возраст человека. Философское введение в психологию развития : монография. Новосибирск, 2001. 261 с.
- Смирнов С.А. Ситуация человека и современный антропологический дискурс // Философия, социология, право: традиции и перспективы : сб. науч. тр. Всерос. научн. конф., посвященной 30-летию Института философии и права СО РАН / ред. В.Н. Вольф. Новосибирск, 2020. С. 216-222. https://doi.Org/10.47850/S.2020.1.62.
- Смирнов С.А. Современная антропология: аналитический обзор // Человек. 2004. № 1. С. 61-67.
- Смирнов С.А. Форсайт человека. Опыты по неклассической философии человека. Новосибирск, 2015. 658 с.
- Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности. СПб., 2002. 677 с.
- Фуко М. Безопасность, территория, население : курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году / пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб., 2011. 543 с.
- Хайдеггер М. Время и бытие : статьи и выступления. М., 1993. 447 с.
- Щедровицкий П.Г. Культурно-историческая концепция как философская антропология // Наш Понедельник: ежегодник Городского центра развития образования. Новосибирск, 1998. С. 98-113.
- Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития. М., 1994. 168 с.
- Engestrom, Y. Putting Vygotsky to Work: The Change Laboratory as an application of double stimulation. The Cambridge Companion to Vygotsky. 2007, pp. 383-427.