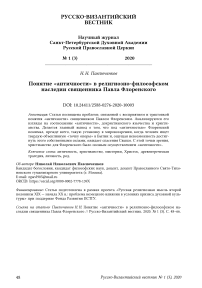Понятие "античности" в религиозно-философском наследии священника Павла Флоренского
Автор: Павлюченков Николай Николаевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Русская религиозная философия
Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме, связанной с восприятием и трактовкой понятия «античности» священником Павлом Флоренским. Анализируются его взгляды на соотношение «античности», дохристианского язычества и христианства. Делается главный вывод о том, что под «античностью» Флоренский понимал, прежде всего, такую установку в мировоззрении, когда человек ищет твердую объективную «точку опоры» в Бытии и, ощущая невозможность достигнуть этого собственными силами, ожидает спасения Свыше. С этой точки зрения, христианство для Флоренского было полным осуществлением «античности».
Античность, христианство, мистерии, христос, древнегреческая трагедия, личность, род
Короткий адрес: https://sciup.org/140294765
IDR: 140294765 | DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10003
Текст научной статьи Понятие "античности" в религиозно-философском наследии священника Павла Флоренского
Священник Павел Флоренский представляется наиболее оригинальным из тех русских религиозных мыслителей первой половины ХХ в., кто писал на тему соотношения античности и христианства, наличия или отсутствия «общего» у «Афин» и «Иерусалима»1. Мыслителем, задавшим для него «программу» всей жизни, был Владимир Соловьев, наблюдавший в мировой истории религии единый богочеловеческий процесс, а университетским преподавателем философии был последователь В. Соловьева князь С. Н. Трубецкой, для которого античные мифы и мистерии являлись непосредственными прообразами и зачатками истин христианского вероучения и реальной преображающей силы христианских таинств.
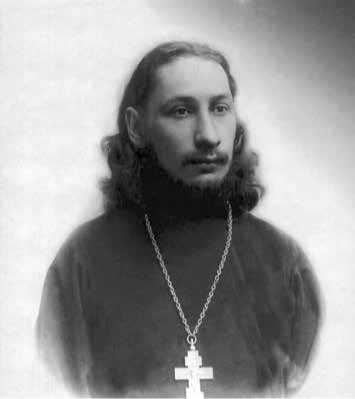
На первый взгляд, Флоренский не просто придерживался одной из крайних точек зрения, когда доказывается прямое преемство христианской религиозной традиции от древнегреческих религиозных учений и культов. Он не только находил единую суть в тех проявлениях религии, которые исторически фиксируются в античности, в христианской Византии первого тысяче-
Отец Павел Флоренский летия н. э. и в средневековой Руси. Когда государственный переворот 1917 г. поставил
под угрозу уничтожения многовековое историческое и культурное наследие России, Флоренский со всей силой своего личного убеждения объявил, что Троице-Сергиева лавра, как «ноуменальный центр России», есть «русские Афины», а в личности преп. Сергия Радонежского, как «Ангела Хранителя Руси», реализован античный идеал гармонического устроения человека. Новым деятелям, от которых с 1917 г. стало зависеть направление дальнейшего культурного развития страны, Флоренский попытался указать на то, что античная традиция со всеми ее общепризнанными во всем мире ценностями, представляет собой фундамент и онтологическое основание русской культуры и есть не только прошлое, но настоящее и будущее России. Не видя возможности сохранения в новых условиях прежнего статуса Троице-Сергиевой лавры, Флоренский обосновывал необходимость создания в ней некоего религиозного «музея-заповедника» (с сохранением монашеской жизни и богослужения) и с этой целью раскрыл свои представления о единстве духовной общечеловеческой традиции — так, как, может быть, полагал неуместным делать прежде, в академических изданиях до 1917 г.
Проблема заключается в том, что очень многое, написанное Флоренским на эту тему в 1918–1922 гг. (и чуть позже, в записях «Воспоминаний», датированных по преимуществу 1923 г.), дало некоторым исследователям повод обнаружить у него фатальное нечувствие к религиозной новизне христианства, в то время как есть другие записи и свидетельства, такой вывод не поддерживающие и заставляющие, как минимум, оставлять данный вопрос открытым. Так, например, в известном исследовании С. С. Хоружиего «Миросозерцание Флоренского» (написано в 1970-е гг., опубликовано в 1999 г.) утверждается, что эллинскую2 и христианскую мистику Флоренский постоянно рассматривал как «метафизически идентичные», как варианты или как последовательное развитие «одной и той же самотождественной духовной традиции»3. На этом же основании здесь делаются выводы об отождествлении Флоренским существа античных мистерий и христианской литургии4. О том, что «Флоренский не чувствует и не оговаривает абсолютности Новозаветного Богоявления», отступает «назад, за христианство, в платонизм и древние религии», писал еще раньше, в 1930-е гг., прот. Г. Флоровский5.
Между тем, сам Флоренский в лекции «Освящение реальности» (запись, датированная 2 июня 1918 г.) утверждал, что «культурно-исторической плотью, воспринятой Церковью для воплощения нового духа, была та самая общечеловеческая символика, над которой в течение пяти тысяч лет упорно работали, по сообщению Геродота, все маги Азии, а точнее сказать, — не только Азии, но и всех других культур»6. В более ранней записи (22 декабря 1913 г.) он подчеркивал несомненную для него «связь учения и культа православной Церкви... с учениями и культами других религий, до-христиан-ских»7. «Если нет связи, — писал он, — христианство не связано с душой человеческою, ибо во вне- и до-христианских религиях выразилась именно общечеловеческая религиозная душа. Если же есть она, эта связь, то тогда христианство не есть религия особливая и исключительная... И тогда Христос не Единственный , но лишь Первый, даже один из многих»8. Не допуская эту, последнюю возможность, Флоренский делает вывод о присутствии здесь антиномии, когда «Христианство осознается не только как единственное, но и как господственное, — не только как особливое, но и как царствующее, ибо все из других религий в христианство входит и оно, ничему не чуждое, само остается не от мира и остается чуждым „мирскаго слития“»9. «Христос, — говорится в записи о. Павла от 4 апреля 1914 г., — Сын Человеческий. Он — всечеловек и Он Единственный. Он всему дает отклик, и Он ни с чем не отождествляется. Чтобы спасти всех — Он должен быть связан со всеми. Чтобы спасти — Он должен быть ни от кого, „не от мира“. Во Христе разрешается антиномия Среды и Личности»10.
Опять же, имея в виду, прежде всего, античную религию, Флоренский утверждал («Освящение реальности», 2 июня 1918 г.), что «язычество есть частью память об Истине, уже открытой, частью гребни передовых волн Истины, грядущей в мир... И, следовательно, если бы в Церкви Христовой момент язычества просто отсутствовал, то это-то и доказывало бы неполноту, несовершенство и, значит, неистинность Церкви. Моралистическое усечение из Церкви всего „языческого“ не только есть дело сектантов, но и по следствиям своим неминуемо имело бы обращение Церкви в секту, если бы удалось»11. «Язычество становится таковым лишь в его противоположении Христу, как упорствующее в своей самостоятельности или как искусственно восстанавливаемое моралистами на христианство и натравливаемое ими»12.
«Что есть язычество? — спрашивает Флоренский (запись от 12 марта 1914 г.) — Мы слишком пугаемся этого жупела, как если бы язычество было абсолютным злом и бесом. Однако и язычество — религия, т. е. лучше, чем ничего и, следовательно, и в нем есть какая-то Божия помощь... Язычество вовсе не так абсолютно далеко от христианства, как это внушает семинария»13.
Есть ли здесь какое-либо противоречие, являющее себя в трудах Флоренского, а возможно, и скрывающееся в самой его личности? Или его глубокая внутренняя цельность как христианского философа, богослова и священника может быть обнаружена и здесь, после исследования того, как именно он воспринимал христианство и что именно понимал под термином «античность»?
Одно из самых первых свидетельств восприятия Флоренским христианства содержится в ранней статье Флоренского «Две поэмы», название которой при публикации редакторы переделали в «Спиритизм как антихристианство» (Новый путь. 1904. № 3). Здесь мы имеем первую печатную оценку Флоренским творчества и мировоззренческой позиции А. Белого (время написания — январь-февраль 1904 г.). «Две поэмы» — это «Лествица» А. А. Миропольского14 (1902) и «Северная симфония» А. Белого (1903), которые Флоренский рассматривает как исходящие из различного, противоположного по сути, духовного опыта их авторов — спиритического и христианского. В том, как они противопоставляются в данном случае, выявляется, чем именно с самого начала была для Флоренского религия Христа.
Христианство, по Флоренскому — это опыт А. Белого, в котором «Бог реален до осязательности», где человек, ощущая господство над собой «темных наследственных сил» и собственной греховности, имеет, однако, прибежище, где «темные силы» вынуждены выпускать свою добычу. Это прибежище — Христос, Которого нет в «спиритической религии», со всеми вытекающими отсюда последствиями, превращающими Бога лишь в предмет бесконечного устремления, не доступный, однако, для опытного переживания . Из-за этого Бог становится лишь понятием , которое нужно только как констатация возможности для духов бесконечно совершенствоваться. Флоренский не сопоставляет это с христианской «Лествицей» преп. Иоанна (возможно, в это время ему еще неизвестной), но различие очевидно: восхождение по «Лествице» Миропольского («мрачная холодная эволюция») не имеет своего завершения. Находящийся на ее вершине Бог, согласно Флоренскому, у Миропольского принципиально недостижим, не может стать для духов реальностью непосредственного опыта, а потому и сам теряет свою реальность. Спиритизм — это «отрицательная» религия, не соединяющая, а, напротив, разлучающая человека с Богом, причем — не в понятиях, не в мировоззрении, а именно — в опыте, в конкретных религиозных переживаниях. И именно поэтому спиритизм является антихристианством, тем более опасным, чем более справедливыми оказываются его претензии на характер «опытной науки»15.
Здесь Флоренский также впервые дает свою характеристику «спиритического» (по сути, анти-религиозного) опыта как «усовершенствованного позитивизма», т. е. — позитивизма, учитывающего наличие невидимого мира, но по-прежнему не знающего мира Божественного. Флоренский убежден в том, что мир Божественный открывается Христом и только Христом; вне Его человек обречен на «отпадение», «блуждание в туманах и мгле»: «Все наше мировоззрение, — пишет он, — есть христология; из Христа мы можем выводить, на Нем строить, Им поверять, Им объединять и в Нем жить»16.
Во всем этом представляется важным обратить особое внимание на указание, что человек испытывает господство над собой некоей внутренней реальности — «темных наследственных сил», — от которой нужно искать защиту и «прибежище». И это «прибежище» обретается не просто в «религии» (в «общечеловеческой» религии, в единой Религии человечества, о которой вообще часто упоминал Флорен-ский17), а гораздо более конкретно — во Христе.
Практически в этот же период, в 1904–1905 гг., Флоренский знакомится с Вячеславом Ивановым — сначала заочно, по его работам о «Религии Диониса». Флоренского, как можно видеть, практически целиком увлекает концепция Иванова, открывающая центр религии в религиозном культе, а в средоточии культа, в мистериях — онтологическое средство «улаживания» человеческого естества18. Во «Вступительном слове пред защитой магистерской диссертации...» в 1914 г. он, безусловно, воспринимая религию прежде всего «онтологически», как жизнь человека в Боге и жизнь Бога в чело-веке19, само преображающее, «теургическое» действие религии находит в том, что она «спасает нас от нас, — спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает геенну, которая в нас, и языки которой, прорываясь сквозь трещины души, лижут сознание. Она поражает гадов „великого и пространного“ моря подсознательной жизни, „имже несть числа“, и ранит гнездящегося там змея. Она улаживает душу. А водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу»20.
Но при этом, как можно видеть, центральным для него с самого начала был вопрос о том месте, которое в данной концепции должно быть отведено Христу. Хорошо зная о том, что именно это важно для Флоренского, Владимир Эрн, когда описывал ему свои первые встречи и беседы с Вячеславом Ивановым, не мог не коснуться темы Христа (письмо из Женевы осенью 1904 г.). «Вяч<еслав> Ив<анович> с женой, — писал Эрн, — любит говорить на высокие темы, вставляет иногда некстати какое-нибудь „мистическое“ выражение, имеет довольно резкий голос... Мы заговорили об аскетизме, и тут его настроение обрисовалось довольно ярко. Выяснилось, что он различает восторг от экстаза. Восторг — это цель — это уже умиренное состояние, владение собой, хотя восторг всегда и истерия. К восторгу, как к цели, ведут оба средства, с одной — стороны аскеза, с другой — экстаз. Экстаз именно средство. Это исхождение из себя — это не смиренность, еще не умирение. Его нужно пройти, чтобы дойти до восторга.
Я его спросил, считает ли он возможным достигнуть восторга [нрзб] просто путем постепенного очищения и работы над собой, для умопостижения в себе препятствий для действий благодати. — Он ответил на это, что вполне признает возможным, но „а я думаю устраивать хороводы! Это веселие... веселее гораздо потерять Христа и найти... забыть, а потом ненароком встретить опять. Мне нравится это искание Диониса... Эта радость встречи. Так радостно узнавать Христа под чужою маскою, под чужим ликом“...
Я ему сказал, что ведь нельзя же так переносить центр тяжести на удовольствие, на приятность; он ответил на это: „Вот тут особый эпикуризм духа“, и жена его сказала: „эпикуризм духа“, а он продолжил: „экстаз... я признаю священное убийство... при условии согласия жертвы на жертвоприношение. Я оправдываю убийство в экстазе. Нет, нет, я не рекомендую!..“
Жена сказала: „Ты увлекаешься, стараясь оправдать своих греков...Это ведь до Христа было позволительно“. Вяч<еслав> Ив<анович> согласился: „Христос совершил последнее священное убийство: убил Себя Самого. Принес в жертву Себя Самого. Он — Жрец и Жертва, и после Него убийство не нужно...“
Тут он как-то незаметно перешел на то, что „мир — это страдающий Бог. Это Бог Сын в разлучности с Богом Отцом“, только в этом и видит он возможность теодицеи... Я ему заметил, что у него в воззрениях нет места тогда дьяволу (а он перед этим, когда говорил о Брюсове, сказал, что верит в дьявола). Он мне ответил: „Правда, я о нем не думаю , я в него верю, опять он мне клялся все напортить“.
Вот, кажется, все, что я упомнил из разговора с ним... На меня сам Иванов и весь этот вечер произвел самое хорошее впечатление, хотя я чувствую, что Христос для Иванова — не есть центр и все , не есть средоточие его жизни и воззрений. Он пусть и радуется Христу — не потому, что это Христос, а потому, что это искание и встреча доставляют ему радость. Но я еще посмотрю, я боюсь говорить что-нибудь решительное»21.
Значение Христа в жизни самого Флоренского достаточно определенно выясняется из его интимной переписки с В. В. Розановым, в котором он (также, как в А. Белом) сумел уловить живое чувство мистической основы религии, но который по отношению к христианству и ко Христу написал много, по оценке самого Флоренского, богохульного. «Неужели Вы, — пишет Флоренский Розанову, — никогда не задыхались от созерцания этой мировой сексуальности?.. Христос, — Господь Бог, — дает забыть о „Ваших“ категориях мировосприятия, позволяет видеть мир не в свете +2 или -2, а sub specie aeternitatis et sanctitatis (с точки зрения вечности и святости, — Н. П. ). Во Христе получаем сладость ангельского бытия. Вы не понимаете того, что мы можем отдохнуть „на груди Христа, у ног Христа“ от „Ваших“ тем... Смотрите, Василий Васильевич, как бы Вам не было в аду такого наказания: посадят Вас в комнату, где... только и будет действительности, что под углом зрения пола. И восплачете Вы ко Христу, Которого оскорбляете. Замучаетесь, стошнит Вас. Будете простирать руки, чтобы идти на какие угодно муки, лишь бы не видеть всего под углом зрения пола, и тщетно будет Ваше отчаяние: „Где сокровище Ваше, там и сердце Ваше будет“»22.
Флоренский пишет, что признает «глубину», на которую указывает Розанов. т. е. мистическую глубину «тайны пола». «Но есть, — пишет он, — есть и высота... И я чувствую, что в высоте дана будет и глубина. Проще: тайну души своей я скажу Одному только, но потому, что Он только будет плакать со мною... Люблю Его, — Которого Вы ненавидете. И знаю, что я абсолютно свободный, стою лицом к лицу с Ним Одним, мнением Его Одного дорожу... Люблю Его, потому что только у Него могу успокаиваться. И Вы не спокойны, поверьте». Но — «ничто не насытит сердца, кроме Него»23. «...Вся структура моей души, — пишет он 19 мая 1909 г., — держится на Христе. Он для меня оказывается постоянно всем во всем, — „оказывается“, потому что я иногда пытался уйти от Него и погулять на свободе, но приходил к Нему же. Если бы Христа не было, Его надо, необходимо было бы сочинить»24. «...Без Христа нет избавления. Чем глубже грех, тем яснее образ Христа» (письмо от 15 ноября 1909 г.)25. «Но... над всеми туманами земли и ее запахами есть Господь Иисус Христос... И я (на всякий случай) прошу Вас, как друга, — подумайте над Ним серьезно, без злобы. Вам трудно принять Его, но попробуйте. Попробуйте посмотреть на Него не сквозь туманные испарения семени, когда Он кажется страшным призрачным великаном, готовым вот-вот раздавить Вас, — а при чистой атмосфере, поднявшись в чистые слои...» (письмо от 28 мая 1910 г.)26.
Уже после таинства брака, прекратившего его тяжелый внутренний кризис, Флоренский пишет о «пучине греха», от которой спас его Христос, и заявляет Розанову: «как же мне может не быть больно, когда Вы трогаете Его и даже обвиняете...» (Из письма от 15 и 20 января 1911 г.)27. И после таинства священства (в письме от 11 мая 1911 г.): «Вы поймите, Василий Васильевич, что это значит — почувствовать на себе руку Епископа, непосредственно соединенного, телесно , физически, с другими Епископами... С Апостолами, с самим Христом. Ведь на себе чувствуешь не иносказательно , а буквально руку Христа Самого»28.
В «религии Диониса», как ее, вслед за С. Н. Трубецким, воспринял Флоренский, отражены чаяния, ожидания Христа как той реальной силы, которая сделает религиозный культ не просто максимально эффективным, а достигающим своей высшей, невозможной для реализации без Христа, цели. Согласно С. Н. Трубецкому, в дохристианских мистериях наблюдается прозрение в состояние природы, которая «стенает, мучится и плачет по погибшей душе» и являет в себе «усилия воскресени-я»31. «Грек, — пишет С. Трубецкой, — совершал таинства натурализма: он приобщался непосредственно производящим силам природы, он верил непосредственно в богов хлеба и вина и думал жить и возрождаться их внутреннею силою»32. Но «богов хлеба и вина», в метафизике С. Трубецкого, реально не существует, точно так же, как и приобщение человека «производящим силам природы» здесь, очевидно, совершается только в человеческом сознании. Онтологическое значение мистериям Трубецкой придает только в христианстве, которое все «естественные производящие силы природы» пресуществляет «в мистическое тело Господне»33 и дает «сверхъестественное преображение твари и совершенное пресуществление ее в божественное тело»34. Христианство, подчеркивает С. Трубецкой, «не воспринимает в себя языческие мистерии: в своей идее оно пресуществляет их, как все непосредственное и природное»35.
Для Флоренского высшая цель мистерий — такое «улаживание» естества, которое завершается обожением, святостью, опять же, без Христа невозможной. И вот именно здесь, в трактовке Флоренским святости , обнаруживается то, что он понимал под «античностью». В этом отношении, прежде всего, нужно обратить внимание на своеобразное толкование Флоренским мифа о Прометее.
«Греческий миф, — пишет о. Павел в воспоминаниях о своем детстве (запись начала 1920-х гг.), — мне был близок, а земля, по которой я ходил, пропитана испарениями античности». Фазис, к устьям которого совершали поход аргонавты, — это река Рион, в той же самой Колхиде. «И знал я также, что доселе стоит скала в Рион-ском ущелье, на которой был распят Прометей»36. Очевидно, что это слово «распят» вместо ожидаемого «прикован» употреблено здесь Флоренским совсем не случайно. В 1920-х гг. Флоренский фактически снова повторил то, что было высказано им в ранней работе («реферате») 1906 г. («Догматика и догматизм») и затем (до некоторой степени) развито в «Столпе и утверждении Истины». Это — восприятие мифа о Прометее как выражения глубинных поисков человеком возможности реализации цели своего существования. Эти поиски — «глубинные» в том смысле, что они определяются самим онтологическим утроением человека. Человек ощущает идущий из самой основы своего существа запрос на личную встречу с Богом, без которой на самом деле не может быть никакого истинного богопочитания и — фактически — не может состояться религия как таковая. Имея пред собой Бога как понятие, как отвлеченную идею, располагая пусть даже самым возвышенным и совершенным учением о Боге, человек не может удовлетворить требования своей природы, и в те моменты, когда эти требования явно дают о себе знать (т. е. проявляют себя на уровне эмпирического сознания), человек становится «богоборцем», поднимая бунт против навязываемых ему религиозных представлений37.
Сама суть такого проявляемого «богоборчества», по мысли Флоренского, делается понятной только после Христа, и только в христианскую эпоху эта глубинная борьба против неподтвержденного опытом образа Бога становится «узаконенной». Обновленный человек, пишет Флоренский, требует и нового качества религиозного опыта; его не может больше удовлетворить встреча с Богом, не носящим «в Себе Самом Своего оправдания»38. Но это — не только требуемый признак Абсолютности и Святости. «Этот запрос — поклоняться Богу как Истине — удовлетворяется в непосредственных переживаниях Бога человеком, потому что в них только Бог может быть дан как реальность, и... только в самой реальности, а не в понятии, нами созданном, открывается сущность Бога, implicite содержащая в себе и данные для оправдания Его. Только стоя лицом к лицу пред Богом, просветленным сознанием постигает человек правду Божию, чтобы благословить Бога за все»39. «Христианство подымает сознание над всем имманентным миру и ставит лицом к лицу с Самою трансцендентною Личностью Божией»40, без удостоверения в Которой «возрожденное сознание останется вовсе без Бога»41. «И тем основное данное христианства оказывается основным искомым внехристианского богоборчества»42.
В «Столпе и утверждении Истины», обращаясь к вопросу о поиске и обретении человеком достоверности своего религиозного знания, Флоренский снова говорит о реальности внутреннего опыта, когда «палящий огонь Прометея» «идет изнутри», из самого человеческого Я, требующего «не-условного знания»43. Он утверждает, что такое знание не только возможно, но и жизненно необходимо; обретается оно лишь в непосредственной встрече и совершенно не зависит от человеческой субъективности: «Истина сама себя делает Истиной»44, и не человеческий разум путем постепенного развития приходит к ней, а она сама, являясь человеку, прекращает всякие сомнения и делает Себя его достоянием.
И очень существенно то, что все эти вопросы Флоренский обсуждает, в конечном итоге, в связи с той переменой, которую во внутренний мир человека вносит Христос. Фактически вне Христа, согласно Флоренскому, возможно только видение Бога (Божественного Света), но не его реальное усвоение. Это, если можно так сказать, «встреча» без последствий, «встреча», которая не обоживает, а потому и встречей в подлинном смысле считаться не может. Это — «античность» неосуществленная, еще остающаяся лишь с далекими проблесками, «зарницами» огня Прометея.
Таким образом, «священный огонь Эллады» из жажды истинного богопозна-ния с приходом Христа превращается в реальность обожения, и в действии этого «огня» в человеческой жизни и деятельности Флоренский видит вполне целостное, над-историческое явление, обозначаемое им термином «античность». Христианство, с такой точки зрения, есть «античность» осуществленная, исполненная; Христос исполняет ожидания, выразившиеся в античном мифе о Прометее. Можно вспомнить слова Христа из Евангелия от Луки: Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! (Лк 12:49), и по Флоренскому, фактически, это нужно понимать как «огонь» обожения, неосознаваемые ожидания которого наиболее четко оказались выраженными в эпоху, названную в исторической науке «античностью».
Как понимал Флоренский «античность» в ее конкретных проявлениях, лучше всего можно показать в сравнении с тем, что им было отвергаемо и «античности» противопоставляемо. Антипод «античности» в таком смысле, по Флоренскому,

Ольга Флоренская во дворе дома в Сергиевом Посаде, конец 1920-х гг.
это — всякая онтологическая неустойчивость, «субъективизм» и «психологизм», приводящие к пассивности в жизни, к невозможности реализации того, что Флоренский называет «воплощением». Особенно ясно Флоренский пишет об этом в период фактического подведения итогов своей творческой деятельности, в лагерных письмах 1933–1937 гг.
«Лишь активность в мире, — пишет он дочери Ольге 25 августа 1936 г., — есть источник сознания и познания, а без нее начинаются грезы, да и они постепенно замирают. Человек замыкается в своей субъективной сфере и... постепенно засыпает, так что даже сновидения прекращаются. Воплощение есть основная заповедь жизни, — Воплощение, т. е. осуществление своих возможностей в мире, принятие мира в себя и оформление собою материи. Только Воплощением можно проверить истинность и ценность себя, иначе невозможна и трезвенная критика себя. Мечтательность создает в нас болото, где нет никаких твердых точек..., никаких критериев реального и иллюзорного, ценного и лишенного ценности, хорошего и плохого. Осуществляя возможность, пусть слабо и плохо, ты можешь судить о ней, исправлять, идти дальше; оставаясь пассивной, отражаешься туманом призраков, но и призраки со временем выдыхаются, бледнеют, меркнут. Начинается спячка и вместе глубокая неудовлетворенность. Русской натуре пассивность весьма свойственна, но именно из пассивности происходит, далее, вечное беспричинное беспокойство, неудовлетворенность, колебания между нетрезвым самопревознесением и унылым самоуничижением»45.
«Русская натура», в этом отношении, есть отрасль «славянства», о котором Флоренский писал Ольге годом ранее (письмо от 16 сентября 1935 г.) в связи с прочтением дошедшего до него в лагере издания «Сербского эпоса». Флоренский сообщает о возникших у него при этом противоречивых чувствах. С одной стороны, «большая красота, большая стильность и многое бесконечно мило душе»; он пишет, что «получил истинное удовольствие, особенно от более древних песен». Но, с другой стороны, — «мрачность, беспросветность». «Нет в славянстве солнца, прозрачности, четкости! Ясность и мир отсутствуют. Какие-то безысходные и внутренне немотивированные осложнения жизни. В этом сербском эпосе уже обнажаются корни Достоевского... Думается, это существенно связано с неусвоением символического, гетевского подхода к жизни. Уметь видеть и ценить глубину того, что окружает тебя, находить высшее „здесь“ и „теперь“ и не рваться искать его непременно в том, чего нет или что далеко.

Отец Павел за работой в своем доме. Сергиев Посад, 1932 г.
Страсть тем и вредна, что во имя того, чего нет, человек проходит мимо того, что есть и что по существу гораздо ценно... „Хочу того-то“ и потому пренебрегаю всем остальным... Страсть в таком истолковании — типично славянская черта, всегдашний упор в несуществующее или в далекое и немудрое отбрасывание всего прочего — отсутствие бокового зрения»46. «Главное, — заключает Флоренский, — ...чтобы ты воспитывала в себе бодрое, жизненное настроение и умела символически воспринимать действительность, т. е., прежде всего, радоваться и пользоваться тем, что есть, вместо поисков того, чего сейчас нет»47.
О том же у Флоренского было сказано в письме сыну Василию от 23 ноября 1933 г. с Дальнего Востока: «Пора тебе уже понимать, что все происходящее имеет свой смысл и делается так, что в общем итоге жизнь направляется к лучшему. Неприятностей в жизни не избежать, но неприятности, перенесенные сознательно и в свете общих явлений, воспитывают и обогащают... Будь спокоен, жди лучшего будущего, не волнуйся и старайся в каждый данный момент пользоваться тем, что есть у тебя и что можно делать в это время»48. И это наставление давалось в контексте указаний, как нужно обучать младших детей в семье: «Важно, чтобы дети не остались без сроднившихся с ними образов искусства, особенно эллинского, будет ли то скульптура, архитектура или поэзия» (письмо сыну Кириллу от 13 ноября 1933 г., с Дальнего Востока)49.
Как известно, эти образы, особенно античной скульптуры, были запечатлены на фотографиях, стоящих в рабочем кабинете о. Павла. Глубокое значение, которое они для него имели, раскрывается, в частности, также из его писем В. В. Розанову. Одно из них дает редчайший случай пояснения Флоренским связи своего влечения к античной греческой скульптуре и своего опыта спасения во Христе. Фактически, можно сказать, что весь его «символизм» есть результат его глубокой, экзистенциальной потребности в объективности. Всякая «бесформенность», развоплощенность (или не-воплощенность) представляется ему таким же проявлением не-устойчивости, а, следовательно, по Флоренскому, и не-реальности, как бесконечная, «поточная» смена состояний человеческой психики (от которых и зависят всегда изменчивые человеческие вкусы и желания). Можно думать, что само учение Флоренского об изначальном обожении («предсуществовании в Вечности») твари50 возникает в процессе его поисков «точки опоры» в изменчивом тварном бытии. Изначальное обожение в идеальных основаниях — это то, что дает твари (вследствие «смирения», само-уни-чижения Бога при творении51) бытие «в самой себе», «само-стоятельное», т. е. независимое ни от кого и ни от чего бытие52.
В письме Розанову 25 апреля 1909 г. Флоренский раскрывает, что, в конечном счете, именно с этой точки зрения его «манит», «мучает сладкою болью с самого детства» греческая скульптура. «Если смотреть на статую греческую, — пишет он, — то ясно и решительно знаешь, что переживаемое при этом созерцании отлично как от области „половой“, физической, чувственной. так и от эстетики, приятного, „прекрас-ного“. И то, и другое — есть субъективность и только субъективность, „мое“... Статуя же — в себе прекрасна, существует прежде всего в себе и для себя , она реальность»53. Но это — лишь «зачатки» той единственной, подлинной реальности, которая открывается во Христе. «То, что манит в греческой скульптуре, совсем по-иному, совсем неприводимо рационально к этому, явилось выраженным полностью во Христе. Я не хочу говорить догматически, — передаю просто то, что чувствую. А именно: Христос — не „идеал“, и не „идея“, а плоть. Но эта плоть, — живая плоть — свята, пре-существлена...»54. «Христос есть ens realissimum — существо всереальнейшее, и притом так воспринимается. Он — в себе прекрасен и в себе реален. Люди пред Христом кажутся пустыми — не в смысле моральной оценки, а в смысле онтологической характеристики. Только во Христе я вижу, чувствую, щупаю, вкушаю реальность, „трансубъективное“, а зачатки этой реальности нахожу в греческой скульптуре... Меня мучила потребность в твердой опоре , в плоти , и плоть я нашел, нахожу во Христе. Со Христом мне хорошо, потому что Он дает мне святую плоть . А больше — мне ничего не нужно»55.
Можно сказать, что в своей концепции «символа» и «символического» устройства бытия Флоренский выразил в метафизике то, что в личном опыте дал ему Христос. Это — наличие вечного основания в веществе, — в видимой, объективно данной реальности, которая по своей сути уже не может быть переменчивым и исчезающим фантомом благодаря своей «символической» сопричастности высшим и, на последней своей «глубине», — Божественным сферам бытия. Поздний «символизм» Флоренского, утверждающий «нераздельное и неслиянное» соединение энергий разных уровней бытия56, есть «метафизическое» отражение христологии, констатация в онтологии того, что в личном опыте было найдено во Христе.
Речь идет, таким образом, именно о той же «онтологичности», «твердой точке» в бытии, не мыслимой для Флоренского без «воплощения» в материи, в веществе, которое просветляется, одухотворяется во Христе. Именно такой смысл имеет следующее утверждение Флоренского, хорошо знавшего из истории церковного богословия, что все догматические споры и «ереси», в конечном счете, сводились к христологии: «Так называемые ереси, — пишет он, — рассматриваемые в культурно-историческом разрезе, были, по своей подоснове, попытками подрыть фундамент античной культуры» нарушить ее целостность и тем самым — ниспровергнуть57. Флоренский, очевидно, отождествляет подлинное, неповрежденное ересями христианство, с «античностью» в том, что он называет «воплощением», — настроем и деятельностью, которые дают вечную устойчивость в бытии путем соединения двух основных планов бытия — «Неба» и «Земли», горнего и дольнего. По Флоренскому, установление такого вечного соединения и есть обожение, реальную возможность которого открывает исторический Христос.
К вопросу восприятия Флоренским Христа и новизны христианства возвращают зафиксированные главным образом в письмах его мысли о древнегреческой трагедии. Как кажется, на то, что можно назвать «мистикой» древнегреческой трагедии, впервые особое внимание обратил Ф. Ницше. Вячеслав Иванов признавал, что именно этот аспект наследия оригинального немецкого мыслителя оказал определяющее влияние на его собственные разработки проблемы, если можно так сказать, мистико-психологического значения религии и древних мистерий58. Флоренский, как можно понять, в идеях и концепциях Иванова нашел созвучие своему внутреннему опыту, в котором, помимо мистического страха и чувства губительной силы неуправляемого метафизического «хаоса», давали о себе знать еще и глубокие интуиции рода.
В этом отношении можно обратить внимание на еще не освещенный в исследовательской литературе момент изменения взглядов Флоренского на соотношение личности и рода. В курсовой работе (в МДА) в 1906 г. Флоренский с явным сочувствием утверждал, что христианство радикальным образом уничтожило примат рода и выдвинуло на первое место личность59. В «Столпе и утверждении Истины», основной текст которого написан в период 1904–1908 гг., еще никак не выделяется и не подчеркивается определяющее значение «родовых корней» каждого «я» и все метафизические построения сводятся к констатации наличия у «я» вечного, идеального «корня» в Боге (в «Недрах Пресвятой Торицы») и к необходимости осуществления каждым «я» в эмпирическом мире подвига полной самоотдачи. Отдавая себя другому, «я» получает свое собственное утверждение и укореняет эмпирический феномен своей личности в вечном бытии60. Основной упор здесь сделан на причастие каждого «я» любви — Божественной Сущности, в силу чего все «я» становятся единым Существом, не теряя, а, напротив, утверждая при этом свои личностные особенности.
После изучения «Столпа» остается впечатление, что если какие-либо наследственные взаимосвязи между «я» и дают о себе знать в эмпирии, то все «снимается», теряет свою действенность в христианском подвиге любви, в котором находят завершение все прочие «добродетели», в том числе и покаяние как постоянный процесс вольного и свободного изменения, преобразования своей эмпирической личности. В «Столпе», как известно, приведен замечательный образ церковного таинства покаяния как хирургической операции, удаляющей из естества все, что признано недоброкачественным и отторгнуто свободной волей человека61. В этом смысле, как указывает Флоренский, это таинство предваряет «Страшный Суд» как «Страшный День мировой операци-и»62. Флоренский, очевидно, не только хорошо знал, но и принимал традиционное христианское учение о покаянии как таинстве, в котором онтологически может быть уничтожено все негативное, что пожелает уничтожить в себе человек, обращенный ко Христу. Но может ли быть нейтрализовано таким же образом влияние «наследственности», определяемое родовыми связями?
Практика христианской жизни показывает, что подлинное покаяние, как правило, не реализуется в полном виде и всегда остаются т. н. «наклонности ко греху», связанные, согласно христианскому вероучению, с поврежденным в первом грехопадении естеством, которое не восстанавливается одномоментно, также как сразу, от первого лекарственного воздействия не проходит тяжелая и запущенная болезнь. Создается впечатление, что в «Столпе» и позже, в своей «антроподицее», Флоренский, по определенным причинам, избегает развивать эти темы христианской аскетики, но начинает (в «антроподицее») разработку учения о роде, в котором основной мыслью является восприятие рода как целого , как своеобразной онтологической единицы, имеющей особую задачу. По Флоренскому, необходимо для каждого члена рода эту задачу знать и в соответствии с ней строить свою жизнь. И если в ранней записи (1905 г.) он лишь фиксирует мистические созерцания «слоев» своей души63, то впоследствии он предпринимает обширные генеалогические исследования, причем не только относительно самого себя и своих родственников, но и относительно всех тех, чья личность вызывала у него какой-либо интерес.
Решение принять священный сан у Флоренского, как известно, возникло именно после открытия соответствующей «задачи» своего рода, а не только (и, как представляется, не столько) вследствие окончательно сформировавшегося убеждения в онтологической важности совершения в эмпирическом мире религиозных таинств. Обратившись к исследованию своего рода, Флоренский сначала сделал ошибочное открытие, согласно которому его прадед Андрей был священником. Когда выяснилась ошибка и Флоренский узнал, что прадед на самом деле был не священником, а дьячком в Костромской губернии (а дед Иван — учился в Костромской семинарии, окончив которую, вместо Академии, поступил в Медицинский институт при Московском уни-верситете)64, это ничего не изменило, т. к. задача рода была понята как миссия особого служения Церкви. Флоренский был убежден в том, что от его личных усилий по выполнению «задачи рода» зависит не только его собственная судьба, но и вся жизнь его детей и посмертная участь его предков.

Семья Флоренских. Слева направо: А. П. Флоренский (отец), Р. А. Флоренская (сестра), О. А. Флоренская (сестра), П. А. Флоренский, Е. П. Сапарова (в замужестве Мелик-Беглярова), Е. А. Флоренская (сестра), О. П. Флоренская (мать), Ю. А. Флоренская (сестра),
А. А. Флоренский (брат). Тифлис, октябрь 1899 г.
В письме из Соловецкого лагеря дочери Ольге (письмо от 10–11 марта 1936 г.) Флоренский пишет, что историческое значение «биологически передаваемых свойств», открываемое в генетике, — мысль, которая давно его занимает десятки лет, хотя совсем специально у него не было возможности ею заняться65. Люди, замечает он, особенно в молодости, самоуверенно думают, что можно сделать так, как им хочется в данный момент, нередко по прихоти или капризу. Но есть «законы природы», гены, «элементы наследственности». «Если бы люди внимательно относились к свойствам рода, как целого, и учитывали бы наследственность, которая в данном возрасте может и не проявляться ярко, но скажется впоследствии, то были бы избегнуты многие жизненные осложнения и тяжелые ситуации»66. Из-за своего нежелания вдумываться, изучать и вникать в это, люди потом жестоко расплачиваются и причем «не только собою лично и своей личной судьбой, но и судьбой своих детей»67.
Обращение к теме античности в этом контексте может показаться неожиданным, но Флоренский пишет далее: «Античная трагедия построена вся на этом понимании, ибо в основе трагической завязки лежит там не проступок данного человека, а его „трагическая вина“, т. е. вина, содержащаяся в самом его существе, не в злой воле, т. е. в неправильном рождении, в недолжном сочетании генов. Да иначе трагедия и не возникла бы; если человек согрешил и несет естественное возмездие за свой грех, то можно его жалеть, но нельзя не испытывать нравственного удовлетворения, что грех не остался безразличным и безнаказанным. Трагическое же, как таковое, возникает от зрелища несоответствия между возмездием и проступком или поступком, причем за свой поступок человек отвечать не может, но совершил его он в силу своих наследственных свойств и расплачивается поэтому он за роковую вину предков. Греческая трагедия — самая поучительная, самая глубокая и самая совершенная часть мировой литературы. У меня от нее всегда было чувство абсолютного совершенства: лучше быть не может и не нужно — достигнут идеал. Вот почему после греков трагедии в собственном смысле уже не было и не могло быть: задача выполнена, решена; конечно, больше решать ее нечего»68.
Выражение «роковая вина предков», как представляется, здесь не может быть понято иначе, как указание на имевшее место в античной трагедии проникновение в тайну того, что в христианстве называется «первородным грехом», т. е. — не в смысле только личного «греха» первых людей, но «вины», отразившейся на «мистических» основах всего человеческого естества. Флоренский понял основополагающую важность этого христианского учения сразу же, еще на самом первом этапе своего религиозного обращения, о чем свидетельствует написанный им летом 1904 г. диалог «Эмпирея и эмпирия», в котором именно переворотом, совершившимся в «мистической области», объясняется необходимость и особое значение действий Христа, Который также именно поэтому должен был быть не человеком, принявшим в себя Бога, а Самим Богом, принявшим на Себя человечество69.
Использовав основные идеи «религии Диониса» Вячеслава Иванова в своей «Философии культа», Флоренский, фактически, интерпретировал мистику античной трагедии как действие, исходящее из иррационального знания существенной, «катастрофической» нестабильности человеческого естества и знания наличия исходящего из этого естества запроса на «исцеление» как обретения онтологической целостности.
В цитированном выше письме (март 1936 г.), размышляя об античной трагедии, Флоренский указывает только на достигнутое совершенство в познании онтологического тупика, непреодолимости никакими личными усилиями «роковой вины» предков. Но адресат письма — склонная к философским размышлениям дочь Ольга — уже знала, что отец имеет в виду не сам по себе «тупик», а некий «луч просветления», очевидно, дающий надежду на выход. Трагедия, вернее, ее тайна — не в том, что для человека, самого по себе, нет возможности избавиться от власти неожиданно нападающих и страшных в своей неизвестности и непредсказуемости сил, приносящих беду и различные жизненные потрясения. Тайна в том, что есть не воспринимаемая и не объяснимая рационально возможность освобождения, реализуемая через мистику смерти, воспроизводимой в мистериях Диониса. Дочери Флоренский, в частности, писал: «Шекспир — это океан, то бушующий, то мирно-плещущийся, принимающий все возможные цвета, скрывающий в себе все мыслимые существа. Это — полнота человеческих чувств, характеров, ситуаций... Но над этим бушующим океаном не носится луча просветления, который так ясен в античной трагедии»70.
Мысль о том, что дионисийские мистерии только прообразовали основанные на Жертве Богочеловека христианские таинства, но не давали и не могли дать реального освобождения, о котором идет речь, как уже отмечалось выше, принадлежит С. Н. Трубецкому. В согласии с этим, Флоренский, очевидно, имеет в виду иррациональную надежду античности, в которой она духовно смыкается с христианством и которой (даже как надежды!) не обретается в произведениях выдающегося выразителя новой, по существу пост-христианской, культуры. «Тут много благородства, — пишет он, — но нет святости, как новой по качеству силы, активно переустраивающей. Обрати внимание. Воли без конца, воли избыток — а все-таки эта воля пассивно берет жизнь как данную, но не ставит себе задачей преобразования и просветления ее. Шекспир выражает в этом отношении самую суть новой, возрожденской культуры — затерянность человека в мире, устранение человека, как начала новых рядов причинности. Человек — не творец, человек, смотрящий на мир через замочную скважину, человек, которому нет места в им же придуманном мировоззрении. Этот человек не имеет корней иных, кроме стихийных, и потому он — игралище стихий, во всем: в нравственности, в личной жизни, в семье, в государстве, в обществе, в экономике и даже в познании и искусстве (натурализм)»71.
В качестве иных «корней», кроме «стихийных», нужно признать те, которые дают человеку твердую опору в Бытии. В «Столпе» предотвращает онтологический распад человеческого «я» его причастие к Любви Божией, т. е. устремление человека к Богу на пути «теодицеи» (путь «от человека к Богу»), а в «Философии культа» («антроподицея», путь «от Бога к человеку») эта же самая идея выражена как Божественное исцеляющее воздействие на разобщенные между собой составляющие человеческого естества.
С этой точки зрения, античная трагедия раскрывала самую важную для человека реальность его жизни в этом мире — «болезнь» естества, которая требует своей диагностики и лечения. Она же, эта трагедия, ставила человека «лицом к лицу» с принципиальной невозможностью для него что-либо изменить в течении этой «болезни» своими собственными силами и указывала на причину такого положения — «роковую вину» предков. Вырастающая из этой, не всегда рационально воспринимаемой идеи, мистика дионисийской религии давала надежду на то же самое , что вообще в Богооткровенном вероучении ожидалось как спасение Свыше , но, собственно, в Священном Писании Ветхого Завета, как известно, данная идея не раскрывалась так глубоко, как, по убеждению Флоренского, это имело место в мистериях античности.
И здесь, как представляется, следует видеть самое главное, чем «античность» оказалась ценной для свящ. Павла Флоренского. Утрата понимания и, что еще более важно, — «мистического восприятия» того, от чего человека нужно спасать , обесценивает христианство и значение Христа на самом глубоком, основополагающем уровне всех мотиваций человеческой жизни и деятельности. Спаситель нужен тому, кто знает или ощущает свое реальное движение к погибели. Все то, что может показаться не достаточно обоснованным в «увлечении» Флоренским античностью, в конечном итоге, связано с его всежизненной борьбой с самой главной причиной появления и живучести «духа» обмирщения в христианстве, фактически, — со спокойствием смертельно больного человека, не знающего и не ощущающего своей болезни и потому не обращающегося к врачу за исцелением.
Можно, конечно, спорить с тем, как Флоренский (вслед за В. С. Соловьевым и, отчасти, за С. Н. Трубецким) всю суть «болезни» полагал только в неустроенности («беспорядочности», когда все — «не на своем месте») человеческого естества. Можно также обращать критическое внимание на то, что он слишком большой упор делал на восприятии Христа как Спасителя, дающего человеку, прежде всего, только твердую опору в Бытии. У Флоренского, действительно, «подозрительно» мало сказано о той сути грехопадения и спасения, на которую прежде всего указывает христианская церковная традиция, раскрывающая такие реальности, как общение с диаволом и общение с Богом. Но вся эта, разумеется, возможная (а, может быть, даже и необходимая) богословская критика, как представляется, не должна закрывать от читателя трудов Флоренского то, что он смотрел на античность прежде всего именно с той самой очень важной христианской точки зрения, которая противостоит обмирщенному, «бытовому» христианству современной эпохи. До конца адекватно или не адекватно самой реальности античных мистерий, но для себя он нашел в них неосознаваемое самими их участниками «знание» угрозы вечной погибели человека и ожидание возможного избавления от этой угрозы. И христианство, принесшее, наконец, такое избавление, было для него «античностью» в самом полном смысле этого слова.
Список литературы Понятие "античности" в религиозно-философском наследии священника Павла Флоренского
- Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные, Статьи. Переписка / Сост., подг. текста и коммент. Е. В. Ивановой. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Переписка В. В. Розанова и П. А. Флоренского // Розанов В. В. Литературные изгнанники. Книга вторая. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010.
- ПерепискаВ.Ф.Эрна и П.А.Флоренского (1900-1911) / Публикация, комментарии Павлюченкова Н. Н. // Русское богословие: исследования и материалы. 2016. М.: Издательство ПСТГУ, 2016.
- Трубецкой С.Н. Метафизика в Древней Греции. М.: Мысль, 2003.
- Флоренский П., свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Флоренский П.А. [Сочинения.] Т. 1 (1), 1 (2). Столп и утверждение Истины. М., 1990.
- Флоренский П.В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы: В 2 т. Т. 1. М.: Прогресс-Традиция, 2011.
- Флоренский П., свящ. Все думы — о вас. Письма семье из лагерей и тюрем. 1933-1937. М., 2004.
- Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М., 1992.
- Флоренский П, свящ. Троице-Сергиева лавра и Россия // Флоренский П, свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996.
- Флоренский П., свящ. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М., 2004.