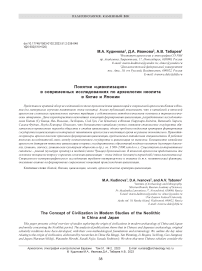Понятие "цивилизация" в современных исследованиях по археологии неолита в Китае и Японии
Автор: Кудинова М.А., Иванова Д.А., Табарев А.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Палеоэкология. Каменный век
Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.
Бесплатный доступ
Представлен краткий обзор исследований по теме происхождения цивилизаций в современной археологии Китая и Японии (на материалах изучения памятников эпохи неолита). Анализ публикаций показывает, что в китайской и японской археологии сложились оригинальные научные традиции с собственными методологическими основами и терминологическим аппаратом. Дана характеристика важнейших концепций формирования цивилизации, разработанных исследователями Китая (Су Бинци, Янь Вэньмин, Ли Боцянь, Сюй Хун, Гао Цзянтао) и Японии (Харунари Хидэдзи, Ватанабэ Хироси, Сасаки Фудзио, Ясуда Ёсинори). Показано, что большинство китайских ученых считают становление государства обязательным проявлением перехода общества к стадии цивилизации, однако проблема выделения критериев формирования государства и цивилизации на материалах памятников археологии в настоящее время не решена окончательно. Приводятся примеры археологических признаков формирования цивилизации, предлагаемых китайскими специалистами. В работах японских исследователей связь между возникновением государства и цивилизации не выявлена. Большинство китайских археологов датирует появление цивилизации и первых государственных образований поздним неолитом (культуры давэнькоу, хуншань, лянчжу, луншаньская культурная общность и др.), ок. 3 500-2 000 лет до н.э. Существуют альтернативные гипотезы - ранний (культура эрлитоу) и поздний (эпоха Чуньцю) бронзовый век. В японской археологии представлены две основные позиции по вопросу о времени сложения цивилизации - эпоха дзёмон (неолит) и период яёй (эпоха палеометалла). Специального историографического исследования требуют внутринаучные и внешние (в т.ч. политические) факторы, оказавшие влияние на формирование современных концепций происхождения цивилизации.
Китай, япония, цивилизация, неолит, археологические критерии цивилизации
Короткий адрес: https://sciup.org/145146868
IDR: 145146868 | УДК: 902(510+520) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.038-048
Текст научной статьи Понятие "цивилизация" в современных исследованиях по археологии неолита в Китае и Японии
Понятие «цивилизация» – одно из ключевых для гуманитарных и общественных наук. Конкретное наполнение термина в рамках различных дисциплин и научных школ может варьировать довольно значительно, что затрудняет взаимопонимание между представителями разных специальностей и реализацию междисциплинарных исследований. Важнейший вклад в решение проблемы адаптации этого понятия к археологической методологии и выделения критериев формирования цивилизации на археологическом материале внес В.Г. Чайлд [Child, 1950]. Впоследствии предложенные им критерии многократно пересматривались и уточнялись [Kradin, 2006]. В отечественной науке этой проблематикой занимался прежде всего В.М. Массон [1989]. Однако задачи отбора показателей перехода к цивилизации, их корреляции между собой и адаптации к конкретным археологическим реалиям по-прежнему остаются актуальными и привлекают внимание исследователей по всему миру. В китайских и японских научных работах о происхождении и развитии цивилизаций используется оригинальная терминология, что может затруднять их анализ, поскольку требует не только знания фактического материала, но и знакомства с теоретическими подходами, предлагаемыми специалистами из этих стран.
Проблема поиска корней китайской цивилизации была одной из основных с начала складывания археологии как современной науки в Китае. Еще в 20-х гг. ХХ в., во времена движения «критики древней истории», профессор Пекинского университета Ли Сю-аньбо обозначил «путь археологических исследований» как «единственный способ разрешения проблем древней истории» (цит. по.: [Ли Боцянь, 2016, с. 5]). Важнейшими вехами на этом пути стали обнаружение позднеиньской столицы на памятнике Сяотунь в Аньяне в 1928 г., выявление более ранней, чем Сяо-тунь, культуры эрлиган и раскопки шанского городища в Чжэнчжоу в 1950 г., открытие памятника Эрли-тоу и одноименной культуры в Яньши в 1959 г. Эти и последовавшие за ними достижения археологов позволили подтвердить сведения исторических источни- ков о древнекитайском государстве Шан-Инь и поставить новые вопросы: о подлинности существования государства Ся, времени и регионе формирования китайской цивилизации и т.д. Указанные проблемы находятся в фокусе внимания китайских археологов и в настоящее время. На рубеже ХХ–ХХI вв. в Китае были реализованы крупные мультидисциплинарные проекты «Хронология Ся–Шан–Чжоу» (1996–2000) и «Комплексное исследование истоков и раннего развития китайской цивилизации» (2004–2015). Помимо полевых изысканий, китайские археологи вели теоретические исследования, пытаясь сформулировать признаки перехода к стадии цивилизации, которые можно было бы выделить на археологическом материале. История изучения происхождения цивилизаций (как правило, на примере китайской) в археологии КНР уже стала предметом историографического исследования. За последние годы вышло несколько работ, обобщающих и анализирующих достигнутые в этой области результаты [Линь Юнь, 2016; Чан Ху-айин, 2016; Бао Ифань, 2020; Ван Чжэньчжун, 2020].
На протяжении XIX–ХХ вв. японские исследователи углубляли и расширяли знания о прошлом Японского архипелага. Одним из важнейших достижений стало выделение эпохи дзёмон ( дзё:мон дзидай 縄文 時代 ) и периода яёй ( яёй дзидай 弥生時代 )*.
Идея «цивилизации дзёмон » или «утопии дзёмон » получила популярность в японском обществе в конце 1980-х – середине 1990-х гг., когда на фоне экономических и социальных потрясений изменилось отношение к древней истории Японии и сложилось представление об эпохе дзёмон как времени расцвета, роста социальной стратификации и уровня богатства. В основу данной концепции легло открытие в 1994 г. поселения Саннай Маруяма (преф. Аомори) [Ямада
Ясухиро, 2020, с. 32–33]. Новые, ранее не встречавшиеся на дзёмонских памятниках находки, высокий уровень мастерства обитателей поселения вызвали фурор в японском обществе. Публикации, посвященные этому памятнику, прежде всего акцентируют внимание на уникальности японского наследия в сравнении с китайской цивилизацией [Сэки Юдзи, 2020]. В конце XX – начале XXI в. в японском научном сообществе получает распространение теория о существовании цивилизации в эпоху дзёмон . Согласно этой теории, дзёмонское общество охотников-собирателей сопоставимо по уровню развития материальной культуры с классическими цивилизациями Египта, Индии, Месопотамии и Китая [Умэ-хара Такэси, Ясуда Ёсинори, 1995; Ясуда Ёсинори, 1997; Сасаки Фудзио, 1999]. Однако большинство исследователей скептически воспринимают такую идею, указывая на слабость ее фактологической и доказательной базы, в частности на отсутствие в эпоху дзёмон развитого земледелия, городов, письменности, и связывают формирование ранней цивилизации на Японских островах с волной миграции с материка и культурой яёй [Фудзио Синъитиро, 2002, с. 5–8; Ямада Ясухиро, 2015, с. 63–64].
Данная статья не претендует на исчерпывающий охват материала. Ее цель – сделать краткий обзор современных исследований по проблеме формирования ранних цивилизаций на территории Восточной Азии в археологии Китая и Японии, для чего предполагается обсудить соответствующую терминологию, используемую в китайской и японской научной литературе, а также представить основные концепции, разработанные китайскими и японскими учеными на основе изучения археологии неолита.
Особенности терминологии и теоретические основы исследований происхождения цивилизаций в Китае и Японии
Термин, используемый в современном китайском языке для обозначения понятия «цивилизация», вэньмин 文明 впервые появляется в комментарии к классическому китайскому философскому памятнику «И цзин» («Канон перемен», X–IV вв. до н.э.) «Вэньянь чжу-ань», авторство которого приписывается Конфуцию (551–479 до н.э.), в значении «яркий, блистающий»*. [Морохаси Тэцудзи, 1967, с. 596]. Для оценки уровня общественного развития он был применен китайским литератором Ли Юем (1611–1680) в начале эпохи Цин. В современном своем значении термин вэньмин приходит в китайский язык из японского в начале ХХ в. [Попова, 2020, с. 5–6].
До сих пор важнейшей методологической основой для китайских ученых-гуманитариев остается работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884). Вслед за ним большинство исследователей под цивилизацией понимают определенную стадию развития человеческого общества. В соответствии с тезисом о том, что «государство есть продукт общества на известной ступени развития» [Энгельс, 2019, с. 271], разделяемым большей частью китайских специалистов, основным показателем перехода к стадии цивилизации видится формирование государства [Су Бинци, 1988, с. 1; Линь Юнь, 2016, с. 5; Сюй Хун, 2016, с. 13; Гао Цзянтао, 2019, с. 21]. Некоторые ученые полностью отождествляют эти понятия [И Цзяньпин, 2014, с. 144]. Исключением является точка зрения Е Вэньсяня, считающего, что переход к цивилизации не обязательно влечет за собой формирование государства [2016].
Представление о неразрывной связи государства и цивилизации стимулирует теоретические изыскания китайских археологов по вопросам формирования ранних государств. В последние годы источником методологиче ских оснований для этого направления помимо трудов К. Маркса и Ф. Энгельса становятся концепция вождеств Э. Сервиса и М. Салинза [Evolution…, 1960; Service, 1975] и теория ранних государств А.Дж.М. Классена и П. Скальника [The Early State, 1978], в связи с чем важнейшими проблемами теоретической археологии в Китае являются их адаптация и перевод заимствованной терминологии. В настоящее время понятийно-терминологический аппарат исследований истоков цивилизации и государства не унифицирован. Одним из его источников служит корпус терминов традиционной китайской историографии: гуго 古国 – «древнее государство», фанго 方国 – «княжество, удел», банго 邦国 – «княжество, удел, владение, город-государство» и др. Эти термины допускают различные трактовки, границы между ними размыты, что затрудняет коммуникацию даже внутри китайского академического сообщества, не говоря уже о диалоге с зарубежными коллегами. Другой составляющей является терминология, пришедшая из англоязычных работ. Пока единый стандарт перевода и трактовки терминов не сложился, во избежание путаницы в китайских публикациях они даются не только в переводе, но и в оригинале, например: «вождество» – англ. chiefdom, кит. цюбан 酋邦 , «раннее государство» – англ. early state, кит. цзаоци гоцзя 早期国家 , «протоистория» – англ. proto-history, кит. юаньши 原史 (см.: [Сюй Хун, 2016; Чан Хуайин, 2016; Гао Цзянтао, 2019]).
Еще одним теоретическим основанием для исследований проблем цивилизации в археологии Китая послужила концепция «урбанистической революции» В.Г. Чайлда [Child, 1950]. Практически одновременно один из основателей Института археологии АОН КНР, его многолетний директор Ся Най (1910–1985) и известный американский археолог китайского происхождения Чжан Гуанчжи (1931– 2001), испытавшие влияние работ В.Г. Чайлда, представили свои определения и критерии цивилизации. В настоящее время считается, что именно Ся Най первым в КНР связал понятие «цивилизация» с археологической наукой и подчеркнул значимость данных археологии для решения проблемы истоков китайской цивилизации. Эти положения были озвучены им в серии лекций на японском телеканале NHK, записанных в 1983 г. [Гао Цзянтао, 2005, с. 46]. Позднее он переработал материалы лекций в монографию «Истоки китайской цивилизации» (1985). Ся Най определял цивилизацию как этап общественного развития, на котором родовой строй распался и сформировалась государственная организация с классовыми различиями. Помимо этого обязательного признака перехода к цивилизации он выделял еще три критерия, фиксируемые по археологическим материалам: города как центры политической, экономической и культурно-религиозной деятельности, письменность и металлургия [Ся Най, 1985, с. 81]. Ся Най высказал предположение, что цивилизация возникла в Китае не позже позднего этапа эрлитоу, однако накопление количественных показателей для качественного перехода происходило в предшествующий период позднего неолита – эпохи ранней бронзы [Там же, с. 82–100]. Профессор Гарвардского университета Чжан Гуанчжи в 1984 г. был приглашен прочесть курс лекций в Пекинском университете. Позднее ученый опубликовал их в книге «Шесть лекций по археологии» (1986) [Сунь Цин-вэй, 2021, с. 65]. В первой лекции, посвященной значению изучения истории и археологии Древнего Китая для всемирной истории, Чжан Гуанчжи представил свою версию списка признаков цивилизации: письменность, города, металлургия, государственные структуры, религиозные сооружения и монументальное искусство [1986, с. 14]. По мнению ученого, механизмы перехода к цивилизации отнюдь не универсальны, существуют две модели: 1) западная, «прорывная», для которой характерны резкие общественные, экономические и культурные трансформации; 2) всемирная (незападная), «последовательная», отличающаяся длительным сохранением элементов культуры, в т.ч. и при переходе от варварства к цивилизации. Китай представляет вторую цивилизационную модель [Там же, с. 17–24]. Идеи Ся Ная и Чжан Гуанчжи послужили фундаментом для дальнейших исследований формирования и развития цивилизации в Китае на археологических материалах.
В японском языке понятие «цивилизация» появилось в период Мэйдзи (1868–1912), когда происходила активная вестернизация, в т.ч. и в отношении представлений об обществе и истории, что вызвало возникновение новых терминов и вариантов их употребления. Впервые термин «цивилизация» буммэй 文明 использовал Фукудзава Юкити в работе «Положение дел на Западе» (1866–1870), а затем в трактате «Краткий очерк по теории цивилизации» (1875). Ученый противопоставлял понятия «цивилизация» и «дикость», сравнивая уровень социального, политического, культурного и духовного развития ведущих капиталистических государств и отстающей от них Японии. В его понимании, Япония занимала промежуточное положение между цивилизованными странами (Англия, Франция, США) и дикими (страны Африки, Австралия) [Кавадзири Фумихико, 2010, с. 136]. Параллельно с буммэй в это время в значении «цивилизация» использовался термин кайка 開化 . Тогда же получило распространение и словосочетание бум-мэй-кайка ^ВДЙ^ . Однако наряду с первоначальным употреблением оно использовалось для обозначения конкретного исторического феномена раннего периода эпохи Мэйдзи, а также в качестве синонима термина «модернизация» [Там же, с. 137]. В начале XX в. выделился термин «культура» – бунка 文化 , а также заимствованный карутя: ^^^^^ (транс-крибированная запись англ. culture).
В современном японском научном языке наряду с буммэй и кайка в значении «цивилизация» употребляются также слова дзимбун 人文 – «цивилизация, культура», кё:ка ^^ - «культура, цивилизация, просвещение, образование», каймэй 開明 – «цивилизация, просвещение» и заимствованное из английского языка сибиридзэ:сён ^tU^ — ^зУ (civilization) [Руйго дайдзитэн, 2002, с. 1046–1047]. Они чаще встречаются в социологических, политологических и культурологических исследованиях.
В контексте современной японской археологии термин «цивилизация» не слишком распространен: в немногочисленных археологических словарях он отсутствует (представлен только в японо-англо-немецком словаре археологических терминов как буммэй [Melichar, 1964, p. 7]). При этом широко употребляется термин «культура» ( бунка ), особенно если речь идет об эпохе дзёмон [Ваэйтайсё…, 2001, с. 87, 129, 252; Синнихон…, 2005, с. 407–408].
В японской научной литературе термин «цивилизация» традиционно используется для характеристики ранних протогосударственных образований, формировавшихся на позднем этапе периода яёй и достигавших расцвета в период кофун. Но в последние десятилетия все большее распространение получает идея существования цивилизации в эпоху дзёмон [Умэ-хара Такэси, Ясуда Ёсинори, 1995; Ясуда Ёсинори, 1997; Сасаки Фудзио, 1999], основанная на концепции «стратифицированного общества дзёмон».
Начало изучению памятников и коллекций эпохи дзёмон было положено в конце 1870-х гг. т.н. наемными иностранцами – западными учеными-натуралистами (Э.С. Морс, Ф. фон Зибольт, Дж. Милн, У. Гоуленд, Н. Мунро) [Ямада Ясухиро, 2015, с. 17–24; Ikawa-Smith, 1982, p. 299–301]. Вместе с методологией археологических и антропологических исследований они привнесли в японскую науку терминологический аппарат, основу которого в то время составляла «система трех веков». Впоследствии на основании новых данных о керамических комплексах каменный век был разделен на два периода – культуры типа дзёмон ( дзё:мон-сики бунка дзидай ЖХХХЬ^Х ) и культуры типа яёй ( яёй-сики бунка дзидай ЯХХХ 化時代 ) [Яманоути Сугао, 1932; Моримото Рокудзи, 1935]. После Второй мировой войны стала формироваться идея уникальности эпохи дзёмон , на раннем этапе испытывавшая значительное влияние европейских научных концепций. В начале 1960-х гг. «эпоха дзёмон » дзё:мон дзидай ^Х^Х и «период яёй » яёй дзидай ХХ^Х были признаны в академических кругах как уникальные этапы древней истории Японского архипелага, равнозначные понятиям «неолит» и «эпоха палеометалла». Спустя еще десять лет эти термины получили широкое распространение: от научно-популярной и учебной литературы до научных монографий.
Переломным периодом в определении роли эпохи дзёмон в становлении национального и культурного своеобразия Японии стали 1950–1970-е гг., когда в научном сообществе формировалась идея «новой Японии» с «новой историей» и «новыми для Японии эпохами». В 1970-х гг. складывается четкая последовательность древней истории архипелага: палеолит, дзёмон , яёй , кофун и исторический период [Ямада Ясухиро, 2015, с. 60–68]. На этом фоне разрабатываются концепции уникальности японской цивилизации на протяжении всего времени ее существования в сравнении с континентальными цивилизациями, прежде всего Китая.
Концепции перехода к цивилизации в современной археологии Китая и Японии (на материалах неолитических культур)
Китайскими учеными предложены два основных варианта ответа на вопрос о времени перехода к цивилизации: 1) поздний неолит - культуры давэнькоу, хуншань, сунцзэ, лянчжу, луншаньская культурная общность; 2) ранний бронзовый век - т.н. эпоха Ся
(XXIII–XVI вв. до н.э.). При этом известный китайский историк Хэ Цзыцюань считал, что общество эпох Шан (XVI–XI вв. до н.э.) и Западного Чжоу (XI– VIII вв. до н.э.) находилось на стадии вождества, а государство и цивилизация возникли только в период Чуньцю (722–481 гг. до н.э.) [Ван Чжэньчжун, 2020, с. 121–122]. В настоящее время более распространена версия о неолитическом происхождении цивилизации на территории Китая.
В конце 1980-х гг. сотрудник Института археологии АОН КНР, профессор Пекинского университета Су Бинци (1909–1997) представил свое видение формирования китайской цивилизации как процесса, включающего три стадии: древняя культура гу вэньхуа 古文化 – древние города гучэн 古城 – древнее государство гуго 古国 [1988]. Позднее он предложил концепцию возникновения и развития государства, также подразумевающую прохождение трех этапов: древнее государство гуго 古国 – княжество фанго 方国 – империя диго 帝国. Причем третья стадия формирования цивилизации (древнее государство) соответствовала двум первым этапам развития государства (древнее государство и княжество). Ученый также выделил три модели складывания государства: первичного типа юаньшэн син ШХХ, вторичного цы-шэн син ХХХ и воспроизводящего типа сюйшэн син 续生型 [Су Бинци, 1997, с. 108–139]. Эти теоретические разработки были созданы им на основе изучения археологических культур Южной Маньчжурии периода неолита (синлунва, чжаобаогоу, хуншань, фухэ), бронзового (культуры нижнего и верхнего слоев Сяцзядянь) и раннего железного (культура княжества Янь) века. Отправной точкой послужило открытие памятников неолитической культуры хуншань (4 600–2 900 лет до н.э.) в Юго-Восточной Маньчжурии, в первую очередь группы памятников Ню-хэлян, включающей храм, жертвенники и курганные могильники. Крупные погребальные и ритуальные комплексы, развитое искусство (терракотовая скульптура, изделия из нефрита), по мнению Су Бинци, свидетельствуют о возникновении надобщинных социальных структур и переходе к цивилизации. Изначально он считал, что культура хуншань находилась на стадии «древней культуры» и не демонстрировала признаков складывания «древнего государства». Позднее Су Бинци пересмотрел свои взгляды и отнес ее к этапу «древнего государства», а также предположил, что хронологические рамки этой культуры соответствуют времени царствования мифического правителя Хуан-ди, центр государства которого располагался в районе гор Яньшань в Северном Китае. Этапу «княжества» в северо-восточном регионе соответствовала культура нижнего слоя Сяцзядянь (2 000–1 300 лет до н.э.), в низовьях р. Янцзы – культура лянчжу (3 300–1 700 лет до н.э.). Первой в исто- рии Китая империей была Цинь (221–206 гг. до н.э.) [Там же, с. 86–106, 111–129].
Поскольку формирование государства в Маньчжурии происходило раньше, чем на Центральной равнине, Су Бинци относил его к первичному типу. По мнению ученого, идея государства была заимствована населением бассейна р. Хуанхэ именно из культур северо-востока. На Центральной равнине наиболее крупным памятником стадии «древнего государства» является городище Таосы (ок. 2 500– 2 000 лет до н.э.) в пров. Шаньси, этап «княжеств» представлен государствами Ся, Шан и Чжоу. Свою историю развития государственности имеют и отдельные китайские княжества. Из них наиболее представительно Цинь, прошедшее все стадии: «древнего государства» при Сян-гуне (833–766 гг. до н.э.), «княжества» при Му-гуне (683–621 гг. до н.э.) и империи при Цинь Шихуане. По мнению Су Бинци, Цинь является примером государства вторичного типа; воспроизводящий тип представлен государствами, основанными кочевниками на территории Китая после распада империи Хань [Там же, с. 129–139].
Несмотря на отсутствие четких критериев перехода к цивилизации и образования государства, расплывчатость формулировок и обилие метафор, что затрудняет понимание и применение теории Су Бинци, она оказала огромное влияние на китайскую археологию. В настоящее время идеи Су Бинци развивают профессор Пекинского университета Янь Вэньмин, научный сотрудник Института археологии АОН КНР, руководитель раскопок на городище Эрлитоу Сюй Хун и один из руководителей «Хронологического проекта Ся–Шан–Чжоу», профессор Пекинского университета Ли Боцянь.
Янь Вэньмин в 1995–1997 гг. предложил свой подход к решению проблемы. Он полагал, что правление Хуан-ди приходится на III тыс. до н.э., в археологии его царство представлено материалами лун-шаньской культурной общности в бассейне р. Хуанхэ. По уровню политической организации луншань-ское общество находилось на этапе вождеств, однако Янь Вэньмин считал этот заимствованный термин не слишком подходящим для описания китайской истории и предпочитал использовать термины «первобытное государство» юаньши гоцзя МйЯ^ или «древнее государство» гуго 古国. Городища Эрлитоу, Саньсиндуй и некоторые другие памятники представляли собой «царства» ванго 王国, что примерно соответствует стадии «княжеств» фанго 方国 в терминологии Су Бинци. Позднее Янь Вэньмин удрев-нил переход к «древним государствам» до середины IV тыс. до н.э., когда представители различных неолитических культур в пяти регионах на территории современного Китая – яншао на Центральной равнине, давэнькоу в низовье р. Хуанхэ, даси, цюй- цзялин и шицзяхэ в среднем течении р. Янцзы, сунцзэ и лянчжу в ее нижнем течении, хуншань и сяохэянь в районе гор Яньшань – перешли от племенной организации к государству [Янь Вэньмин, 1997]. Таким образом, весь период 3 500–2 000 лет до н.э. можно считать «эпохой древних государств» гуго шидай 古国时代. Идеи Янь Вэньмина, а также Ся Ная и Су Бинци отражены в авторитетном обобщающем труде «История китайской цивилизации» (2006), подготовленном коллективом авторов из Пекинского университета и переведенном на многие языки (в т.ч. на русский). Янь Вэньмин выступил главным редактором первого тома, где приведены данные о неолитических корнях и раннем этапе развития китайской цивилизации [История…, 2020, с. 82–136].
Сюй Хун, в отличие от большинства предшественников и современников, говоря об археологии неолита, избегает понятия «китайская цивилизация» и ставит вопрос о происхождении цивилизации в материковой части Восточной Азии. Согласно его точке зрения, начиная с позднего периода яншаоской культурной общности и до периода луншань включительно (3 500–1 800 лет до н.э.) группы населения в разных районах бассейнов рек Хуанхэ и Янцзы вступают в эпоху глубокой перестройки общества, множество отдельных племен и древних государств гуго 古国 конкурируют между собой. Этот период соответствует «эпохе древних государств» гуго шидай ^И^^, или «эпохе городов-государств» банго шидай 邦国时代, или эпохе вождеств. С ростом населения общество усложняется, возникают классовая дифференциация, а также культурные контакты и конфликты между разными локальными группами населения. Все эти процессы находят отражение в материальной культуре, следы которой сохраняются в форме археологических объектов. Наиболее яркими примерами служат памятники культуры лянчжу и городища Та-осы и Шимао (пров. Шэньси). Конкретными показателями перехода к цивилизации служат: 1) системы поселенческих памятников, группирующихся вокруг одного крупного центрального по селения; 2) рвы и стены, окружающие городища; 3) крупные строения, созданные методом трамбовки земли ханту; 4) постройки дворцового типа; 5) большие жертвенники; 6) крупные погребальные комплексы. Различия в количестве и качестве сопроводительного погребального инвентаря свидетельствуют о значительном социальном расслоении. Постепенно разные общности формируют обширную коммуникационную сеть, внутри которой, тем не менее, они сохраняют независимость и самостоятельность. Около 1 800 лет до н.э. города и крупные поселения луншаньской культурной общности на Центральной равнине прекратили свое существование и появилась культура эрлитоу, впитавшая в себя традиции предшествующей эпо- хи. Ареал этой культуры включал всю территорию в среднем течении р. Хуанхэ, а отдельные элементы проникали в отдаленные районы, вплоть до современного Гонконга. Данный факт, а также возникновение столичного города Эрлитоу, по мнению Сюй Хуна, свидетельствуют о формировании в районе среднего течения р. Хуанхэ первого территориального государства и переходе от множественных «цивилизаций городов-государств» банго вэньмин 邦国文明 к единой «династической цивилизации» ванчао вэньмин 王朝 文明. Появление культуры эрлитоу знаменует начало бронзового века на территории Китая, а также служит водоразделом между додинастическим и династическим периодами китайской истории [Сюй Хун, 2016, с. 15–16].
Ли Боцянь, как и Су Бинци, предлагает трехчленную схему развития государства: «древнее государство» гуго 古国 – «царство» ванго 王国 – «империя» диго 帝国 . Период «древних государств» продолжался приблизительно с 3 500 до 2 500 лет до н.э. К ним Ли Боцянь помимо комплекса Нюхэлян относит памятники Линцзятань в пров. Аньхой и Сипо в пров. Хэнань. Сравнив ассортимент нефритовых изделий на этих трех памятниках, он пришел к выводу о трех путях перехода к цивилизации: на основе теократии в Нюхэлян, где преобладают зооморфные изображения и украшения; на базе сочетания военной, политической и религиозной власти в Линцзятань, где представлены культовые предметы и ритуальное оружие; на основе политической и военной власти в Сипо, где найдены только нефритовые секиры юэ . «Древнее государство» у Ли Боцяня синонимично термину «во-ждество». Начальный этап существования «царств» представлен памятниками Лянчжу одноименной культуры и Таосы культуры луншань на Центральной равнине. На основе характеристик этих комплексов были выработаны признаки перехода к цивилизации и формирования зрелого государства:
-
1) стратификация поселений и появление особо крупных;
-
2) сооружение вокруг поселений защитных сооружений;
-
3) появление крупных ритуальных комплексов;
-
4) стратификация погребений, возникновение организованных кладбищ;
-
5) выделение на поселениях специализированных районов ремесленных мастерских, появление складских сооружений;
-
6) обнаружение специфических предметов вооружения и/или ритуальных предметов, которые могли служить символами власти;
-
7) появление письменности и признаков монопольного ее использования в крупных поселениях;
-
8) обнаружение на крупных поселениях инокультурных заимствований;
-
9) появление признаков существования отношений управления и подчинения между поселениями разных уровней;
-
10) распространение культурного влияния на определенную территорию [Ли Боцянь, 2016, с. 6–7].
По-видимому, под некоторым влиянием взглядов Ли Боцяня сотрудник Института археологии АОН КНР Гао Цзянтао на основе комплексного анализа археологических материалов (включая расположение и пространственную организацию поселений, размеры и функции построек, конструкции и размеры погребений, состав сопроводительного инвентаря и т.д.) выдвинул концепцию, согласно которой в позднем неолите на территории Китая существовали три модели перехода к цивилизации и образования государства: Таосы, хуншань и лянчжу . Общей предпосылкой к формированию цивилизации и государственности стало возникновение экономического и социального неравенства, материальным выражением которого служат прежде всего различия в размерах и конструкции погребений и составе сопроводительного инвентаря. Для модели Таосы характерно существование сложной социальной стратификации, возможно, формировались ранги знатности. Основой государственности здесь являлась власть правителя- вана , значительную роль в политической жизни играла система ритуалов. По форме государственного устройства Та-осы – город-государство. Важнейшее отличие модели лянчжу заключается в том, что государство было основано на религиозной, а не на светской власти. Это подтверждается незначительным числом символов политической и/или военной власти (статусных предметов вооружения) в составе погребального инвентаря в противоположность обилию нефритовых предметов, использовавшихся в религиозных ритуалах. Модель хуншань во многом сходна с моделью лянчжу : роль религии в жизни общества чрезвычайно важна, религиозная власть занимала центральное место в государственной системе, но параллельно существовала и светская власть правителя- вана . Вероятно, государственные образования в период позднего неолита формировались также в районах нижнего течения р. Хуанхэ и среднего течения р. Янцзы. Однако поселенческие памятники там исследованы недостаточно полно для того, чтобы делать выводы о существовавшем у населения социальном и политическом устройстве [Гао Цзянтао, 2019, с. 23–28].
В японской археологии теория цивилизационного развития древних обществ традиционно применяется к периодам яёй (средняя и поздняя фазы, VI в. до н.э. – III в. н.э.) и кофун (III–VII вв. н.э.) [An Illustrated Companion…, 2020, p. 84]. Для характеристики эпохи дзёмон термин «цивилизация» стал использоваться с конца ХХ в., что, однако, не нашло поддержки у большинства специалистов. Наи- более важным теоретическим направлением, которое мы рассмотрим подробнее, является изучение материальной культуры этой эпохи на предмет существования сложных социальных структур.
Масштабное строительство на территории всего архипелага вызвало рост объемов археологических работ с середины 1960-х гг. [Habu, Okamura, 2017, p. 13–15]. В результате были открыты новые памятники и определены новые направления в изучении эпохи дзёмон . Активное исследование археологических комплексов культуры яёй в 1940–1960-х гг. привело к формированию концепции «застойного периода дзёмон », который, по мнению ряда специалистов, сменился новой культурой, находившейся под сильным континентальным влиянием [Цубои Киётари, 1962]. Важное значение для складывания представления о «богатом периоде яёй » имели новые памятники, прежде всего поселение Торо (преф. Сидзуока), открытое в 1943 г. В 1947 г. на памятнике были проведены первые в Японии комплексные междисциплинарные исследования. В результате раскопок в 1947, 1952, 1965, 1999–2003 гг. на поселении обнаружено 12 жилищных котлованов, две свайные конструкции, постройка ритуального характера (также свайного типа), о статки колодца, ирригационных каналов и рисовые поля. Археологический материал представлен изделиями из дерева, кости (в т.ч. гадательные ко сти), железа, камня, керамикой, стеклянными бусинами и пр. Поселение существовало на протяжении I–V вв. н.э. (поздняя фаза яёй – кофун ) [Окамура Ватару, 2014]. В результате публикации материалов памятника Торо среди «японского народа, истощенного войной», сформировалась идея о периоде яёй как о времени «мирных деревень земледельцев, окруженных рисовыми полями», подтверждая реальное существование мифической «Тростниковой равнины - срединной страны» Тоёасихара-но Нака-цукуни 豊葦原中国 . Это открытие сыграло важную роль в распространении знаний об истоках японской культуры и закрепило в общественном сознании образы периодов дзёмон и яёй [Ямада Ясухиро, 2015, с. 119, 133–134].
В 1980-х гг. в основу исследований эпохи дзёмон легла социальная теория, представленная прежде всего в трудах Хаяси Кэнсаку и Харунари Хидэдзи. Ха-яси Кэнсаку, исходя из анализа пространственной структуры погребальных комплексов и ориентации тел умерших, предполагал наличие дуальной системы организации общества [1977]. Харунари Хидэ-дзи рассматривал специфику межгрупповых брачных связей и систему родства в эпоху дзёмон на основе изучения практики ритуального удаления зубов (обряд басси) [Харунари Хидэдзи, 1973]. Большинство исследований того времени исходили из идеи «бедного и равноправного общества охотников-собирате- лей», возникшей в 1960-х гг. Такие характеристики погребений, как различия в положении и ориентации умерших, разные типы удаления зубов, наличие или отсутствие погребального инвентаря и т.д., рассматривались не как признаки иерархического общества, а как воплощение горизонтального разделения по принципу свои/чужие [Ямада Ясухиро, 2020, с. 29].
Во второй половине 1980-х гг. обсуждалась возможность существования в японском неолите иерар-хиче ских отношений, в противоположность идее «бедного равноправного общества». Впервые о неравенстве в эпоху дзёмон заговорил Сасаки Фудзио, но его точка зрения не получила признания. Исследователь не использует термин «иерархия», но, оперируя данными по поселенческим комплексам, говорит о существовании вертикальной формы социальных различий [Сасаки Фудзио, 1973, с. 40–42].
Возникновение теории «стратифицированного общества эпохи дзёмон » связано с открытием новых археологических комплексов, в частности раковинной кучи Торихама (преф. Фукуй, изначальный – ранний период, ок. 12,0–5,5 тыс. л.н.). На памятнике обнаружено множество органических остатков (костяные орудия, деревянные инструменты, лаковая посуда, хорошо сохранившиеся плетеные корзины, каноэ, фрагменты текстиля, орехи, семена), а также керамика, каменные орудия, ритуальные предметы, украшения и пр. В результате формируется представление о неолитическом обществе дзёмон как о «богатых охотниках-собирателях» с развитой духовной и материальной культурой [Ямада Ясухиро, 2020, с. 29]. Открытие в разных районах Японии крупных ритуальных и поселенческих комплексов с обилием органических материалов хорошей сохранности, датируемых от изначального до финального периода эпохи дзёмон , вызвало мощный отклик в академических кругах, воплотившийся в разработке новых теорий.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. возникают идеи «сегментированного общества» и наличия рабовладельческих отношений в эпоху дзёмон. Кобаяси Тацуо, сравнив данные по коренным народам северо-западного побережья Северной Америки с материалами погребальных комплексов культуры камэгаока (финальный период, 2 700–2 300 л.н.), высказал предположение о существовании рабов в то время [Ямада Ясухиро, 2015, с. 171–172]. Наиболее убедительно этот дискурс представлен в работе Ватанабэ Хироси «Иерархическое общество дзёмон» (1990), в которой оно исследуется в сопоставлении с материалами по этнографии охотников-собирателей Северной Па-цифики (коренные народы Северной Америки и Сибири, айну). По мнению ученого, структурной основой дзёмонского общества была иерархическая система, разделяющая богатых и бедных, существовала также дифференциация стратегий жизнеобеспечения среди мужского населения (промысел лососевых, марлинов, охота на медведя и др.). При описании социальных отношений автор оперирует понятиями и терминами, ранее не использовавшимися для характеристики эпохи дзёмон: аристократия, богатые и бедные, иерархия, власть, престиж и т.д. [Ямада Ясухиро, 2020, с. 29–31].
Апогеем развития теории «стратифицированного общества эпохи дзёмон » стало формирование концепции «цивилизации дзёмон », или «утопии дзё-мон » [Ямада Ясухиро, 2015, с. 98–100]. Центральное ме сто в ней занимает поселение Саннай Маруяма (преф. Аомори, ранний – средний период, ок. 5 900– 4 400 кал. л.н.) – крупнейший дзёмонский памятник, в состав которого входят сотни полуземлянок и свайных конструкций, крупный могильник, зоны хозяйственно-бытового характера и др. В 1994 г. было открыто уникальное «ритуально е сооружение» – остатки трехъярусной конструкции на опорных столбах. Археологические коллекции пополнились плетеными и лаковыми изделиями, каменным и костяным инвентарем, керамикой, украшениями из раковин и нефрита, флористическими и фаунистическими материалами [Habu, 2004, p. 108–134]. Изучение комплекса изменило представление об эпохе и обозначило направления новых исследований. На основе интерпретации о статков ярусного сооружения как культового места были выдвинуты концепции «стратифицированного социального неравенства в эпоху дзёмон », «города эпохи дзёмон », «королевства Тохо-ку» (или «Северного королевства дзёмон »), «культуры лесного неолита», «деревянной цивилизации» и «храмовая» теория [Сасаки Фудзио, 1999; Ямада Ясухиро, 2015, с. 63–65; 2020]. Памятник рекламировался как «великое открытие, переписывающее историю Японии». В научно-популярной и исследовательской литературе использовались громкие формулировки («иерархия», «рабство», «город» и т.д.), например, Кояма Сюдзо настаивал на существовании в поселении Саннай Маруяма «иерархического общества», разделенного на аристократический класс, простой народ и рабов [Ямада Ясухиро, 2020, с. 31], что вызвало массу критических замечаний и способствовало формированию у многих специалистов негативного отношения к теории «стратифицированного общества эпохи дзёмон ». Несмотря на это, в 2000-х гг. данная теория продолжала укреплять позиции. Многие исследователи склонны видеть в культуре камэгаока следы существования или зачатков трансэгалитарного общества. В этом направлении работали Накамура Оки, Сасаки Фудзио, Танигути Ясухиро, Такахаси Рюзабуро и др. [Там же, с. 32–33]. Признаки социального неравенства выделялись на основе анализа погребений (различия в составе сопроводительного инвентаря [Накамура Оки, 1999, с. 50–51] или выборе места захоронения [Сасаки Фудзио, 2002]).
Таким образом, если до 1960-х гг. было принято говорить о «бедных оседлых охотниках-собирателях», то с появлением новых методов анализа и привлечением специалистов из смежных областей формируется представление о дзёмонцах как о высокоразвитых охотниках-собирателях-рыболовах со сложной социальной стратификацией [Сасаки Фудзио, 1973, с. 40–45], с технологически разнообразным орудийным набором и высоким уровнем гончарного производства [Ямада Ясухиро, 2015, с. 68–70], специфической погребально-обрядовой практикой и культом плодородия [Сасаки Фудзио, 2002], комплексным подходом к адаптивным стратегиям [Ясуда Ёсинори, 1997, с. 10–12].
В целом в современной археологии Японии существуют две точки зрения по вопросу истоков цивилизации. В основе первой лежит теория о формировании сложного иерархического общества в среднем – финальном периодах эпохи дзёмон , когда благоприятные климатические условия и разнообразие адаптивных стратегий (собирательство, охота, ранние формы земледелия) позволили достичь высокого уровня развития материальной и духовной культуры, что наиболее ярко выражается в строительстве крупных поселенческих комплексов и сооружении сложных конструкций из земляных насыпей, камня и дерева. Представители другого направления не отрицают высокого уровня развития материальной культуры в эпоху дзёмон , но считают, что в то время существовало несколько региональных культур, развивавшихся на основе присваивающего хозяйства, тогда как производящее хозяйство появилось на территории Японии только с приходом носителей культуры яёй.
Заключение
Как показал анализ работ китайских и японских археологов по проблемам происхождения цивилизации, в настоящее время в научных сообществах двух стран продолжаются дискуссии о времени и характере перехода к стадии цивилизации, пока не сформирован единый подход к выделению критериев, указывающих на этот качественный скачок в развитии обществ. Наиболее распространенными являются гипотезы о формировании цивилизации в эпохи неолита (луншаньский период в Китае, эпоха дзё-мон в Японии) или палеометалла (бронзовый век, в частности культуры эрлитоу в Китае и яёй в Японии). Если в Китае на данный момент большинство специалистов склонны разделять идею о том, что в период позднего – финального неолита (ок. 3 500– 2 000 лет до н.э.) в разных регионах на территории современной КНР возникали мощные культурные центры, в которых начинала складываться государ- ственность и происходил переход к цивилизации, то в японской археологии консенсус пока не достигнут. Еще две особенности китайской научной традиции – убежденность во взаимообусловленности процессов формирования цивилизации и го судар-ства, проистекающая из опоры на работы Ф. Энгельса, и стремление к сопоставлению (не всегда критическому) археологических материалов с данными традиционной историографии. Японские ученые, исследующие вопросы археологии эпох неолита – па-леометалла, лишены возможности (и необходимости) опираться на летописные источники и в меньшей степени скованы идеологическими рамками, в фокусе их внимания находится преимущественно изучение социальных структур древних обществ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-39-60001.
Список литературы Понятие "цивилизация" в современных исследованиях по археологии неолита в Китае и Японии
- Бао Ифань. Обоснование моделей, периодизации развития и различных толкований значения «самого раннего Китая» // Чжунъюань вэньхуа яньцзю. – 2020. – № 6. – С. 121–127 (на кит. яз.).
- Ван Чжэньчжун. Исследования происхождения цивилизации и государства в Китае за сорок лет реализации политики реформ и открытости // Шисюэ юэкань. – 2020. – № 9. – С. 113–126 (на кит. яз.).
- Ваэйтаисё: нихонкокогаку ё:го дзитэн (Японско-английский словарь терминов японской археологии) / ред. Т. Ямамото. – Токио: То:кё:бидзюцу, 2001. – 296 с. (на яп. яз.).
- Гао Цзянтао. Учитель Ся Най и исследование возникновения китайской цивилизации // Пиндиншань сюэюань сюэбао. – 2005. – № 1. – С. 46–48 (на кит. яз.).
- Гао Цзянтао. О моделях и движущих силах формирования раннего государства в Китае // Шисюэ юэкань. – 2019. – № 6. – С. 21–33 (на кит. яз.).
- Е Вэньсянь. Анализ различий между «государством» и «цивилизацией» // Чжэцзян шэхуэй кэсюэ. – 2016. – № 1. – С. 92–105 (на кит. яз.).
- И Цзяньпин. О переосмыслении научного определения государства // Лиши яньцзю. – 2014. – № 2. – С. 143–161 (на кит. яз.).
- История китайской цивилизации: в 4 т. – М.: Шанс, 2020. – Т. 1: С древнейших времен до 221 г. до н.э. / гл. ред. Янь Вэньмин; пер. с кит. под ред. И.Ф. Поповой, М.Ю. Ульянова. – 671 с.
- Кавадзири Фумихико. Термин «цивилизация» в современном Китае: японские исследователи периода Мэйдзи и Лян Цичао // Хигаси адзиа киндай ни окэру гайнэн то ти но сай хэнсэй. Кокусай симподзиум, дай 35-сю: (Реорганизация концепций и знаний в современной Восточной Азии: 35-й Междунар. симп.). – Токио: Кокусай ниппон бунка кэнкю: сэнта, 2010. – С. 131–160 (на яп. яз.).
- Ли Боцянь. Некоторые теоретические вопросы происхождения государства в контексте исследования процесса формирования китайской цивилизации // Чжунъюань вэньхуа яньцзю. – 2016. – № 1. – С. 5–9 (на кит. яз.).
- Линь Юнь. Теоретические и методологические проблемы применения терминов «древнее государство», «вождество», «царство» в археологии Китая // Чжунъюань вэньхуа яньцзю. – 2016. – № 2. – С. 5–12 (на кит. яз.).
- Массон В.М. Первые цивилизации / отв. ред. И.Н. Хлопин. – Л.: Наука, 1989. – 276 с.
- Моримото Рокудзи. Культура стиля яёй // Дорумэн дзасси. – 1935. – Т. 4, вып. 6. – С. 88–91 (на яп. яз.).
- Морохаси Тэцудзи. Дай канва дзитэн (Большой китайско-японский словарь): в 13 т. – Токио: Тайсю:кан сётэн, 1967. – Т. 5. – 1074 с. (на яп. яз.).
- Накамура Оки. Расслоение общества дзёзмон по данным погребальных комплексов // Сайсин дзё:мон гаку-но сэкай (Новейшие исследования по миру дзёмон). – Токио: Асахи симбун, 1999. – С. 48–60 (на яп. яз.).
- Окамура Ватару. Яёй сю:каку-дзо: но гэнтэн во минаосу – Торо исэки (Пересмотр первоначальной точки зрения на деревню периода яёй – памятник Торо). – Токио: Синсэнся, 2014. – 95 с. (на яп. яз.).
- Попова И.Ф. Предисловие к русскому изданию // История китайской цивилизации: в 4 т. – М.: Шанс, 2020. – Т. 1: С древнейших времен до 221 г. до н.э. / гл. ред. Янь Вэньмин; пер. с кит. под ред. И.Ф. Поповой, М.Ю. Ульяновой. – С. 5–8.
- Руйго дайдзитэн (Большой словарь синонимов) / ред. Т. Сибата, С. Ямада – Токио: Коданся, 2002. – 1502 с. (на яп. яз.).
- Сасаки Фудзио. Гэнси кё:до:тай-рон дзёсэцу (Введение в теорию первобытного общества). – Токио: Коганэй, 1973. – 109 с. (на яп. яз.).
- Сасаки Фудзио. Северная цивилизация и южная цивилизация (нижняя): теория деревень эпохи дзёмон в художественной литературе // Ибоу. – 1999. – Вып. 17. – С. 79–90 (на яп. яз.).
- Сасаки Фудзио. Каменные круги и иерархическое общество стиля дзёмон (средний – поздний периоды регионов Тохоку, Канто и Тюбу) // Дзё:мон сякай-рон (Теория общества дзёмон). – Токио: До:сэйся, 2002. – С. 3–50 (на яп. яз.).
- Синнихон кокогаку сё:дзитэн (Краткий словарь по современной японской археологии) / ред. Т. Эсака, Т. Сэридзава, С. Сакамунэ. – Токио: Ню:саиэнсу-ся, 2005. – 502 c. (на яп. яз.).
- Су Бинци. Новый рассвет китайской цивилизации // Дуннань вэньхуа. – 1988. – № 5. – С. 1–7 (на кит. яз.).
- Су Бинци. Чжунго вэньмин циюань синьтань (Новое исследование происхождения китайской цивилизации). – Гонконг: Шанъу иньшугуань, 1997. – 152 с. (на кит. яз.).
- Сунь Цинвэй. Поиски значения китайской цивилизации: Перечитывая «Шесть лекций по археологии» Чжан Гуанчжи // Бэйцзин дасюэ сюэбао. – 2021. – Т. 58, № 2. – С. 65–75 (на кит. яз.).
- Сэки Юдзи. Дзё:мон буммэй то тю:гоку буммэй (Цивилизация дзёмон и китайская цивилизация). – Токио: PHP Publ., 2020. – 224 с. (на яп. яз.).
- Сюй Хун. Развитие изучения истоков государства в археологическом сообществе Китая и размышления по этому поводу // Чжунъюань вэньхуа яньцзю. – 2016. – № 2. – С. 13–17 (на кит. яз.).
- Ся Най. Чжунго вэньминдэ циюань (Истоки китайской цивилизации). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1985. – 131 с. (на кит. яз.).
- Умэхара Такэси, Ясуда Ёсинори. Дзё:мон буммэй но хаккэн – кёуи но Саннай Маруяма исэки (Открытие цивилизации дзёмон – сенсационный памятник Саннай Маруяма). – Токио: PHP Publ., 1995. – 249 с. (на яп. яз.).
- Фудзио Синъитиро. Дзё:мон ронсо: (Дискуссия об эпохе дзёмон). – Токио: Коданся, 2002. – 262 с. (на яп. яз.).
- Харунари Хидэдзи. Значение практики удаления зубов // Ко:когаку кэнкю:. – 1973. – Т. 20, вып. 2, ч. 1. – С. 25–48 (на яп. яз.).
- Хаяси Кэнсаку. Погребальная практика периода дзёмон: положение умерших и особенности направления головы // Ко:когаку дзасси. – 1977. – Т. 63, вып. 3, ч. 2. – С. 211–246 (на яп. яз.).
- Цубои Киётари. Теория культуры дзёмон // Иванами ко:дза нихон рэкиси (Курс лекций Иванами по истории Японии). – Токио: Иванами сётэн, 1962. – Т. 1: Генси оёби кодай (Первобытный и древний периоды). – С. 109–138 (на яп. яз.).
- Чан Хуайин. Обзор исследований происхождения государства в академическом сообществе Китая за последние двадцать лет // Сычуань вэньу. – 2016. – № 1. – С. 46–60 (на кит. яз.).
- Чжан Гуанчжи. Каогусюэ чжуаньти лю цзян (Шесть лекций по археологии). – Пекин: Вэнь чубаньшэ, 1986. – 132 с. (на кит. яз.).
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М.: АСТ, 2019. – 288 с.
- Ямада Ясухиро. Цукура рэта дзё:мон дзидай ниппон бунка но гэндзо: о сагуру (Изучение оригинального образа японской культуры, созданного в эпоху дзёмон). – Токио: Синтё: сэнсё, 2015. – 253 с. (на яп. яз.).
- Ямада Ясухиро. История археологии и социальный фон // Кикан ко:когаку. – 2020. – Вып. 150. – С. 28–33 (на яп. яз.).
- Яманоути Сугао. Древние культуры Японии: обзор керамики стиля дзё:мон // Дорумэн дзасси. – 1932. – Т. 1, вып. 4. – С. 40–43 (на яп. яз.).
- Янь Вэньмин. Возникновение и развитие цивилизации в бассейне Хуанхэ // Хуася каогу. – 1997. – № 1. – С. 49–54 (на кит. яз.).
- Ясуда Ёсинори. Дзё:мон буммэй но канкё: (Окружение цивилизации дзёмон). – Токио: Ёсикава Кобункан, 1997. – 228 с. (на яп. яз.).
- An Illustrated Companion to Japanese Archaeology / eds. W. Steinhaus, S. Kaner, M. Jinno, Sh. Shoda. – Oxford: Archaeopress, 2020. – 341 p.
- Child V.G. The Urban Revolution // The Town Planning Review. – 1950. – Vol. 21, iss. 1. – P. 3–17.
- Evolution and Culture / eds. M.D. Sahlins, E.R. Service. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960. – 131 p.
- Habu J. Ancient Jomon of Japan / ed. R.P. Wright. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004. – 332 p.
- Habu J., Okamura K. Japanese Archaeology Today: New Developments, Structural Undermining, and Prospects for Disaster Archaeology // Handbook of East and Southeast Asian Archaeology. – N. Y.: Springer, 2017. – P. 11–26.
- Ikawa-Smith F. Co-traditions in Japanese archaeology // World Archaeology. – 1982. – Vol 13. – P. 296–309.
- Kradin N.N. Archaeological criteria of civilization // Social Evolution & History. – 2006. – Vol. 5, iss. 1. – P. 88–107.
- Melichar H. Japanese Archaeological Terms with English and German Equivalents // Asian Perspectives. – 1964. – Vol. 8, iss. 2. – P. 1–111.
- Service E.R. Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution. – N. Y.: W.W. Norton & Company Inc., 1975. – 224 p.
- The Early State / eds. H.J.M. Claessen, P. Skalnik. – The Hague: Mouton Publ., 1978. – 689 p.