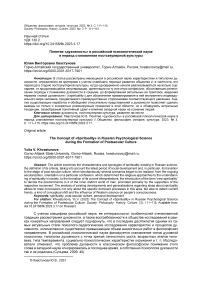Понятие «духовность» в российской психологической науке в период становления постсекулярной культуры
Автор: Хвастунова Юлия Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены имеющиеся в российской науке характеристики и типологии духовности, определения ее критериев с учетом новейшего периода развития общества и, в частности, его перехода в стадию постсекулярной культуры, когда одновременно начали реализовываться несколько сценариев: от продолжающейся секуляризации, ориентации на ту или иную конфессию, обусловивших религиозные подходы к пониманию духовности в социуме, до формирования актуальных ее трактовок, введения термина «новой духовности» («spirituality») для обозначения превалирования в ней внутреннего индивидуального мира человека, продвигаемого преимущественно сторонниками соответствующего движения. Анализ существующих наработок и обобщений относительно представлений о духовности позволяет сделать выводы не только о конкретных доминирующих процессах в этой области, но и обнаружить актуальные тенденции, своеобразный понятийный сдвиг и влияние западной науки на сознание людей.
Духовность, постсекулярная культура, развитие личности
Короткий адрес: https://sciup.org/149142219
IDR: 149142219 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.3.17
Текст научной статьи Понятие «духовность» в российской психологической науке в период становления постсекулярной культуры
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия, ,
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia, ,
В настоящей работе рассмотрены преимущественно психологические представления о духовности, имеющие некоторые педагогические особенности, поскольку исследуемый концепт не только обладает сущностными онтологическими характеристики, но и задает формат развития личности (социализации), что всегда имеет особый смысл для педагогических теорий.
В контексте очевидных социальных изменений, фиксации перехода общества в «постпостмодернистскую» эпоху, а также в свете всё более очевидного формирования постсекулярной культуры становится важно выявить состояние неких особых индикаторов или маркеров, одним из которых и является такое понятие, как духовность. С учетом интегрального характера российской науки необходимо учитывать наработки в области смежных наук, особенно психологического направления, представленные не только теоретическими построениями, но и накопившимся богатым эмпирическим материалом. Последний также фиксирует изменения в современной культуре, выражающиеся в постсекулярности.
С конца XX в. ситуация начала меняться, и своеобразная революция произошла в психологии и смежных с ней науках, в том числе связанных со всесторонним анализом современной культуры. Тема духовности, «духовного опыта», преимущественно в новом ее осмыслении, все чаще находит место на страницах западных научных журналов, и здесь происходит своеобразная рокировка ключевых ее характеристик. Так если в период секуляризации из науки всячески вытравлялись темы, связанные с религией и духовностью как сопряженной с ней категорией, больше всего досталось конфессионально обусловленным теориям духовности, то в период постсекуляризации, на волне интереса к новым религиозным движениям (НРД), обнаружился рост престижа трансперсональной психологии (ТП) (Гроф, 1994; Гроф, Хэлифакс, 1996), зародившейся на пике «психологической революции», которая поначалу шла параллельно с войной «культистов и антикультистов», где первые в конечном итоге выиграли. Все это определило появление целого тематического направления в психологии, связанного с анализом «новой духовности», духовности Нью Эдж, «спиритуалити» (Данилин, 2001; Лифтон, 2005).
Обзор трактовок исследуемой категории в психологических трудах, выполненный, например, в работе Н.В. Климовой (Климова, 2014), позволяет выделить ее базовые смыслы: от энциклопедических словарных определений, в которых духовность трактуется как некая стадия взросления, становления и достижения полноты личностного начала в человеке (в формате возрастной психологии) благодаря опоре на высшие человеческие ценности (возможно, это одно из наиболее нейтральных определений) до глубоко проработанных авторских дефиниций, не ограничивающихся шаблонным определением понятия, а выстраивающих его типологию и предлагающих включать индикаторы духовности в соответствующие коррекционные методики и психологические тестирования1.
В обзорной статье психологического словаря под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко раскрываются различные грани понятия «духовность»2. Авторы определяют ее и как поиск, и как деятельность неутилитарного плана по преобразованию себя и обретению истины. Подлинная духовность – это рост, совершенствование, идущее сверху и наверх. Здесь исследователи принципиально дистанцируются от З. Фрейда, который искал духовность в бессознательном животном начале, т. е. в «низинах» человеческого существа, что пророчески предопределило путь западного «раскрепощённого» человека или человека-зверя – «сексуального животного», снабженного интеллектом и опирающегося исключительно на «внешние» технологии (Фрейд, 2019). Это есть движение не только бесплодное, но и опасное. Оно неотвратимо приводит к человеку-машине, к господству искусственного интеллекта. Поэтому неудивительно, что на Западе всё активнее развивается трансгуманизм и его отдельные подвиды, согласно идеям которого человек в человеке должен быть преодолен, в том числе за счет изменения духовных основ, привнесения «новой духовности» («spirituality», ньюэджевская духовность), позиционируемой как наиболее актуальное и прогрессивное направление развития человечества.
В русской науке, в философском дискурсе, духовность всегда воспринималась «серьезно», используемые метафоры лишь помогали объяснить ее и приблизиться к истине. Духовность присутствует повсюду, но из-за своей динамичности она относительно легко меняет вектор и вмещает в себя то или иное содержание. В соответствии с этим ее можно разделить на: оптимистическую, понимаемую как полет духа (человеческая суть, сознание соединяется с Духом), и пессимистическую, сближающуюся по содержанию с нищетой духа (сознание вместо Духа, погружается в душевность и телесность). Наука же стала несколько игнорировать богатое наследие прошлого о духовности, уходить в формальные, статистические, методологические аспекты3.
Однако в конце XX в. всё больше ученых стали обращаться к богатому религиозному наследию, в том числе сконцентрированному в конфессиональных институтах. Так, Б.С. Братусь рассматривает все аспекты духовности с точки зрения христианских ценностей, через взаимное отношение любви. Исследователь выделяет четыре уровня этой категории: 1) эгоцентрический (потребительское вещное отношение к другому человеку; 2) группоцентрический (братские отношения распространяются только на конкретную свою группу, обычно малочисленную); 3) социо-центрический, или гуманистический (принесение пользы всему сообществу); 4) собственно духовный (когда духовные вопросы во всем доминируют) (Братусь, 2000).
В диссертации Н.А. Коваль духовность предстает в виде «результата процесса приобщения личности к общечеловеческим ценностям и духовной культуре»1. Аналогичная точка зрения обнаруживается в работе Н.В. Климовой (Климова, 2014: 205).
Исследователь И.М. Ильичева выделяет формы проявления духовности, среди них: поиск смысла жизни, самоактуализация и ответственность2. Последняя в постсекулярный период активно отрицается и подменяется, например, искусственно продвигаемой «культурой отмены России», в молодежную среду внедряется антидуховность через позиционируемые значимыми информационные источники. Блогеры наподобие рэпера Алишера Моргенштерна, который позиционирует себя как откровенный сатанист, пропагандист наркотиков и насилия, суицидальных мотивов и распутства. При чем всё это называется разнообразием проявлений личностного развития, свободой, но есть ли здесь подлинное разнообразие? Тут представлены смыслы лишь одного ценностного ряда. Отсюда у молодежи вместо самоактуализации (усиленного развития позитивных личностных качеств) обычное подражание узким «брендам-трендам-фрикам-фейкам», которые вместо развития приводят в тупик. Ответственность же изгоняется лозунгами, которые льются из текстов попсовых песен и голливудских фильмов, ориентированных на стандарты потребления и нарциссизма. Благодаря наработкам в области психологии, другие науки, в частности, философия, начали разрабатывать понятие «нарциссическая культура». Сначала в контексте исследований по психоанализу и глубинной психологии, а далее – в работах философа К. Лэша четко обозначились основные характеристики новой нарциссической культуры, дополнившей социально-психологические теории общества потребления (Lasch, 1978). В рамках потребительской концепции развития человеческого общества представители шоу-индустрии были главными воспитателями и вдохновителями российского народа в последние десятилетия, в обществе интенсивно аккумулировалась новая прозападно ориентированная постсекулярная культура, с ее удобной «новой духовностью», которая начала складываться преимущественно с конца 60-х годов XX в.
Именно область психологических исследований (экспериментальные данные) задала импульс формированию «новой духовности» и смене периода секулярной культуры на постсекулярную. Данный период в истории западного общества обозначен не только как переходный (складываются предпосылки для формирования постиндустриального общества), но и как ознаменовавшийся зарождением контркультуры. В США активно разворачивают свою деятельность различные «прогрессивные движения», прежде всего ратующие за разного рода «свободы»: в образе жизни, в выборе места жительства «без привязки к географии», в сексуальных отношениях, в способах постижения действительности с предпочтением иррациональных, в том числе через наркотический транс (психоделическая революция) и обращение к культовым практикам. Последние стали изучаться в контексте имеющихся научных психологических теорий и понятий. Так, продолжила своё развитие психоаналитическая школа, трансперсональная психология, психоделическая психотерапия и т. п.
В среде ученых, представителей шоу-бизнеса, писателей-фантастов появились апологеты экзотической «новой духовности», которые создавали свои произведения в контексте приобретаемых навыков, популяризуя новые духовные технологии в массовой культуре. Молодежь активно приобщалась к психоделическому року и фолку, стилю хиппи, романам бит-поколения, фильмам-саспенсам, хоррорам, неонуару и т. п. Все это, очевидно, позволяет заключить о неизбежном переходе эры секулярной культуры Запада (с ее предельной рационализацией, атеистическими компаниями, материализмом и т. п.) в новую формацию – постсекулярную. В научном дискурсе данное явление начало осмысляться уже позже – в контексте завершающей стадии постмодернистских исследований.
С.Я. Сунцова выделяет четыре подхода к исследованию духовности: 1) поиск ее истоков в продуктах жизнедеятельности; 2) изучение ситуативных и личностных факторов, развивающих духовность, рассматриваемую как принцип саморазвития и самореализации человека; 3) обращение к высшим ценностным инстанциям конструирования личности; 4) религиозное направление: в нем духовное выступает только как божественное откровение: Бог есть дух, а жизнь духовная – это жизнь с Богом и в Боге (Сунцова, 2009). С.Я. Сунцова приводит следующую дефиницию:
«В рамках психологии духовность может пониматься как родовое определение человеческого способа жизни, связанное с открытием самоценного, очевидного и необходимого смысла собственного существования. Существования, связанного с освобождением от соблазна влечений, пристрастий и прельщений собственной самости. Духовность – это любовь к качеству жизни и воля к совершенству во всех ее областях» (Сунцова, 2009: 40).
Важнейший нюанс в более глубоком понимании сути духовности – это отличие ее от душевности, которое лучше всего показано в теологических, богословских работах, но также изучается в психологии, педагогике и философии. Так, в статье Ю.Н. Синицына, А.Г. Хентонена (Синицын, Хентонен, 2015) подчеркивается, что данные различных наук о духе и духовности не противоречат и связаны «с единством трех основополагающих ценностей человеческого бытия (Истины, Добра, Красоты)», соответственно выделяются «три сферы духовной деятельности – познание, искусство, нравственность» (Синицын, Хентонен, 2015: 279). Однако исследователи отмечают, что в ходе конкретного исследования (диагностика учащихся) они фиксировали трудности у большинства школьников с четким определением таких понятий, как духовность и нравственность (Синицын, Хентонен, 2015: 280–282). Одной из причин такого положения дел является влияние на подрастающее поколение новой формации культуры (постсекулярной), где под духовностью может пониматься все, что угодно, в том числе установки, далекие от нравственно обусловленных норм, ценностей и идеалов.
В вышеизложенных научных определениях духовность – это высшее морально-ответственное развитие человека, становление личности. Если же применить подобную трактовку к западным направлениям психологии – трансгуманистической и некоторым видам постгуманистической, то тут начнутся проблемы, поскольку их сторонники, во-первых, расширяют понятие разумных существ, включая в их ряд животных, роботов, клонов и человека (где-то там и не в первом ряду); во-вторых, предлагают вообще отказаться от человека как такового, так как не видят в нем потенциала для реализации высшего проявления духовности, оставляя «совершенствование» гибридам – трансчеловеку и постчеловеку.
Итак, завершая наш небольшой обзор определений духовности в российской науке, необходимо подчеркнуть их в некотором роде единство. Несмотря на отчетливые тенденции последних десятилетий, связанные с распространением западных трендов и трактовок данного понятия в российском образовательном сегменте, всё же отечественные ученые остаются верными себе и поддерживают устоявшиеся традиции, в том числе обращаясь к наследию досоветского периода, к русской религиозной философии, психологии, педагогики и богословию. Современные вызовы, актуализация «постчеловеческих» идеологий и теорий, в том числе в трансгуманизме, определяют одновременное развитие нескольких направлений для реализации постсекулярной культуры (нового вида переходной культуры, или культуры постпостмодернизма): от механического соединения различных имеющихся теорий и концепций, продолжающих линию секуляризации, до ориентированных на определенные конфессии и выбирающих «новую духовность», или духовность «spirituality», поддерживаемых различными движениями Нового века с их акцентом на авторских духовных практиках, а также сетевыми виртуальными сообществами.
В массовой культуре наблюдается продолжающая тенденция развития темы постсекуляр-ности. Так, на уровне популяризации трансгуманистических идей развивается киберпанк, пишутся романы и рассказы, которые активно экранизируются. Следует выделить писателя Д. Брина с его романом «Почтальон»1 и серией рассказов о развитии радикальных технологий; популяризатора теории сингулярности В. Винджа и его роман «Пламя над бездной»2, произведение Н. Стивенсона «Лавина»3 и т. п. Отдельные темы постсекулярности, в частности, осмысление пси-феноменов с учетом развития передовых технологий, описывает в своих рассказах австралийский писатель и литературный критик Д. Бродерик4. Аспекты генетических технологий, вопросы клонирования раскрываются в романе О. Батлер, написанном в стиле черного ки-берпанка5, а вопросы «загрузки сознания» и нахождения подлинной духовной самости «я» человека анализируются в произведении «Нексус» современного американского автора Р. Наама6, а также в творчестве российского писателя В. Пелевина7.
Завершая исследование, следует подчеркнуть растущий интерес к теме духовности, а также «новой духовности» в контексте реализации радикальных технологий в ситуации постпостмодернистской эпохи. Именно постсекулярная культура ставит духовность в центр своей актуализации и возможного доминирования по отношению ко всем другим видам постсовременной культуры.
Список литературы Понятие «духовность» в российской психологической науке в период становления постсекулярной культуры
- Братусь Б.С. Смысловая сфера личности // Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб., 2000. С. 135-137.
- Гроф С. Путешествие в поисках себя. Измерения сознания. Новые перспективы в психотерапии и исследовании внутреннего мира. М., 1994. 338 с.
- Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек перед лицом смерти. М., 1996. 246 с.
- Данилин А.Г. LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости. М., 2001. 521 с.
- Климова Н.В. Анализ понимания духовности в современной научной литературе // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4-2 (60). С. 203-206.
- Лифтон Р.Дж. Технология "промывки мозгов": психология тоталитаризма. СПб., 2005. 576 с.
- Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Духовность и душевность как базовые "экзистенциалы" человеческого бытия: педагогический контекст // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. T. 7, № 5-1. С. 278-283.
- Сунцова С.Я. Понятие духовности в философии и психологии // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2009. № 2. С. 39-60.
- Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 2019. 592 с.
- Lasch Ch. The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. N. Y., 1978. 268 р.