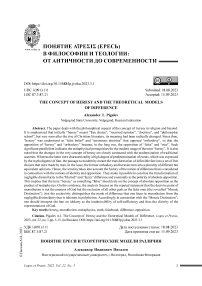Понятие ереси и теоретические модели различия
Автор: Пигалев А.И.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие αιρεσισ (ересь) в философии и теологии: от античности до современности
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются философские аспекты концепции ереси в религии и за ее пределами. Подчеркивается, что первоначально «ересь» означала «свободный выбор», «принятое мнение», «учение» и «философская школа», но очень скоро после возникновения христианской литературы смысл этого слова радикально изменился. С этого времени под ересью стали понимать «ложное верование» и «ошибочное учение», которые противостояли «ортодоксии», так что со временем противоположность «ереси» и «ортодоксии» стала противоположностью «ложного» и «истинного». Этот многозначительный параллелизм указывает на метафизические предпосылки современного употребления термина «ересь». Отмечается также, что изменения самой концепции ереси тесно связаны с процессом модернизации традиционных обществ. В то время как они характеризуются высокой степенью предопределенности развития, выраженной мифологемой судьбы, переход к модерну означал превращение непреклонной судьбы в набор совершаемых человеком свободных выборов. В результате прежние ортодоксия и ереси превращаются во множество различных, но равноценных мнений. Исходя из этого, в исследовании уделяется особое внимание истории понятия различия, которое рассматривается в связи с понятиями тождества и противоположности. Они позволяют осмыслить превращение незначительного несходства в «размытое» и «нечеткое» различие и в конечном счете в полную противоположность. Это означает, что термин «ересь» как что-то «ложное» должен опираться на концепцию полной противоположности в качестве продукта метафизики. На основании этого анализ сосредоточивается на известном суждении, согласно которому решающим свойством монотеизма является не единственность Бога, а исключение всех других богов в качестве ложных (так называемое «Моисеево различение»). Именно эксклюзивность отличает тот тип различия, с которым исследователь сталкивается в монотеизме, от незначительного несходства, которое присуще политеизму. Соответственно, в связи с «Моисеевым различением» запрет идолопоклонства может быть истолкован как недопустимость признания самодостаточности репрезентаций Бога и, таким образом, недопустимость придания им божественного статуса.
Ересь, монотеизм, метафизика, истина, ложь, различие, противоположность
Короткий адрес: https://sciup.org/149145057
IDR: 149145057 | УДК: 1(091):111 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.1
Текст научной статьи Понятие ереси и теоретические модели различия
DOI:
Ересь в качестве предмета исследования, относящегося к сфере религии и теологии, имеет лишь косвенное отношение к философской проблематике, за исключением вопросов философии религии. Однако появление в культуре процессов, не укладывающихся в прежние классификации и относимых к постмодерну, неожиданно сделало актуальными именно философские проблемы, касающиеся концепции ереси и потребовало новых подходов к их осмыслению (см. о современных подходах в: [Brooke 2005; Henderson 1998; Laursen (ed.) 2002]). Особое место среди них занимает задача переосмысления концепции ереси в свете специфического смысла понятия различия, которое широко используется при исследовании как культуры модерна, так и связываемой с нею метафизики.
Поскольку то, что делает некоторую точку зрения и определенное верование ересью, определяется ее отличием от позиции, которая считается ортодоксальной, то само отнесение к ереси существенно зависит от пони- мания понятия различия, которое в традиционном смысле берется в его предельном виде резкого противопоставления. Здесь наиболее существенно то, что структуры взаимосвязи пары объектов в теоретических моделях различия обладает большими или меньшими степенями резкости и четкости или, выражаясь метафорически, контрастности. Строго говоря, ересью считаются точка зрения и верование, отличие которых от ортодоксальной позиции является предельно резким. По сути дела, речь идет уже не о различии, а о контрадикторной противоположности.
Именно в этой связи философские основания концепции ереси, по самой своей сути предполагающей крайнюю степень различия, оказываются в самом центре современной философской проблематики, в которой одно из главных мест занимает проблема Другого. Более того, попытка выявить философские основания концепции ереси существенно расширяет предметную область анализа. Она ставит исследование перед необходимостью если и не включить в анализ такие понятия, как традиция, судьба, случай, выбор, ортодок- сия, гетеродоксия, универсализм и модерн, то использовать их в качестве контекста такого анализа. При таком подходе понятие ереси выходит за пределы теологической и религиозно-философской проблематики.
Гетеродоксия и становление понятия ереси
Само слово «ересь» (греч. шреотс) первоначально не имело отрицательных коннотаций и обозначало «свободу выбора», «школу» или «направление» как результат предпочтения мнения, учения или авторитета, через которого мнение или учение легитимируются и распространяются. При этом акцент делался на свободу выбора, на добровольный характер выбора учения или наставника. В этом отношении «ересь» первоначально была, в сущности, нейтральным в ценностном отношении термином, обозначавшим принадлежность к идейному течению, философской школе или вероучению.
Отрицательные коннотации у этого слова появляются лишь после возникновения христианской литературы, и оно в новом качестве стало применяться к гностикам, а также к греческим и еврейским «сектам». Однако точное определение «ересь» получает только во II в. н.э. в христианстве. Соответственно, «ересь» начинает обозначать «ложное верование» и «ложное учение» в качестве противоположности Церкви и ее учения как «ортодоксии». Но затем отношения Церкви и ереси в качестве аналогии истины и лжи начинают изменяться (впервые у М. Лютера) и в конечном итоге они разрушаются.
Свой вклад в это разрушение внесли возникшие в XIX в. споры о раннем христианстве, в ходе которых были высказаны предположения, согласно которым Новый Завет представляет лишь одно из многих изложений учения раннего христианства. Одним из главных результатов этих споров стало отрицание исторической первичности ортодоксии и вторичности, более позднего происхождения различных отклоняющихся от ортодоксии идей и верований. На этом основании был сделан вывод, что идеи и верования, которые сейчас рассматриваются как еретические, например гностицизм, в эпоху раннего хрис- тианства таковыми не считались и относились к христианским.
Это так называемый «тезис Бауэра», получивший свое название по имени немецкого теолога, специалиста по истории раннего христианства Вальтера Бауэра (1877–1960) [Bauer 1934] и давший толчок как многим попыткам его опровержения, так и новым спорам [Hartog 2015 (ed.)]. Их итогом стало новое понимание различия между ортодоксией и ересью. Следует, однако, учитывать, что термин «ересь» в том смысле, в котором он употребляется в христианстве, может использоваться далеко не во всех религиях.
«Ересь» возникает лишь при наличии таких обязательных предпосылок, как притязание некоторого мнения или учения на всеобщность (универсальность) и понимание определенного типа универсализма в качестве единственно возможной или единственно допустимой нормы. Иной подход присущ религиям, называемым политеистическими. Описывая ситуацию схематично, можно утверждать, что в этих религиях ересь в смысле полного отделения от целого принципиально невозможна, поскольку следование ей означало бы разрыв со своим народом, превращение в изгоя, на которого законы сообщества не распространяются.
Более того, сами понятия правильного и неправильного верования в политеистических религиях нечетки и неоднозначны. Чужие боги при этом переосмысляются с помощью представлений о своих богах, сближаются и делаются «аналогичными» (классический пример – соответствия богов греческого и римского пантеонов). В монотеистических религиях уже нельзя обойтись без достаточно четко сформулированных понятий нормы, канона, ортодоксии и, соответственно, отхода от них. При этом в исторической ретроспективе монотеистическая религия на первых этапах своего существования не столько была в единстве с породившей ее культурой, сколько противостояла ей.
Будучи свободной от принципов и ограничений «своей» культуры, став, в сущности, автономной, монотеистическая религия могла беспрепятственно выходить за ее пределы и распространять свое влияние на другие, отличные от нее области. В то же время свиде- тельство об опыте откровения основателя образует ядро устойчивой традиции, допускающей, однако, возможность разного истолкования, что, в свою очередь, создает возможность множества путей отхода от ортодоксии. Сама ортодоксия возникает как результат столкновения и борьбы между собой различных истолкований и закрепления победы сторонников одного из них.
Следует подчеркнуть, что следование тезису Бауэра неизбежно приводит к деконструкции долго принимаемой в теологии и философии религии схемы, согласно которой первичной является ортодоксия, и лишь затем появляется гетеродоксия и, соответственно, ересь. Но тезис Бауэра ставит под вопрос и схему, согласно которой первичными могли бы быть различные виды гетеродоксии, из которых затем формируется ортодоксия. Эта схема также не может быть принята, но уже по формальным соображениям, поскольку сначала можно допустить возникновение различных мнений, но отнюдь не гетеродоксии, которая может быть сочтена таковой лишь при соотнесении с уже возникшей раньше и считающейся очевидной ортодоксией.
Поэтому в становлении понятия ереси особый интерес представляет формирование совокупности различных равноправных мнений, еще не ставших гетеродоксией и сосуществующих друг с другом так, что их взаимного исключения в процессе различения не происходит. Отсутствие возможности выбора представляет собой, напротив, состояние неразличенности и, таким образом, непосредственности, которое традиционно отождествляется с эпохой доминирования мифологии. При этом отсутствие возможности выбора в ту эпоху не требует специальных доказательств, поскольку на самом деле оно хорошо известно и недвусмысленно выражено, в частности, в древнегреческой трагедии как власти судьбы.
Возможность выбора как секуляризация ереси
Главной характеристикой судьбы является ее непреклонность или, иначе, безальтернативность и, таким образом, именно отсутствие возможности выбора. В рассматриваемом кон- тексте важна связь судьбы с традицией, благодаря сохранению которой в традиционных обществах, предшествовавших обществам, предоставляющим возможность выбора, верования и мнения считаются абсолютными и поэтому в высшей степени достоверными. Это обусловлено их статусом в качестве единственно возможных и, таким образом, именно отсутствием альтернатив.
Традиция как хранилище определенных автоматизмов мышления и действия предоставляет готовые решения, и человек в традиционных обществах действует преимущественно спонтанно, не нуждаясь в сложных размышлениях, которые должны предшествовать действию. Однако затем традиция как основа этого типа обществ начинает разрушаться вместе с разрушением мифа, и убежденность в достоверности верований и мнений ослабевает. В итоге они в силу своей множественности и частичного сходства друг с другом начинают рассматриваться как относительные.
В более поздних обществах, предоставляющих возможность выбора множества вариантов, размышление необходимо даже в мелочах, так что решать в этой новой ситуации всегда значит размышлять. Как подчеркивает П.Л. Бергер, даже сама жизнь человека превращается в последовательность выборов, происходящих в течение всей его жизни. В целом эти изменения способствуют убеждению, что человек является своей собственной основой, subiectum , субъектом. Поэтому он вынужден искать ответы на свои многочисленные вопросы не в обществе, в котором он живет, а внутри собственного Я [Berger 1979, 19–20].
В итоге состояния и идеи, прежде считавшиеся неизменными, вечными и в этом смысле безальтернативными и универсальными, вследствие перехода от власти судьбы к гарантированной возможности выбора, начинают пониматься как условные и относительные. В результате, однако, возникает парадоксальная тенденция движения к новой несвободе, под действием которой восстанавливается принудительность, подобная безальтернативности судьбы, которая казалась полностью преодоленной в ходе исторического развития. Как известно, в гегелевской и маркси- стской терминологии эта тенденция описывается как частный, но принципиально важный случай отчуждения, которое, будучи результатом освобождения от традиции, вызывается усложнением структур опосредования.
Конечной точкой освобождения, сопровождающегося отчуждением, является тот тип общества и культуры, который может называться и описываться по-разному, но в рассматриваемом контексте чаще всего обозначается как модерн [Berman 1988; Delanty 2000; Dupré 1993; Frisby 2013]. Неразрывная связь освобождения и возрастающего отчуждения, характерная для эпохи модерна, ставит человека перед новым выбором, который, впрочем, в любом случае представляется ведущим к утопии. Желательным, естественно, было бы освобождение без отчуждения, тогда как отчуждение без предполагавшегося освобождения отождествляется с настоящим временем и подвергается критике. При этом настоящее время в свете такой тенденции всегда считается состоянием упадка и вырождения.
В свою очередь, попытки избавиться от прогрессирующего отчуждения, сохранив возможность освобождения, имеют два варианта. В сущности, имеется единственный общий проект – снятие отчуждения путем воссоздания мира, который, как и раньше, характеризовался бы непосредственностью межчеловеческих отношений, понятным смыслом, порядком, солидарностью и справедливостью. Первая его форма может быть, в свою очередь, названа «реакционной», поскольку она теоретически выражается в идеологиях, которые в поисках смысла обращаются исключительно в прошлое и пытаются восстановить тип общества, предшествовавший началу движения к модерну. Существует и вторая, «прогрессивная» форма этого проекта, которая в своих надеждах на спасение от отчуждения обращена не в прошлое, а в будущее.
Согласно соответствующим идеологиям, в то время как настоящее по-прежнему понимается как бесчеловечное и невыносимое, мир, подлежащий восстановлению, парадоксальным образом проецируется в будущее, где, однако, он еще должен состояться либо благодаря сознательным усилиям людей (первоначальная утопическая традиция), либо как результат исторической закономерности, но при непременном участии человеческой деятельности. В последнем случае речь идет об установках, проявляющихся в различных революционных идеологиях и движениях. Они пытаются избавиться от контрмодернистской ностальгии по ушедшим в прошлое неотчужденным состояниям общества помещением утраченных смыслов и ценностей именно в будущее. Согласно прогнозам, которые считаются научными и объективными, оно должно обязательно прийти [Berger 1979, 24–25].
Монотеизм и метафизика
Современный немецкий египтолог и историк религий Я. Ассманн ввел в оборот термин «Моисеево различение» в качестве обозначения четкого различия между истиной и ложью в религии. Соответственно, понятие ереси имеет смысл только в ситуации, которую можно условно обозначить как или/или , но оно совершенно бессмысленно в ситуации и/и . Во втором случае невозможно никакое исходное самотождественное состояние, от которого можно было бы отойти и противопоставить ему свою позицию настолько четко, что отношение с ним превратилось бы во взаимоисключение.
Таким образом, ересь предполагает возможность контрадикторных противоположностей. Политеизму, в отличие от монотеизма, соответствуют «мягкие», «размытые» различия, предельным случаем которых является некоторое внутренне дифференцированное, но непротиворечивое, бесконфликтное состояние. Это состояние построено именно по принципу и/и и не может эволюционировать таким образом, чтобы превратиться в динамичную, внутренне противоречивую и поэтому внутренне напряженную бинарную структуру.
Указанные особенности свидетельствуют о наличии в концепции ереси философского аспекта, связанного со способом понимания различия или, иначе, с его теоретическим оформлением. Это представляется парадоксальным, но уже на ранних этапах развития древнегреческой философии имело место понимание противоположности не в качестве спокойного сосуществования, а в качестве взаимного исключения. Появляется четкое и резкое взаимоисключающее противостояние того, что стало называться знанием, тому, что прежде называлось мифом и мудростью [Assmann 1997, 1–8; Assmann 2010, 8–30]. Именно это событие связывается с эпохой, которая с помощью термина, предложенного К. Ясперсом, называется «осевым временем» [Ясперс 1991, 27–286].
В соответствии с концепцией «осевого времени» считается, что первоначально всем религиям было присуще одинаковое понимание истинности. Более того, логика «осевого времени» допускает, что до его наступления возможны некоторые отношения переводимо-сти между чужими и своими богами. После появления «Моисеева различения» «вместо того, что можно было бы назвать “герменевтикой переводимости” появляется “герменевтика различия”, которая удостоверяется в том, что является ее “своим”, дистанцируясь от Другого, действуя при этом в согласии с принципом: “Omnis determination est negation”» [Assmann 2010, 23]. Понимание определения как отрицания означает, что тождество есть тождество лишь потому, что оно не есть то, что ему противоположно [Schwartz 1997, X; Schneider 2008].
Иначе говоря, важен не только монотеизм сам по себе как понимание Бога в качестве единственного, но и способ, которым единственный Бог относится к другим богам. Согласно «Моисееву различению» – это исключение всех других богов, и, точно так же, взаимоисключающие отношения между истиной и ложью. Поэтому, «утверждение, что есть лишь один Бог, может быть вполне совместимым с признанием других богов и даже поклонением им при условии, что отношения между богом и другими богами понимается как субординация, а не как исключение. Решающее значение имеет исключение, а не единственность» [Assmann 2010, 34].
Соответственно, в связи с «Моисеевым различением» следует говорить об эксклюзивности монотеизма (во всяком случае, на ранних этапах его истории), и именно эксклюзивность делает такого Бога ревнивым. Но эксклюзивность – это характеристика типа различия, которое в ходе исторического развития перестает быть различием в его прежнем виде и становится контрадикторной про- тивоположностью. Эксклюзивный характер введенного Моисеем типа различия наиболее выразительно проявляется в последовательной борьбе монотеизма против идолопоклонства, которое оказывается попыткой обожествления того, что не может и не должно быть отнесено к области божественного.
Иными словами, идолопоклонство осуждается и запрещается именно потому, что оно, очевидно, не следует эксклюзивности «Моисеева различения», допуская существование рядом с Богом других богов, которым приписывается хотя бы минимальная степень самостоятельности и даже самодостаточность. При этом борьба против идолопоклонства в общем смысле способна переходить в борьбу против репрезентации во всех ее формах. Поэтому, поскольку взаимоотношение означаемого и означающего в соответствии с «Моисеевым различением» должно быть эксклюзивным, чтобы избежать превращения репрезентаций живого Бога в самостоятельных богов, живой Бог не может быть изображен на иконе либо как-то еще.
Точно так же он не может быть представлен никаким, даже самым могущественным земным правителем. Таким образом, отношение означаемого и означающего должно быть таким, чтобы они исключали друг друга. Поэтому требованием эксклюзивного монотеизма является строгий запрет любой репрезентации, что наиболее выразительно проявилось в иконоборчестве в его узком смысле, известном в его разнообразных исторических формах. Иконоборчество в предельно широком смысле предполагает запрет репрезентации в самых разных областях, в том числе и за пределами религии.
Это позволяет ожидать, что тенденция отказа от репрезентации в теологии эксклюзивного монотеизма должна иметь характерную параллель и в историческом развитии метафизики, формировавшейся приблизительно в то же время в древнегреческой философии. Показательно, что в исторической ретроспективе понимание различия в эксклюзивном монотеизме как четкого и резкого действительно имеет очевидную параллель в древнегреческой философии. В общем смысле такое понимание связано в философии с определенной теоретической моделью взаи- моотношений многого и единого или, точнее, выражения многого в качестве единого.
В «осевое время» происходят радикальные изменения в понимании тождества и различия, и эксклюзивность «Моисеева различения» впервые выражается в философии в качестве теоретической модели (см. об этой проблеме, в частности, в: [Lloyd 1966]). Насколько можно судить, впервые это происходит у Парменида, четко разграничившего бытие и небытие. Это разграничение подчинено закону (не)противоречия, взаимного исключения так, как того требует логический закон исключенного третьего, и оно является уже не «размытым», а представляет собой контрадикторную противоположность.
От различия к противоречию
В эксклюзивном монотеизме запрету подвергается сама репрезентация (означающее), но то, что репрезентируется, сохраняется. В метафизике такой запрет также присутствует, однако он осуществляется по-другому – путем отказа от категории сущности в качестве первообраза того, что репрезентируется, тогда как сама возможность репрезентации, как кажется, сохраняется. Однако, как и в случае эксклюзивного монотеизма, на самом деле это делает репрезентацию в целом теоретически невозможной. Кроме того, устранение категории сущности (антиэссенциализм) означает отказ от того, что можно назвать принципом атомизма в широком смысле.
Это отказ, прежде всего, от понятия индивидуальных объектов, обладающих материальной или идеальной сущностью, и от понятия человека как изолированного объекта, индивида, а человеческой личности – как обладателя вечной, неделимой, как атом, души в качестве его сущности. Это также отказ от представления о сущностной природе гендерных признаков человека, равно как и убеждения, что смысл каждого слова человеческого языка есть его неотъемлемая, устойчивая сущность. При этом нельзя не заметить, что отказ от категории сущности представляет собой одновременно расширение границ возможности выбора, поскольку означающему, утратившему связь с означаемым (в силу его предполагаемого отсутствия) можно в процессе свободного выбора произвольно присвоить любой смысл.
Выбор становится не только допустимым, но и обязательным в тех областях, в которых прежде отсутствие его необходимости считалось нормой и обеспечивалось именно наличием у каждого явления неотъемлемой и устойчивой сущности, которая задает его смысл. В то же время наличие у явления в качестве означающего такой сущности представляет собой результат как бы сделанного за человека выбора и поэтому – отсутствие какой-либо альтернативы. Однако если следовать традиционному пониманию и рассматривать различие как неразвитую, неполную форму противоречия, то в «осевое время» различие еще не могло стать противоречием. Это невозможно, потому что связь между означаемым и означающим еще достаточно прочна, и означающее не может считаться совершенно свободным и не обладающим никаким устойчивым смыслом.
Обосновать эту констатацию на каждом конкретном этапе развития структуры репрезентации довольно сложно, но следует обратить внимание на однотипность структуры различия в менталитете, в котором сохранились структурные особенности исторически первых форм мышления. Однотипность способа понимания различия буквально бросается в глаза и достаточно подробно описана разными авторами, указывающими на очевидный приоритет различия перед противоречием в этих культурах. Исследователи обратили внимание, прежде всего, на характерную нечувствительность этих культур к противоречиям.
При этом представления, которыми оперирует такое мышление, «… скорее чувствуются или переживаются, чем обдумываются. Ни содержание их, ни связи не подвержены неукоснительно закону противоречия. Следовательно, ни я как индивид, ни социальная группа, ни окружающий мир, видимый и невидимый, в этих коллективных представлениях не являются еще “определенными”, какими они могут показаться, когда наш концептуальный менталитет попытается постичь их. Несмотря на самые тщательные предосторожности, он не может не уподоблять их обычным для себя “предме- там”» [Леви-Брюль 2002, 366]. В таком мышлении мир представляется отнюдь не совокупностью огромного количества дискретных объектов (в пределе – атомов, отделенных друг от друга пустотой, из которых, как считается, все состоит).
Мир представляется, скорее, совокупностью непрерывных стихий, которые в некоторых случаях могут проникать друг в друга, но не сочетаться, как это предполагается относительно атомов. Поэтому эмоциональное и образное мышление не выделяет однозначно вещь из окружающей ее среды. Границы вещей считаются «размытыми», неустойчивыми, и допускается, что одна вещь может превращаться в другую, подобно тому, как это, насколько известно, имело место на этапе мифологического сознания. Более того, приоритет различия перед противоречием обнаруживается не только в том, что современной науке известно о типологических чертах мышления древних цивилизаций.
Этот приоритет может быть обнаружен и прослежен, прежде всего, в том, как в философии ряда современных культур понимаются сами тождество и различие (см., в частности, об особенностях этого понимания в арабо-мусульманской культуре: [Смирнов 2010a II, 18–19; Смирнов 2010б III, 337]). Не менее показательны способы понимания непрерывности, прерывности, противоречия, изменения, цикличности, абстрактного, конкретного в различных современных культурах (см. об этом, в частности: [Dorter 2018; Nisbett 2003; Spencer-Rodgers 2018]). В результате в условиях приоритета различия перед противоречием истина в ряде культур, в отличие от традиционного западного подхода не связывается однозначно с какой-то одной стороной противоположности.
Противоположности не исключают друг друга, а сосуществуют друг с другом и дополняют друг друга, делая представление о ереси невозможным. В этой связи заслуживает особого внимания трактовка ереси П.А. Флоренским, который сосредоточивает внимание на представлениях о различии и противоречии. Он включает их в анализ чрезвычайно важной для него концепции антиномии, требующей именно взаимоисключения противостоящих сторон.
Флоренский считает, что пафосом терминизма является «метафизический и гносеологический эгоизм»: «Реальность безусловно уединенна, безусловно вне всего того, что – не она. Реальность есть она – и только она. У реальности нет, так сказать, пуповины ; которая бы связывала ее с плодоносным лоном бытия целокупного. У нее нет корня, коим приникает она в миры иные. Она, наконец, во времени не связана и сама с собою, в своем бы-вании не являет некоторого целостного и связного бытия» [Флоренский 2000 III, 83–84].
Но такая позиция и есть, по Флоренскому, «… ересь, в первоначальном и точном смысле слова» [Флоренский 2000 III, 84]. Поэтому он считает, что в слове «ересь» «…со-держится идея односторонности, прямолинейного сосредоточения ума и воли на одном из многих возможных утверждений» [Флоренский 2000 III, 84]. В то же время он подчеркивает, что понимание ереси как «горделивого обособления» отнюдь не является изначальным [Флоренский 1914, 691], ради чего и проделывает краткий анализ исторически первых форм менталитета. Тем самым анализ ереси выходит за пределы религии в качестве предмета исследования и становится также характеристикой философских оснований культуры.
Заключение
Именно с эксклюзивным характером монотеизма и метафизики связано их одновременное упоминание в качестве отличи- тельных признаков «осевого времени», обозначившего переход человечества от мифа к логосу и, тем самым, от безраздельной власти судьбы к такой культуре, в которой эта власть ослабевает и замещается возможностью свободного выбора. Результаты такого развития позволяют использовать понятия ортодоксии и ереси в исследованиях не только религии, но также социологии и политологии. Как правило, такие исследования сосредоточиваются вокруг общей проблемы Другого, изменения отношения к которому почти в точности воспроизводят изменения отношения ортодоксии к ереси.
Существенно, что после достижения крайней степени резкости различия в ходе исторического развития и, таким образом, появления резкой противоположности, делающей возможным само понятие ереси в строгом смысле, ситуация выглядит так, будто она парадоксальным образом возвратилась в исходное состояние. При этом четкая граница между ортодоксией и ересью или, в сущности, между истиной и ложью, проведенная в соответствии с принципами метафизики в качестве структуры репрезентации, если и не исчезает, то становится как бы проницаемой. Следует признать, что отсутствие непроницаемых границ между ортодоксией и ересью, истиной и ложью является общей чертой постмодернистской философии, выступающей, прежде всего, против традиционной метафизики, в силу ее особенностей иначе называемой «логоцентризмом».
Результаты следования принципам, на которые опирается постмодернистская критика метафизики, наиболее выразительно проявляются именно в концепции различия. При этом критика неожиданно обнаруживает черты, свойственные, скорее, не культуре модерна, а истории традиционных обществ, процесс модернизации которых еще не завершился. При этом объективно доминирующим считается тот тип различия, который в условиях позднего модерна позволяет понимать ересь в качестве «свободного выбора», совершено равноценного ортодоксии. Очевидно, однако, что исчезновение ереси в качестве четко очерченного понятия означает исчезновение и ортодоксии в качестве ее полной противоположности.
Список литературы Понятие ереси и теоретические модели различия
- Леви-Брюль 2002 – Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет. СПб.: Европ. дом, 2002.
- Смирнов 2010a – Смирнов А.В. Единство в арабомусульманской философии // Новая философская энциклопедия. В 4 т. М.: Мысль, 2010.
- Смирнов 2010б – Смирнов А.В. Противоположность в арабо-мусульманской философии // Новая философская энциклопедия. В 4 т. М.: Мысль, 2010.
- Флоренский 1914 – Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М.: Путь, 1914.
- Флоренский 2000 – Флоренский П.А. Смысл идеализма // Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 2000. C. 68–144.
- Ясперс 1991 – Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991.
- Assmann 1997 – Assmann J. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cambridge, MA: L.: Harvard University Press, 1997.
- Assmann 2010 – Assmann J. The Price of Monotheism. Stanford, CA: Stanford University Press, 2010.
- Bauer 1934 – Bauer W. Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum. Tübingen: Mohr, 1934.
- Berger 1979 – Berger P.L. The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation. N.Y.: Anchor Press: Doubleday Garden City, 1979.
- Berman 1988 – Berman M. All Tat is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. N. Y.: Penguin Books, 1988.
- Brooke 2005 – Brooke J. Heterodoxy in Early Modern Science and Religion. Oxford, UK; N. Y.: Oxford University Press, 2005.
- Delanty 2000 – Delanty G. Modernity and Postmodernity: Knowledge, Power and the Self. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2000.
- Dorter 2018 – Dorter R. Can Different Cultures Think the Same Thoughts: A Comparative Study in Metaphysics and Ethics. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2018.
- Dupré 1993 – Dupré L.K. Passage to Modernity: An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture. New Haven, CT; London: Yale University Press, 1993.
- Frisby 2013 – Frisby D. Fragments of Modernity: Theories of Modernity in the Work of Simmel, Kracauer and Benjamin. N. Y.: Routledge, 2013.
- Hartog (ed.) 2015 – Hartog P.A. (ed.). Orthodoxy and Heresy in Early Christian Contexts: Reconsidering the Bauer Thesis. Cambridge, UK: James Clarke & Co, 2015.
- Henderson 1998 – Henderson J.B. The Construction of Orthodoxy and Heresy: Neo-Confucian, Islamic, Jewish, and Early Christian Patterns. Albany, N. Y.: State University of New York Press, 1998.
- Laursen (ed.) 2002 – Laursen J.C. (ed.). History of Heresy in Early Modern Europe: For, Against and Beyond Persecution and Toleration. N. Y.; Houndmills, UK: Palgrave, 2002.
- Lloyd 1966 – Lloyd G.E.R. Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek Thought. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1966.
- Nisbett 2003 – Nisbett R.E. The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently and… Why. N. Y., [etc.]: The Free Press, 2003.
- Schneider 2008 – Schneider L.C. Beyond Monotheism: A Theology of Multiplicity, L.; N. Y.: Routledge, 2008.
- Schwartz 1997 – Schwartz R.M. The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism. Chicago: The University of Chicago Press, 1997.
- Spencer-Rodgers 2018 – Spencer-Rodgers J. The Psychological and Cultural Foundations of East Asian Cognition: Contradiction, Change, and Holism. Oxford, UK: Oxford University Press, 2018.