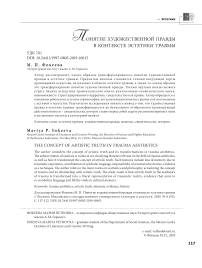Понятие художественной правды в контексте эстетики травмы
Автор: Фокеева Мария Петровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика
Статья в выпуске: 6 (92), 2019 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает, каким образом трансформировалось понятие художественной правды в эстетике травмы. Предметом анализа становятся типологизирующие черты произведений искусства, актуальных в области эстетики травмы, а также то, каким образом это трансформировало понятие художественной правды. Такими чертами можно назвать утрату памяти вследствие травматического опыта, аннигиляцию символического языка, невозможность структурированного нарратива, свидетельство как приём. Автор обращается к основным работам по эстетике и философии, актуализующим понятие травмы и её соотношение с истиной в искусстве. Результатом исследования является вывод о том, что художественная правда в эстетике травмы трансформируется до буквального отображения травмирующей действительности - свидетельства, которое ставит перед собой задачу ресимволизировать язык и восполнить пустоты в культурной памяти.
Эстетика травмы, художественная правда, мимесис, свидетельство, история
Короткий адрес: https://sciup.org/144161326
IDR: 144161326 | УДК: 7.01 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10615
Текст научной статьи Понятие художественной правды в контексте эстетики травмы
ФОКЕЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА – аспирантка кафедры общественных наук Литературного института имени А. М. Горького
FOKEEVA MARIYA PETROVNA – graduate student of the Department of Social Sciences, the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing
Понятие художественной правды или истины в искусстве предельно обобщённо можно трактовать как отображение действительности в произведении искусства. В классической эстетике понятие художественной правды тесно связано с понятием мимесиса. Так, согласно А. Ф. Лосеву и В. П. Шестакову, «подражание от- носится к тем эстетическим категориям, посредством которых эстетика прошлого пыталась выяснить сущность искусства» [7, с. 204]. Вполне естественным продолжением этого утверждения является то, что на разных исторических этапах развития искусства понятие мимесиса имело свои специфические значения, которые различным образом воплощались в конкретных произведениях.
В действительности можно отметить, что дискуссия о мимесисе Платона и Аристотеля в самых разнообразных прочтениях продолжалась вплоть до XIX века, когда новые теории искусства проблематизиро-вали вопрос, какую именно правду или истину возможно приписать искусству. В общих чертах понятие художественной правды оказывалось связанным с воображением и выражением того, что выходит за рамки обыденного восприятия.
В ХХ веке, вследствие лингвистического поворота в философии, начинают преобладать проблемы обозначения связей между репрезентативным искусством и реальностью, экспрессивным искусством и личностью. Как пишет Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате», «тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы моего мира» [4, с. 81].
Т. Адорно утверждает, что способность бросать вызов обыденному языку даёт искусству уникальную способность нести ис- тину: «Искусство, воспроизводя обаяние реальности, сублимируя его в виде образа, в то же время тенденциозно освобождается от него; сублимация и свобода находят взаимопонимание» [1, с. 191].
В то же время содержание художественно правдивого произведения искусства не является метафизической идеей или сущностью, поскольку оно неразрывно связано с реальностью: конкретными историческими этапами, общественными и политическими формациями. В конечном счёте мы не можем трактовать истину в искусстве как просто набор приёмов, в противном случае мы столкнёмся с неразличением художественного текста и работой СМИ. Истина в искусстве возникает из интенции художника в его взаимодействии с миром. Это выражение самых неразрешимых противоречий в пределах возможного примирения посредством работы искусства. Таким образом, нельзя утверждать, что художественная правда является пропозицией, поскольку она постоянно требует критической рефлексии и интерпретации.
Общим важным местом является вопрос о критериях истинности. Если у Адорно контекст художественного содержания истины связан с разрушением реальности, то у М. Хайдеггера общее представление об истине в искусстве сформулировано как «разомкнутость». Понимание, согласно Хайдеггеру, есть артикулированная разом-кнутость [11]. Таким образом, вопрос о художественной правде или истине в искусстве находится не в соответствии с действительностью, а в герменевтической открытости интерпретатора перед бытием. Для нас крайне важным выводом является то, художественная правда, помимо эстетического, имеет также социальное, историческое и политическое измерения.
***
Эстетика травмы, возможно, более других дисциплин оказывается вовлечена в дискуссию о возможностях выразительных средств искусства в репрезентации реальности. В этом отношении одна из важнейших тем эстетики ХХ века полностью обращена к историческому процессу, поскольку ХХ век, по замечанию Ш. Фелман, можно назвать посттравматическим [12]. Именно история ХХ века позволяет сконцентрироваться на историзме художественных потребностей, позволяя с другой точки зрения рассмотреть понятие художественной правды.
Проблема отображения действительности очень остро возникает в контексте переосмысления истории ХХ века, поскольку речь идёт о репрезентации травматического опыта, что, согласно утверждению философа и культуролога Е. В. Петровской, является главной задачей аналитики травмы, которая «представляет собой один из междисциплинарных способов номинализации, говорения о заведомо болезненных и зачастую закрытых от прозрачной манифестации и артикуляции событий» [8, с. 98].
В данном ключе нас интересуют способы репрезентации травматического опыта в искусстве, поскольку это позволяет изучать вопрос истины в искусстве, не находясь в контексте классической эстетики. Как пишет социолог Е. Ю. Рождественская, «не правда ли, рассказывая или выдумывая некую историю, мы ориентируемся “на другого?”» [9, с. 108].
К диалогической направленности текстов, которые находятся в поле эстетики травмы, следует отнести направленность художника к другому, то есть реципиенту. Художник создаёт пространство, в котором возможен этот диалог, восполняющий символическую недостаточность, создаю- щий возможность заимствования и в конечном счёте артикуляции травматического опыта для реципиента. Таким образом, опыт восприятия произведения искусства с присвоением дискурса травмы оказывается диалогическим.
Эту ориентацию «на другого» с целью репрезентации травматического опыта в художественном тексте следует трактовать как понимание художественной правды в эстетике травмы. Тем не менее Ш. Фелман и Д. Лауб указывают, что существует степень неясности между повествованием и историей, между искусством и памятью, между речью и выживанием в том плане, что документирование истории травмы оказывается крайне сложным из-за восприимчивости истории к памяти [12].
Можно говорить, что репрезентация травматического заведомо определяет форму повествования как диалогическую, поскольку внутренний опыт может быть выражен только в обращении к другому, вне зависимости от того, кем этот другой будет являться. Далее следует подчеркнуть, что это выражение травматического опыта сопряжено с припоминанием, преодолением амнезии, которой он часто сопровождается. Помимо потери памяти, травматический опыт также связан с утратой способности к ясному изложению, с аннигиляцией символического в языке.
Таким образом, мы можем говорить о том, что понятие художественной правды в искусстве в контексте эстетики травмы связано буквально с отображением травмирующей реальности, которое в значительной степени затруднено как раз в результате её травмирующего характера. Не следует забывать также и то, что часто попытки реконструкции терпят поражение по причине того, что жертвы и свидетели насилия бесконечно пытаются прийти к соглашению с насилием: агрессоры и жертвы постоянно меняют свой статус.
Как пишет философ Р. Рорти, «если высказаться по-хайдеггеровски: “язык говорит человеком”, языки изменяются в ходе истории, и поэтому люди не могут избежать их историчности» [10, с. 79].
Эстетика травмы как раз выявляет тенденции в отношении сцепления между прошлым, историей и настоящим, которые ре-презентованы в произведении искусства. Таким образом, истинность в искусстве напрямую соотносится с культурной ответственностью, выраженной в интенции по восполнению пустот в исторической памяти, возникших вследствие исторической травмы.
Х. Келлнер в интервью Э. Доманской говорит: «То, что мы имеем, есть рассказы, истинные для данного пространства и времени» [5, с. 121]. Это является точнейшей формулировкой того, что можно понимать как художественную правду в контексте эстетики травмы.
По словам Ш. Фелман, основной дискурсивной моделью, присущей посттравматическому XX веку, является свидетельство [12]. Ж. Амери в предисловии к своей работе «По ту сторону преступления и наказания» очень внятно пишет об этом: «Я не пытался выстраивать объяснения ни тогда, тридцать лет назад, ни сегодня – я способен только свидетельствовать. Что меня занимает и о чём я вправе говорить – это жертвы рейха ... Я хотел лишь описать морально-психическое состояние, а оно неизменно» [2, с. 10].
Так, фигура свидетеля – новая фигура текста, которая в некотором роде становится на место автора и/или рассказчика, и появление этой новой фигуры имеет решающее значение в контексте художественной правды. Реальный свидетель в обстоятель- ствах репрезентации своего свидетельства становится автором, и это авторство также сопровождается большой ответственностью, возникающей в связи с необходимостью утверждения подлинности его речи или письма. С точки зрения стратегий свидетельствования по понятным причинам наибольший интерес у нас вызывают письменные свидетельства, являющие собой, согласно С. Зонтаг, особое дискурсивное пространство, легитимное для определённой, понимающей аудитории [6, с. 18].
Свидетель является носителем памяти, своего рода проводником памяти, пережившим травматический опыт, но способным артикулировать его.
В отношении художественного текста в первую очередь важна эта фиксация памяти или же следа памяти, то есть художественная правда здесь будет приравниваться к сохранению работы памяти о травматическом опыте. В этом отношении фигура свидетеля не нуждается в доказательствах своей подлинности. Так, работа в дискурсе травмы a priori не подразумевает работы с документами. Скорее, речь идёт о сохранении риторических фигур, присущих репрезентации травмы и посттравматических состояний, за счёт которых осуществляется идентификация. Таким образом, фигура свидетеля – это риторическая фигура, гарантирующая истинность в произведении искусства.
***
Подводя итоги, следует выделить следующее: центральным компонентом является разговор о травматическом опыте, который в свете истории ХХ века уже имеет не произвольный характер, но становится социальной необходимостью. Эстетика травмы проблематизирует этот разговор в контексте искусства, которое ставит перед
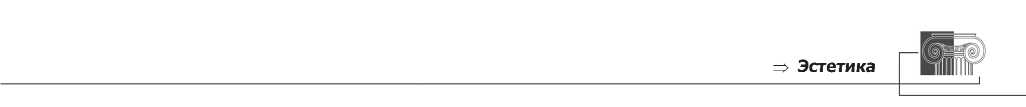
собой задачу репрезентовать травматический опыт художественными средствами. Травматический опыт прошлого не может остаться в прошлом, не может быть помещён в архив, он имеет процессуальный характер. Нас интересует не травма, полученная вследствие частного стечения обстоятельств, но травма, полученная вследствие травматических событий истории, и мы можем утверждать её всеобъемлющее присутствие в рамках европейской культуры в ХХ веке.
Художественную правду или истину в искусстве в понимании эстетики травмы следует трактовать не как подражание (миметическое в платонической или аристотелевской традиции), но как буквальное отображение действительности, которое задействует определяющие приёмы ре- ального свидетельства, но в пространстве искусства. Ради этого мы и выделили фигуру свидетеля как собственно риторическую фигуру, являющуюся своего рода гарантом истинности.
Художественно правдивым является то произведение, которое стремится восполнить символическую недостаточность языка травмы. С одной стороны, перед таким произведением стоит задача ресимволизации, с другой – восполнение утраченной памяти о травматическом опыте истории и через это восполнение, через изображение ужасного дать возможность реципиенту пережить терапевтическое воздействие, обрести утраченный вследствие травмы язык. Или же, если обратиться к В. Беньямину, художественно правдивое произведение даёт голос «традиции угнетённых» [3].
Список литературы Понятие художественной правды в контексте эстетики травмы
- Адорно Т. Эстетическая теория = Ästhetische Theorie / [пер. с нем. А. В. Дранова]. Москва : Республика, 2001. 526 с.
- Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания. Москва : Новое издательство, 2015. 190 с.
- Беньямин В. О понятии истории // Учение о подобии : медиаэстетические произведения / [пер. с нем. И. Болдырева и др.] ; Российский государственный гуманитарный университет. Москва : РГГУ, 2012. С. 237-253.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с нем. и сверено с авториз. англ. Переводом И. Добронравовым, Д. Лахути ; общая ред. и предисл. д-ра философ. наук, проф. В. Ф. Асмуса. Москва : Изд-во иностранной литературы, 1958. 133 с. : черт.
- Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. Москва : Канон + РООИ «Реабилитация», 2010. 400 с.
- Зонтаг С. Смотрим на чужие страдания. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. 96 с.
- Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. Москва : Искусство, 1965. 376 с.
- Петровская Е. В. Безымянные сообщества. Москва : Фаланстер, 2012. 384 с.
- Рождественская Е. Ю. Словами и телом: травма, нарратив, биография // Травма: пункты : [сборник статей] / [сост.: С. Ушакин, Е. Трубина] ; под ред. Сергея Ушакина и Елены Трубиной. Москва : Новое литературное обозрение, 2009.
- Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / [пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хестанова]. Москва : Русское феноменологическое общество, 1996. 279 с. : ил. (Пирамида. Библиотека журнала «Логос»; 17).
- Хайдеггер М. Бытие и время / [пер. с нем. В. В. Бибихина]. Харьков : Фолио, 2003. 510 с.
- Felman Sh., Laub D. (1992) Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. New York: Taylor & Francis. 312 p. (In English)